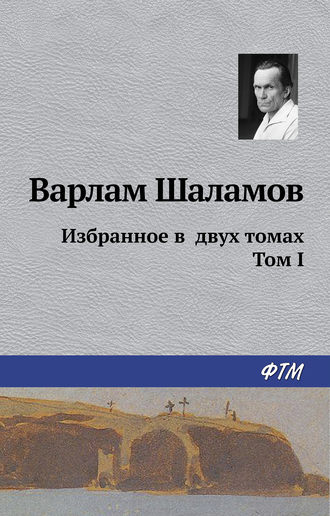
Варлам Шаламов
Избранное в двух томах. Том I
Васька Денисов, похититель свиней
Для вечерней поездки пришлось одолжить бушлат у товарища. Васькин бушлат был слишком грязен и рван, в нем нельзя было пройти по поселку и двух шагов – сразу бы сцапал любой вольняшка.
По поселку таких, как Васька, водят только с конвоем, в рядах. Ни военные, ни штатские вольные жители не любят, чтобы по улицам поселка ходили подобные Ваське в одиночку. Они не вызывают подозрения только тогда, когда несут дрова: небольшое бревнышко или, как здесь говорят, «палку дров» на плече.
Такая палка была зарыта в снегу недалеко от гаража – шестой телеграфный столб от поворота, в кювете. Это было сделано еще вчера после работы.
Сейчас знакомый шофер придержал машину, и Денисов перегнулся через борт и сполз на землю. Он сразу нашел место, где закопал бревно, – синеватый снег здесь был чуть потемнее, был примят, это было видно в начинавшихся сумерках. Васька спрыгнул в кювет и расшвырял снег ногами. Показалось бревно, серое, крутобокое, как большая замороженная рыба. Васька вытащил бревно на дорогу, поставил его стоймя, постучал, чтобы сбить с бревна снег, и согнулся, подставляя плечо и приподнимая бревно руками. Бревно качнулось и легло на плечо. Васька зашагал в поселок, время от времени меняя плечо. Он был слаб и истощен, поэтому быстро согрелся, но тепло держалось недолго – как ни ощутителен был вес бревна, Васька не согревался. Сумерки сгустились белой мглой, поселок зажег все желтые электрические огни. Васька усмехнулся, довольный своим расчетом: в белом тумане он легко доберется до цели своей незамеченным. Вот сломанная огромная лиственница, серебряный в инее пень, значит – в следующий дом.
Васька бросил бревно у крыльца, обил рукавицами снег с валенок и постучался в квартиру. Дверь приоткрылась и пропустила Ваську. Пожилая простоволосая женщина в расстегнутом нагольном полушубке вопросительно и испуганно смотрела на Ваську.
– Дровишек вам принес, – сказал Васька, с трудом раздвигая замерзшую кожу лица в складки улыбки. – Мне бы Ивана Петровича.
Но Иван Петрович сам уже выходил, приподнимая рукой занавеску.
– Это добре, – сказал он. – Где они?
– На дворе, – сказал Васька.
– Так ты подожди, мы попилим, сейчас я оденусь.
Иван Петрович долго искал рукавицы. Они вышли на крыльцо и без козел, прижимая бревно ногами, приподнимая его, распилили. Пила была неточеная, с плохим разводом.
– После зайдешь, – сказал Иван Петрович. – Направишь. А теперь вот колун… И потом сложишь, только не в коридоре, а прямо в квартиру тащи.
Голова у Васьки кружилась от голода, но он переколол все дрова и перетащил в квартиру.
– Ну, все, – сказала женщина, вылезая из-под занавески. – Все.
Но Васька не уходил и топтался у двери. Иван Петрович появился снова.
– Слушай, – сказал он, – хлеба у меня сейчас нет, суп тоже весь поросятам отнесли, нечего мне тебе сейчас дать. Зайдешь на той неделе…
Васька молчал и не уходил.
Иван Петрович порылся в бумажнике.
– Вот тебе три рубля. Только для тебя за такие дрова, а табачку – сам понимаешь! – табачок ныне дорог.
Васька спрятал мятую бумажку за пазуху и вышел. За три рубля он не купил бы и щепотку махорки.
Он все еще стоял на крыльце. Его тошнило от голода. Поросята съели Васькин хлеб и суп. Васька вынул зеленую бумажку, разорвал ее намелко. Клочки бумаги, подхваченные ветром, долго катились по отполированному, блестящему насту. И когда последние обрывки скрылись в белом тумане, Васька сошел с крыльца. Чуть покачиваясь от слабости, он шел, но не домой, а в глубь поселка, все шел и шел – к одноэтажным, двухэтажным, трехэтажным деревянным дворцам…
Он вошел на первое же крыльцо и дернул ручку двери. Дверь скрипнула и тяжело отошла. Васька вошел в темный коридор, слабо освещенный тусклой электрической лампочкой. Он шел мимо квартирных дверей. В конце коридора был чулан, и Васька, навалившись на дверь, открыл ее и переступил через порог. В чулане стояли мешки с луком, может быть, с солью. Васька разорвал один из мешков – крупа. В досаде он, снова разгорячась, налег плечом и отвалил мешок в сторону – под мешками лежали мерзлые свиные туши. Васька закричал от злости – не хватило силы оторвать от туши хоть кусок. Но дальше под мешками лежали мороженые поросята, и Васька уже больше ничего не видел. Он оторвал примерзшего поросенка и, держа его в руках, как куклу, как ребенка, пошел к выходу. Но уже из комнат выходили люди, белый пар наполнял коридор. Кто-то крикнул: «Стой!» – и кинулся в ноги Ваське. Васька подпрыгнул, крепко держа поросенка в руках, и выбежал на улицу. За ним помчались обитатели дома. Кто-то стрелял вслед, кто-то ревел по-звериному, но Васька мчался, ничего не видя. И через несколько минут он увидел, что ноги сами его несут в единственный казенный дом, который он знал в поселке, – в управление витаминных командировок, на одной из которых и работал Васька сборщиком стланика.
Погоня была близка. Васька взбежал на крыльцо, оттолкнул дежурного и помчался по коридору. Толпа преследователей грохотала сзади. Васька кинулся в кабинет заведующего культурной работой и выскочил в другую дверь – в красный уголок. Дальше бежать было некуда. Васька сейчас только увидел, что потерял шапку. Мерзлый поросенок все еще был в его руках. Васька положил поросенка на пол, своротил массивные скамейки и заложил ими дверь. Кафедру-трибуну он подтащил туда же. Кто-то потряс дверь, и наступила тишина.
Тогда Васька сел на пол, взял в обе руки поросенка, сырого, мороженого поросенка, и грыз, грыз…
Когда вызван был отряд стрелков, и двери были открыты, и баррикада разобрана, Васька успел съесть половину поросенка…
1958
Серафим
Письмо лежало на черном закопченном столе как льдинка. Дверцы железной печки-бочки были раскрыты, каменный уголь рдел, как брусничное варенье в консервной банке, и льдинка должна была растаять, истончиться, исчезнуть. Но льдинка не таяла, и Серафим испугался, поняв, что льдинка – письмо, и письмо именно ему, Серафиму. Серафим боялся писем, особенно бесплатных, с казенными штампами. Он вырос в деревне, где до сих пор полученная или отправленная, «отбитая», телеграмма говорит о событии трагическом: похоронах, смерти, тяжелой болезни…
Письмо лежало вниз лицом, адресной стороной, на Серафимовом столе; разматывая шарф и расстегивая задубевшую от мороза овчинную шубу, Серафим глядел на конверт, не отрывая глаз.
Вот он уехал за двенадцать тысяч верст, за высокие горы, за синие моря, желая все забыть и все простить, а прошлое не хочет оставить его в покое. Из-за гор пришло письмо, письмо с того, не забытого еще света. Письмо везли на поезде, на самолете, на пароходе, на автомобиле, на оленях до того поселка, где спрятался Серафим.
И вот письмо здесь, в маленькой химической лаборатории, где Серафим работает лаборантом.
Бревенчатые стены, потолок, шкафы лаборатории почернели не от времени, а от круглосуточной топки печей, и внутренность домика кажется какой-то древней избой. Квадратные окна лаборатории похожи на слюдяные окошки петровских времен. На шахте берегут стекло и переплеты окон делают в мелкую решетку: чтоб пошел в дело каждый обломок стекла, а при надобности и битая бутылка. Желтая электролампа под колпаком свешивалась с деревянной балки, как самоубийца. Свет ее то тускнел, то разгорался – вместо движков на электростанции работали тракторы.
Серафим разделся и сел к печке, все еще не трогая конверта. Он был один в лаборатории.
Год назад, когда случилось то, что называют «семейной размолвкой», он не хотел уступать. Он уехал на Дальний Север не потому, что был романтиком или человеком долга. Длинный рубль тоже его не интересовал. Но Серафим считал, в соответствии с суждениями тысячи философов и десятка знакомых обывателей, что разлука уносит любовь, что версты и годы справятся с любым горем.
Год прошел, и в сердце Серафима все оставалось по-прежнему, и он втайне дивился прочности своего чувства. Не потому ли, что он не говорил больше с женщинами. Их просто не было. Были жены высоких начальников – общественного класса, необычайно далекого от лаборанта Серафима. Каждая раскормленная дама считала себя красавицей, и такие дамы жили в поселках, где было больше развлечений и ценители их прелестей были побогаче. Притом в поселках было много военных: даме не грозило и внезапное групповое изнасилование шоферней или блатарями-заключенными – такое то и дело случалось в дороге или на маленьких участках.
Поэтому геологоразведчики, лагерные начальники держали своих жен в крупных поселках, местах, где маникюрши создавали себе целые состояния.
Но была и другая сторона дела – «телесная тоска» оказалась вовсе не такой страшной штукой, как думал Серафим в молодости. Просто надо было меньше об этом думать.
На шахте работали заключенные, и Серафим много раз летом смотрел с крыльца на серые ряды арестантов, вползающих в главную штольню и выползающих из нее после смены.
В лаборатории работали два инженера из заключенных, их приводил и уводил конвой, и Серафим боялся с ними заговорить. Они спрашивали только деловое – результат анализа или пробы, – он им отвечал, отводя глаза в сторону. Серафима напугали на этот счет еще в Москве при найме на Дальний Север, сказали, что там опасные государственные преступники, и Серафим боялся принести даже кусок сахару или белого хлеба своим товарищам по работе. За ним, впрочем, следил заведующий лабораторией Пресняков, комсомолец, растерявшийся от собственного необычайно высокого жалованья и высокой должности сразу после окончания института. Главной своей обязанностью он считал политконтроль за своими сотрудниками (а может быть, только этого от него и требовали), и заключенными, и вольнонаемными.
Серафим был постарше своего заведующего, но послушно выполнял все, что тот приказывал в смысле пресловутой бдительности и осмотрительности.
За год он и десятком слов на посторонние темы не обменялся с заключенными инженерами.
С дневальным же и ночным сторожем Серафим и вовсе ничего не говорил.
Через каждые шесть месяцев оклад договорника-северянина увеличивался на десять процентов. После получения второй надбавки Серафим выпросил себе поездку в соседний поселок, всего за сто километров, – что-нибудь купить, сходить в кино, пообедать в настоящей столовой, «посмотреть на баб», побриться в парикмахерской.
Серафим взобрался в кузов грузовика, поднял воротник, закутался поплотнее, и машина помчалась.
Через часа полтора машина остановилась у какого-то домика. Серафим слез и сощурился от весеннего резкого света.
Два человека с винтовками стояли перед Серафимом.
– Документы!
Серафим полез в карман пиджака и похолодел – паспорт он забыл дома. И, как назло, никакой бумажки, удостоверяющей его личность. Ничего, кроме анализа воздуха с шахты. Серафиму велели идти в избу.
Машина уехала.
Небритый, коротко стриженный Серафим не внушал доверия начальнику.
– Откуда бежал?
– Ниоткуда…
Внезапная затрещина свалила Серафима с ног.
– Отвечать, как полагается!
– Да я буду жаловаться! – завопил Серафим.
– Ах, ты будешь жаловаться? Эй, Семён!
Семён прицелился и гимнастическим жестом привычно и ловко ударил ногой в солнечное сплетение Серафиму.
Серафим охнул и потерял сознание.
Смутно он помнил, как его куда-то волокли прямо по дороге, он потерял шапку. Зазвенел замок, скрипнула дверь, и солдаты вбросили Серафима в какой-то вонючий, но теплый сарай.
Через несколько часов Серафим отдышался и понял, что он находится в изоляторе, куда собирали всех беглецов и штрафников – заключенных поселка.
– Табак есть? – спросил кто-то из темноты.
– Нет. Я некурящий, – виновато сказал Серафим.
– Ну и дурак. Есть у него что-нибудь?
– Нет, ничего. После этих бакланов разве что останется?
Серафим с величайшим усилием сообразил, что речь идет о нем, а «бакланами», очевидно, называют конвоиров за их жадность и всеядность.
– У меня были деньги, – сказал Серафим.
– Вот именно «были».
Серафим обрадовался и замолчал. Он взял с собой в поездку две тысячи рублей, и, слава богу, эти деньги изъяты и хранятся у конвоя. Все скоро выяснится, и Серафима освободят и вернут ему деньги. Серафим повеселел.
«Надо будет дать сотню конвоирам, – подумал он, – за хранение». Впрочем, за что давать? За то, что они его избили?
В тесной избушке без всяких окон, где единственный доступ воздуха был через входную дверь и обросшие льдом щели в стенах, лежали прямо на земле человек двадцать.
Серафиму захотелось есть, и он спросил соседа, когда будет ужин.
– Да ты что, на самом деле вольный, что ли? Завтра поешь. Мы ведь на казенном положении: кружка воды и пайка – трехсотка на сутки. И семь килограммов дров.
Серафима никуда не вызывали, и он прожил здесь целых пять дней. Первый день он кричал, стучал в дверь, но после того, как дежурный конвойный, изловчившись, хватил его прикладом в лоб, перестал жаловаться. Вместо потерянной шапки Серафиму дали какой-то комок материи, который он с трудом напялил на голову.
На шестой день его вызвали в контору, где за столом сидел тот же начальник, который его принимал, а у стены стоял заведующий лабораторией, крайне недовольный и прогулом Серафима, и потерей времени на поездку для удостоверения личности лаборанта.
Пресняков слегка ахнул, увидя Серафима: под правым глазом был синий кровоподтек, на голове – рваная грязная матерчатая шапка без завязок. Серафим был в тесной изорванной телогрейке без пуговиц, заросший бородой, грязный – шубу пришлось оставить в карцере, – с красными, воспаленными глазами. Он произвел сильное впечатление.
– Ну, – сказал Пресняков, – этот самый. Можно нам идти? – И заведующий лабораторией потащил Серафима к выходу.
– А д-деньги? – замычал Серафим, упираясь и отталкивая Преснякова.
– Какие деньги? – металлом зазвенел голос начальника.
– Две тысячи рублей. Я брал с собой.
– Вот видите, – хохотнул начальник и толкнул Преснякова в бок. – Я же вам рассказывал. В пьяном виде, без шапки…
Серафим шагнул через порог и молчал до самого дома.
После этого случая Серафим стал думать о самоубийстве. Он даже спросил заключенного инженера, почему тот, арестант, не кончает самоубийством.
Инженер был поражен – Серафим за год не сказал с ним двух слов. Он помолчал, стараясь понять Серафима.
– Как же вы? Как же вы живете? – горячо шептал Серафим.
– Да, жизнь арестанта – сплошная цепь унижений с той минуты, когда он откроет глаза и уши и до начала благодетельного сна. Да, все это верно, но ко всему привыкаешь. И тут бывают дни лучше и дни хуже, дни безнадежности сменяются днями надежды. Человек живет не потому, что он во что-то верит, на что-то надеется. Инстинкт жизни хранит его, как он хранит любое животное. Да и любое дерево, и любой камень могли бы повторить то же самое. Берегитесь, когда приходится бороться за жизнь в самом себе, когда нервы подтянуты, воспалены, берегитесь обнажить свое сердце, свой ум с какой-нибудь неожиданной стороны. Сосредоточив остатки силы против чего-либо, берегитесь удара сзади. На новую, непривычную борьбу сил может не хватить. Всякое самоубийство обязательный результат двойного воздействия, двух, по крайней мере, причин. Вы поняли меня?
Серафим понимал.
Сейчас он сидел в закопченной лаборатории и вспоминал свою поездку почему-то с чувством стыда и с чувством тяжелой ответственности, которая легла на него навсегда. Жить он не хотел.
Письмо все еще лежало на лабораторном черном столе, и страшно было взять его в руки.
Серафим представил себе его строки, почерк своей жены, почерк с наклоном влево: по такому почерку разгадывался ее возраст – в двадцатых годах в школах не учили писать наклонно вправо, писал кто как хотел.
Серафим представил себе строки письма, будто прочел его, не разрывая конверта. Письмо могло начинаться:
«Дорогой мой», или «Дорогой Сима», или «Серафим». Последнего он боялся.
А что, если он возьмет и, не читая, разорвет конверт в мелкие клочья и бросит их в рубиновый огонь печи? Все наваждение кончится, и ему снова будет легче дышать – хотя бы до следующего письма. Но не такой же он трус, в конце концов! Он вовсе не трус, это инженер трус, и он ему докажет. Он всем докажет.
И Серафим взял письмо и вывернул его адресом кверху. Его догадка была верной – письмо было из Москвы, от жены. Он яростно разорвал конверт и, подойдя к лампочке, стоя прочитал письмо. Жена писала ему о разводе.
Серафим бросил письмо в печь, и оно вспыхнуло белым пламенем с голубым ободком и исчезло.
Серафим стал действовать уверенно и неспешно. Он достал из кармана ключи и отпер шкаф в комнате Преснякова. Из стеклянной банки он высыпал в мензурку щепотку серого порошка, черпнул кружкой воду из ведра, долил в мензурку, размешал и выпил.
Жжение в горле, легкий позыв на рвоту – и все.
Он просидел, глядя на часы-ходики, ни о чем не вспоминая, целых тридцать минут. Никакого действия, кроме боли в горле. Тогда Серафим заторопился. Он открыл ящик стола и вытащил свой перочинный нож. Потом Серафим разорвал вену на левой руке: темная кровь потекла на пол. Серафим ощутил радостное чувство слабости. Но кровь текла все меньше, все тише.
Серафим понял, что кровь не пойдет, что он останется жив, что самозащита собственного тела сильнее желания умереть. Сейчас же он вспомнил, что надо сделать. Он кое-как, в один рукав, надел на себя полушубок – без полушубка на улице было слишком холодно – и без шапки, подняв воротник, побежал к речке, которая текла в ста шагах от лаборатории. Это была горная речка с глубокими узкими промоинами, дымящимися, как кипяток, в темном морозном воздухе.
Серафим вспомнил, как в прошлом году поздней осенью выпал первый снег и тонким ледком затянуло реку. И отставшая от перелета утка, обессилевшая в борьбе со снегом, опустилась на молодой лед. Серафим вспомнил, как выбежал на лед человек, какой-то заключенный и, смешно растопырив руки, пытался поймать утку. Утка отбегала по льду до промоины и ныряла под лед, выскакивая в следующей полынье. Человек бежал, проклиная птицу; он измучился не меньше утки и продолжал бегать за ней от промоины к промоине. Два раза он проваливался на льду и, грязно ругаясь, долго выползал на льдину.
Кругом стояло много людей, но ни один не помог ни утке, ни охотнику. Это была его добыча, его находка, а за помощь надо было платить, делиться… Измученный человек полз по льду, проклиная все на свете. Дело кончилось тем, что утка нырнула и не вынырнула – наверное, утонула от усталости.
Серафим вспомнил, как он тогда пытался представить себе смерть утки, как она бьется в воде головой об лед и как сквозь лед видит голубое небо. Сейчас Серафим бежал к этому самому месту реки.
Он спрыгнул прямо в ледяную дымящуюся воду, обломив опушенную снегом кромку синего льда. Воды было по пояс, но течение было сильным, и Серафима сбило с ног. Он бросил полушубок и соединил руки, заставляя себя нырнуть под лед.
Но уже кругом кричали и бежали люди, тащили доски и прилаживали поперек промоины. Кто-то успел схватить Серафима за волосы.
Его понесли прямо в больницу. Раздели, согрели, пытались влить ему в глотку теплый сладкий чай. Серафим молчал и мотал головой.
Больничный врач подошел к нему, держа шприц с раствором глюкозы, но увидел рваную вену и поднял глаза на Серафима.
Серафим улыбнулся. Глюкозу ввели в правую руку. Видавший виды старик врач разжал шпателем зубы Серафима, посмотрел горло и вызвал хирурга.
Операция была сделана немедленно, но слишком поздно. Стенки желудка и пищевод были съедены кислотой – первоначальный расчет Серафима был совершенно верен.
1959
Выходной день
Две белки небесного цвета, черномордые, чернохвостые, увлеченно вглядывались в то, что творилось за серебряными лиственницами. Я подошел к дереву, на ветвях которого они сидели, почти вплотную, и только тогда белки заметили меня. Беличьи когти зашуршали по коре дерева, синие тела зверьков метнулись вверх и где-то высоко-высоко затихли. Крошки коры перестали сыпаться на снег. Я увидел то, что разглядывали белки.
На лесной поляне молился человек. Матерчатая шапка-ушанка комочком лежала у его ног, иней успел уже выбелить стриженую голову. На лице его было выражение удивительное – то самое, что бывает на лицах людей, вспоминающих детство или что-либо равноценно дорогое. Человек крестился размашисто и быстро: тремя сложенными пальцами правой руки он будто тянул вниз свою собственную голову. Я не сразу узнал его – так много нового было в чертах его лица. Это был заключенный Замятин, священник из одного барака со мной.
Все еще не видя меня, он выговаривал негромко и торжественно немеющими от холода губами привычные, запомненные мной с детства слова. Это были славянские формулы литургийной службы – Замятин служил обедню в серебряном лесу.
Он медленно перекрестился, выпрямился и увидел меня. Торжественность и умиленность исчезли с его лица, и привычные складки на переносице сблизили его брови. Замятин не любил насмешек. Он поднял шапку, встряхнул и надел ее.
– Вы служили литургию, – начал я.
– Нет, нет, – сказал Замятин, улыбаясь моей невежественности. – Как я могу служить обедню? У меня ведь нет ни даров, ни епитрахили. Это казенное полотенце.
И он поправил грязную вафельную тряпку, висевшую у него на шее и в самом деле напоминавшую епитрахиль. Мороз покрыл полотенце снежным хрусталем, хрусталь радужно сверкал на солнце, как расшитая церковная ткань.
– Кроме того, мне стыдно – я не знаю, где восток. Солнце сейчас встает на два часа и заходит за ту же гору, из-за которой выходило. Где же восток?
– Разве это так важно – восток?
– Нет, конечно. Не уходите. Говорю же вам, что я не служу и не могу служить. Я просто повторяю, вспоминаю воскресную службу. И я не знаю, воскресенье ли сегодня?
– Четверг, – сказал я. – Надзиратель утром говорил.
– Вот видите, четверг. Нет, нет, я не служу. Мне просто легче так. И меньше есть хочется, – улыбнулся Замятин.
Я знаю, что у каждого человека здесь было свое самое последнее, самое важное – то, что помогало жить, цепляться за жизнь, которую так настойчиво и упорно у нас отнимали. Если у Замятина этим последним была литургия Иоанна Златоуста, то моим спасительным последним были стихи – чужие любимые стихи, которые удивительным образом помнились там, где все остальное было давно забыто, выброшено, изгнано из памяти. Единственное, что еще не было подавлено усталостью, морозом, голодом и бесконечными унижениями.
Солнце зашло. Стремительная мгла зимнего раннего вечера уже заполнила пространство между деревьями.
Я побрел в барак, где мы жили, – низенькую продолговатую избушку с маленькими окнами, похожую на крошечную конюшню. Ухватясь обеими руками за тяжелую, обледенелую дверь, я услышал шорох в соседней избушке. Там была «инструменталка» – кладовая, где хранился инструмент: пилы, лопаты, топоры, ломы, кайла горнорабочих.
По выходным дням инструменталка была на замке, но сейчас замка не было. Я шагнул через порог инструменталки, и тяжелая дверь чуть не прихлопнула меня. Щелей в кладовой было столько, что глаза быстро привыкли к полумраку.
Два блатаря щекотали большого щенка-овчарку месяцев четырех. Щенок лежал на спине, повизгивал и махал всеми четырьмя лапами. Блатарь постарше придерживал щенка за ошейник. Мой приход не смутил блатарей – мы были из одной бригады.
– Эй, ты, на улице кто есть?
– Никого нету, – ответил я.
– Ну, давай, – сказал блатарь постарше.
– Подожди, дай я поиграюсь еще маленько, – отвечал молодой. – Ишь как бьется. – Он ощупал теплый щенячий бок близ сердца и пощекотал щенка.
Щенок доверчиво взвизгнул и лизнул человечью руку.
– А, ты лизаться… Так не будешь лизаться. Сеня…
Семён, левой рукой удерживая щенка за ошейник, правой вытащил из-за спины топор и быстрым коротким взмахом опустил его на голову собаки. Щенок рванулся, кровь брызнула на ледяной пол инструменталки.
– Держи его крепче! – закричал Семён, поднимая топор вторично.
– Чего его держать, не петух, – сказал молодой.
– Шкуру-то сними, пока теплая, – учил Семён. – И зарой ее в снег.
Вечером запах мясного супа не давал никому спать в бараке, пока все не было съедено блатарями. Но блатарей у нас было слишком мало в бараке, чтоб съесть целого щенка. В котелке еще оставалось мясо.
Семён пальцем поманил меня.
– Забери.
– Не хочу, – сказал я.
– Ну, тогда… – Семён обвел нары глазами. – Тогда попу отдадим. Э, батя, вот прими от нас баранинки. Только котелок вымой…
Замятин явился из темноты на желтый свет коптилки-бензинки, взял котелок и исчез. Через пять минут он вернулся с вымытым котелком.
– Уже? – спросил Семён с интересом. – Быстро ты глотаешь… Как чайка. Это, батя, не баранинка, а псина. Собачка тут к тебе ходила – Норд называется.
Замятин молча глядел на Семёна. Потом повернулся и вышел. Вслед за ним вышел и я. Замятин стоял за дверьми на снегу. Его рвало. Лицо его в лунном свете казалось свинцовым. Липкая клейкая слюна свисала с его синих губ. Замятин вытерся рукавом и сердито посмотрел на меня.
– Вот мерзавцы, – сказал я.
– Да, конечно, – сказал Замятин. – Но мясо было вкусное. Не хуже баранины.
1959







