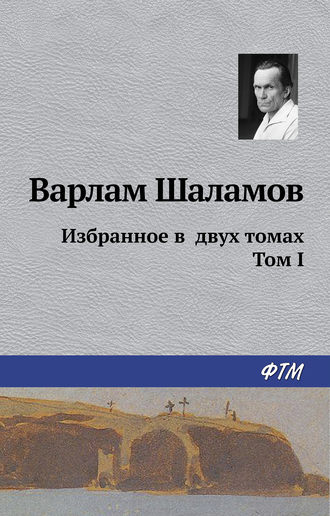
Варлам Шаламов
Избранное в двух томах. Том I
Господин Бержере в больнице
Ассистент повернул теплый термометр к окну.
– Сколько?
– Норма, профессор.
– Выписывайте. О вас слишком заботятся, больной. Сразу после приключения – свинцовая примочка, рюмка портвейна и вы могли продолжать ваши апелляции к совести прекрасной Франции.
Господин Бержере лежал, счастливо улыбаясь. Он знал, что профессор любит шутить. На столике стояла ветка сирени. Господин Бержере вдыхал запах весны. Он снял пенсне и закрыл глаза, пытаясь честно припомнить «приключение». Как это трудно – честно вспомнить. Бержере столько раз рассказывал свою историю врачу, соседям, что знал ее наизусть и вспоминал уже свой рассказ, а не событие. Но сейчас – для себя – он попробует вспомнить все – без рамплиссажей, как говорят музыканты. На площади, у сквера, где любил гулять Бержере, – много людей. На бульварной скамейке стоит оратор. Шея его замотана рваным цветным шарфом. Бержере прислушивается. Нет, он не одобряет таких разговоров. Дома в халате, за стаканом старого вина, в кругу друзей – это допустимо. Но на улице? Перед незнакомыми людьми? Вздор. Он вовсе не говорит речь, этот оратор. Он читает вслух газету. Бержере подходит ближе. «Юманите». Господин Бержере – подписчик «Эвр», солидного издания. Читать «Эвр», все равно что быть вкладчиком банка Ротшильда. Никаких крахов, никаких банкротов, но «Юманите»?
Чтение прерывается. Все, вытянув шеи, глядят на другую сторону площади. Отряд конных полицейских скачет к скверу. «Убегайте», – кричит Бержере. Но люди не бегут. Они стягиваются друг к другу. Молодой парень поднимает булыжник.
– Сражаться с полицией? – спрашивает Бержере. – Республика…
– Вам не место здесь, мсье, – говорит человек в шарфе. Конный отряд близко. Слышен легкий визг вынимаемых сабель. Грязь из-под копыт лошадей брызжет на новое пальто господина Бержере. Солнечный зайчик от сабли полицейского на мгновение ослепляет Бержере. Затем он видит падающего человека. Господин Бержере поворачивается к тесно сомкнувшимся людям, к нахмуренным бровям и крутым скулам и выкрикивает слова о человечности, любви, традициях Республики, долге граждан великой Франции. Молодой парень отшвырнул Бержере в строну. Бержере увидел ветви дерева, облако и много после – куртку санитара.
* * *
– Господин Бержере, – сказал ассистент, прощаясь. – Вот добрый совет врача: не мешайтесь не в свои дела.
Бержере возмущенно пожал плечами. Он плохо воспитан, этот молодой человек.
Улица открылась плотным весенним воздухом, капелью и шумом многотысячной толпы. Не соблюдая рядов, заполняя тесной толпой мостовую, тротуары, шли демонстранты. И нестройный шаг не мешал им выкрикивать хором, как под взмахи руки невидимого дирижера, слова угроз и обещания мести. У фонарного столба стояла девушка. Из-под весенней шляпки прошлогодней моды выбивались вьющиеся желтые волосы. Она раздавала проходящим какие-то листки. Бержере, умиленный выздоровлением, солнцем, пестротой толпы, широко улыбался – девушке, городу, миру. И девушка улыбнулась и протянула ему листок.
Толпа редела, выкрики отошли за несколько кварталов, появился полицейский. И Бержере увидел: с противоположного тротуара двинулся стройный человек легкой походкой танцора. За ним прошли еще несколько людей в пальто, плотно облегавших их прямые спины и выгнутые торсы.
– Прекрасный день, мадмуазель, – вежливо сказал Бержере, приподнимая шляпу. Почему не поговорить с хорошенькой девушкой?
– Да, мсье, – ответила она рассеянно и, вздрогнув, оглянулась. Она была окружена. Один из тех – с другой стороны улицы – ударил девушку в лицо. Он ударил ее быстро, только один раз. И вместо неправильных и прелестных черт на господина Бержере смотрела с земли кровавая маска, бифштекс из мясной лавки. Человек с фигурой танцора прицеливался каблуком в голову девушки, окруженную нимбом разметавшихся золотых волос.
Господин Бержере бросился к девушке, но от толчка в бок отлетел к стене дома.
– Вы бьете женщину, – крикнул Бержере, задыхаясь.
– Она – коммунистка!
– Она – человек!
– Человек? Пьер, вот еще один коммунист.
– Я не коммунист, – хотел сказать Бержере, но не успел, потеряв сознание.
* * *
– Вот так штука, профессор. Господин Бержере вернулся. На этот раз надолго.
– Дон Кихот уличных сражений, а?
Господин Бержере лежал на санитарных носилках. Кусочек стекла пенсне засел в коже надбровной дуги, и круглые, большие, бледно-голубые глаза безразлично глядели в потолок. Санитары раздели его и положили на операционный стол. Обнаженное мясо синими клочками свисало с плеч, со спины.
– Неплохо сделано, – сказал профессор после осмотра. – Но кости целы. Кто его так отделал, Луи?
Ассистент засучил рукава своей рубашки. В розовую кожу были вдавлены треугольные, коричневые шрамы.
– Похоже?
– То же самое, мальчик. Кастеты. Фирма?
– Полковник де ля Рокк, профессор.
– Вот как. Но Бержере вылечится. Как и вы.
– Да. Но вылечат ли эти побои господина Бержере?
Пава и древо
Анна Власьевна кружевничала шестьдесят пятый год. Плотно обхватив сухонькими морщинистыми пальцами коклюшку, она ловко перекидывала нитку от булавки к булавке, выплетала оборку для наволочки – самое пустое плетение. Двумя парами коклюшек водила по кутузу, по кружевной подушке Анна Власьевна. В молодые годы вертела она по триста пар коклюшек – самая знаменитая кружевница северного края. Давно уже не плетет Анна Власьевна сердечки и опахальца, оплет и воронью лапку, стежные денежки и решетки канфарные – все, чем славится вологодское кружево: сцепное, фонтанное, сколичное…
Двадцать лет, как ослепла Анна Власьевна, но, и слепая, ежедневно сидит она за кутузом – плетет для артели самый простой узор.
Род Анны Власьевны – кружевной род. Трехлетним ребенком играла она на повити «в коклюшки да булавки», а пятилетней посадили ее к настоящей подушке – «манер заучивать» – пусть попривыкнет вертеть коклюшками, да и рука пораньше тверже станет. А через год-два и дому помощь. К восемнадцати стала она первой мастерицей в селе, сама составляла узоры и «сколки» на «бергаменте», и Софья Павловна Глинская взяла ее к себе в усадьбу первой плетеей.
Тридцать две зимы просидела здесь Анна Власьевна. Зимами только и плели: «Летом день длинен, зато нитка коротка», думы не кружевные, изба ведь не кружевами держится – землей. А какая изба – в окно только ноги прохожих видно. Анна Власьевна плела только самое тонкое, самое хитрое кружево. «Иное плетешь тонко-тонко, в вершок шириной, пол-аршина в две недели сплетешь, да больше двух часов в день и плести нельзя – глаза ломит». Так Анна Власьевна и ослепла – «темная вода» залила ее глаза. Анна Власьевна вернулась в избу, перешла жить к старшей дочери. Мужа она давно схоронила, уж внучка – кружевница на выданьи и волосы у внучки мягкие-мягкие…
– Бабушка, ты спишь? Федя приехал.
– Не сплю я – замыслилась. Смеются, небось, бабы – Анна Власьевна четырьмя коклюшками плетет. А того не помнят, сколько я знала. У нас на деревне, да, почитай, во всем крае только на сколотое кружево и мастерицы. А я знаю численное, когда надо нитки считать и узор сам собой повторяется – у Софьи Павловны петербургские знаменщики узоры-то эти чертили. Численное – это уже самое старинное русское, давно уж нет численниц-то нигде, а у Софьи Павловны только я одна была. Четырнадцать медалей Софья Павловна за мое кружево-то получила.
Знаю я и кружево сканое, шитое и пряденое понимаю. А на коклюшках-то все разумела: манер белозерской, балахнинской, рязанской, скопинской, елецкой, мценской – все знаю. По узорам-то и памяти моей не хватит считать: и рязанские-то павлинки и протекай-речку и ветки-разводы травчатые и бровки-пышки – города и вертячий край и гипюр зубьями… Калязинский манер цветами тонкий, паучки орловские, обачино ярославские, копытце да блины тверские – белевский окрок, – все знала. Но против нашего вологодского манера – никуда. У нашего нитка нитку за ручку ведет. Видала я у Софьи Павловны и баланжен плетеный французский и гипур нитяный испанский. Не пришлись за нрав. Нет у них этой чистоты нашей – недаром вологодское кружево-то на «убрусы» невестам шло.
Ходка была я на работу-то, ходка. По полтиннику в день вырабатывала: зимами-то фунт керосину в коптилке сжигали. В полуден полоскаешь да чайку попьешь – очень мы чай любили да и сахару не жалели: когда вприкуску, а когда и вприглядку попьешь… И опять за коклюшки… А уж плетея была! Я на узком кружеве-то не сидела. Цельные платья выплетала я, тальмы, вуали, наколки, чепцы плела…
Старопрежнюю работу только и знали, что я да Угрюмова Пелагея, плетея наша, что в Петербург ездила. А только паву и древо мои и Пелагее не выплесть. Вятское это плетение, пава-то с древом…
Но о «паве и древе» внучка слышала много раз – без малого двадцать лет рассказывает об этом узоре Анна Власьевна: «Только бы разок паву и древо выплесть, да и на кладбище. Не успела я дочек научить, не успела. Может, где теперь и плетут. Принесли бы, показали». И дочери приносили каждый новый узор матери. Анна Власьевна ощупывала кружево, нюхала, гладила пальцами. – Нет, не то. Далеко до моих. – Где нам, маманя. Была ты первая коклюшница по Северу и теперь тебя так кличут. Анесподист Александрович, приемщик, недавно баил: «Твою бы матку, Настасья, в артель».
– То-то. Да и нитка толста. На такой нитке только к наволокам кружево идет…
– Бабушка, Федя-то доктор теперь. Распишемся мы и тебя возьмем. Работать не надо будет.
– Не из-за хлеба куска на артель верчу. Шестьдесят лет кружевничаю, разве отстанешь? Так с коклюшкой и помру. Сдавали сегодня?
– По первому сорту, бабушка.
– Мы кружевницы природные. Нам нельзя позориться. Ну девка, потревожила ты меня, – пойду досыпать.
– Чего много спишь, бабушка?
– Эх, внучка. Глаза ведь ко мне ворочáются. Во снах-то я ВИЖУ. Рожь, милушка, вижу – колос к колосу, желтую-желтую. Кружево вижу и Софью Павловну вчера видела – она меня коклюшкой в бок ткнула, когда губернаторше численное кружево я плела, да в счете ошибалась. А больше всего плету во сне пав и древо, что вы сплести не можете. Из моих-то пав, баили, сама английская царица мантилью сошила…
Анна Власьевна уже добралась до своей койки.
– Бабушка, не ложись. Мама идет, обед собирать будем.
Последнее время за обедом у Анны Власьевны было много беспокойства.
Она ворчала:
– Что это мне в отдельной тарелке? Или я заразная какая?
– Все так едим, маманя. Дай руку, покажу.
Волновалась:
– Что это вы каждый день мясо и мясо?
– Ешь, бабушка.
Или хитрила:
– Алексей! Как ноне рожь-то? Принеси колос…
– Зачем?
– Хлеб что ли у вас растет какой особенный?
– А что?
– Вот кровать с шишками купили…
Старуха завела привычку: оставаясь одна, она передвигалась по комнате и ощупывала новые вещи. Однажды ощупала большое зеркало и заплакала. Эта менявшаяся география избы тревожила слепую. Годами она двигалась уверенно, как зрячая, и вдруг натыкалась на гнутые стулья, на комод, на новый кованый сундук. «Оставьте угол-то мой в покое», – просила она детей.
– Хлеб да соль.
– Вот Федя, бабушка.
– Ишь, голос-то какой густой. Дьяконский. Ну, подойди, подойди, дай я тебя потрогаю. Экие лапищи.
– Ну что, Анна Власьевна? Все пава за павой?
– Пава и древо, дурень. Пава за павой – иной сколок – проще…
Фёдор Карпушев, соседский сын, чтобы поразить будущих родственников, облачился в блестящий белый халат. По-московски любезничая, по-родному «окая», он усаживал старуху перед окном.
– Пожалуйста, Анна Власьевна, сюда сядьте… Повыше голову поднимите. Вы – мой первый пациент на родине.
– Пациент, – ворчала старуха, довольная почетом. – Пациент. Пахать надо. Фершал.
– Анна Власьевна, а вы врачей своевременно посещали?
– Чего?
– Вы глаза обследовали у врачей?
– Чего?
– В околотке, я говорю, бывала с глазами? – заорал Фёдор.
– В околоток-то ходила. Капли какие-то пахучие дали. Баили: табак бы нюхала, глаза-то и целы были. Да ведь не я первая. Кружевницы-то тонких узоров все глазами мучаются. Вот сноха-то Карпушева Ивана Павловича в Николин день…
Фёдор грохотал рукомойником.
– Знаешь, бабушка, твои глаза поправить можно. Операцию надо делать. Катаракт это…
– Полно брехать-то над старухой. У лавочника у нашего, у Митрия, катарак-то в желудке был, ему Мокровской, дай господи светлой памяти, городской-то доктор, два раза резал, а все умер Митрий. Я ему так и говорила: все равно умрешь, черт, мало ты над кружевницами изгилялся. По 300 кружевниц на него работало.
– Да не рак, а катаракт, бабушка.
– Все одно…
Но старуху уговорили. Анна Власьевна пришла в благодушное настроение и допытывалась у Фёдора:
– А косить можешь?
– Мало я косил…
– Ну, тогда лечи.
– К профессору отвезем.
– А профессор твой – может косить?
– Не знаю. Не может, наверное…
– Ну, все одно… Вези. Только коклюшки я с собой возьму.
Фёдор увез старуху в Москву, а через два месяца написал, что операцию делал самый знаменитый профессор, что Анна Власьевна ВИДИТ. Потихоньку вертит коклюшками, а присмотреть за ней некому. Москва ей не понравилась: «не ослепнешь, так оглохнешь», и что через неделю думает он отвезти Анну Власьевну на Ярославский вокзал и посадить в поезд.
Но старуха приехала раньше, не вытерпела.
В стеклянный осенний день на полустанке вылезла она из вагона. Шофер закричал с грузовика:
– Садись, подвезу, бабушка. Тут ближе 10 верст нет деревень…
– Спасибо, сынок. Я и пешей дойду…
По тропке вдоль серых больших стогов дошла она до своей деревни. На околице хмурый бондарь стругал доски для огромного бака.
– Где тут Волоховы живут?
– Тут полсела Волоховых…
– Дом с красной крышей, баили…
– Тут полсела с красной крышей…
Обиженная Анна Власьевна с трудом добралась до своей избы: изба была почти в середине «порядка», а не с краю, как раньше. Дверь закрыта – хозяева в поле. Анна Власьевна зажмурила глаза, нащупала щеколду, отворила. Вошла, оглянулась: кровать была совсем такая, как думала Анна Власьевна, а вот комод – нет: лак подался и замки какие-то легкие. Подошла к зеркалу, поджала губы: от годов-то никуда не уйдешь. А нет: старенькая, а румяная.
Анна Власьевна повернулась, открыла ящик комода и обомлела: кружево «пава и древо», того самого хитрейшего узора, что когда-то сгубил глаза Анны Власьевны, что выплела она теперь в Москве артели в подарок, – было сложено в ящике комода аккуратными стопочками, приготовлено к сдаче.
Анна Власьевна охнула:
– Маманя, маманя, – испуганные дочери стояли в дверях…
– Чье плетенье? – строго спросила старуха.
– Поздравствуемся, маманя…
– Чье плетение? – под ногой Анны Власьевны скрипнула половица.
– Наше, маманя… Мы с Шуркой…
Старая кружевница улыбнулась.
– Такую красоту выплесть… Молодцы, бабы. Нет, не угаснет наш род… Скрыли от старухи уменье свое… Гордость мою кружевную хранили…
Анна Власьевна заплакала. Вытерла глаза маленькими кулачками, развязала дорожный узелок и достала свое плетенье. Взяла из комода работу дочерей, подошла к окну, сравнила…
– Я еще елку с оленем составить могу, – тихо сказала Анна Власьевна.
Маяковский разговаривает с читателем
Маяковского слышали, видели десятки тысяч людей. В заводских клубах, в дворцах культуры, в студенческих аудиториях Маяковский разговаривал со своим читателем. «На сотни эстрад бросает меня, на тысячи глаз молодежи».
Этот «разговор с читателем» в жизни и творчестве Маяковского занимает очень большое место. Между тем в том, что написано о Маяковском, именно эта сторона его жизни почему-то остается в тени. За исключением Л. Кассиля («На капитанском мостике» в «Альманахе о Маяковском»), никто не рассказал о «разговоре с читателем». Известно, что Маяковский хотел написать книгу о записках, подаваемых читателями во время выступлений поэта, хранил эти записки, сортировал. Книга осталась ненаписанной.
В прошлом году я сделал попытку записать кажущееся мне наиболее интересным из виденного и слышанного. Это мелочи, штрихи – на большее записи и не претендуют. За исключением первого факта, который рассказан мне бывшим работником Наркомпроса, все остальное я видел и слышал сам.
1922 г. Заседание в Наркомпросе по плакатам для азбуки – азбуки взрослых. Собраны лингвисты, почтенные, седовласые профессора в тяжелых золотых очках. Здесь же недоуменно пожимающий плечами Маяковский. Придумывают слова для азбуки: А – арбуз, атом; Б – блоха, берег… Маяковский молчит.
– Владимир Владимирович, ваше мнение?
– Арбуз? – задумчиво говорит Маяковский. – Блоха? – Бей белых! Вот что нужно для второй буквы азбуки!..
1926 г. Недели две до лекции Маяковского на диспуте в Мюзик-холле об есенинщине толпа «есенинских невест» сорвала криком и свистками выступление Н. Н. Асеева. Маяковский в Политехническом.
– Недавно не дали выступить против есенинщины одному моему товарищу. – Гул, крики: «И тебе не дадим. Долой!» Перекрывая обструкцию, гремит Маяковский с трибуны.
– Меня вы своим «долоем» с трибуны не сгоните. Всю лирику Есенина (зал затихает) я уложил бы в две строки бульварного романса:
«Душа моя полна тоски,
А ночь такая лунная».
Хохот. Аплодисменты. Маяковский, наклоняясь к микрофону:
– Товарищи радиослушатели! Слушайте, как аплодируют человеку, который выступил против Есенина. – Гул. Аплодисменты.
Вечер кончается. Записки.
– Читайте все!.. Зачем комкаете? Читайте все записки!
– Ищу жемчужных зерен.
1927 г. Клуб 1 МГУ. Диспут – «ЛЕФ или блеф». Маяковский – Полонский. Начало в 8, но только около 9 раздаются аплодисменты, и сквозь тесную толпу студентов, бросая шутки на ходу, проходит на сцену Маяковский. Восторженные аплодисменты. Маяковский садится к столу. Встает, выходит, опять садится. Полонского нет. Проходит минут 10–15. Крики: «Начинайте. Пора». Маяковский выходит:
– Начнем, пожалуй. Только вот Полонского и присных нет. От ЛЕФа-то явились, а вот от блефа никого нет.
1927 г. Зал Политехнического музея шумит на вечерах Маяковского. Лекция «Даешь изящную жизнь».
– Я – за кружевные занавески на окнах рабочих квартир, – начинает Маяковский. – Я за канарейку в комнате рабочего! Мещанство – не в вещах, мещанство в людях! Мещанство – вот в этой папке! – Из огромного портфеля вытаскивает Маяковский «революционный» романс Музгиза «А сердце-то в партию тянет». – Внимание!
«У партийца Епишки
партийные книжки.
На плечиках френчик, ах, френчик, френчик,
Голосок, как бубенчик, бубенчик, бубенчик».
Вот полюбуйтесь! Бубенчик! Епишка, у которого партийные книжки. Не книжка – партбилет, а книжки. Вам смешно? А тут не один смех слышится. Этот бубенчик звенит в том, что «на плечиках френчик». Откуда этот френчик на плечах? Такие френчики носили господа офицеры – на плечах.
Вот с чем нужно бороться. Против этого контрреволюционного «бубенчика», за изящную жизнь, за красивую жизнь, которую мы вплотную начинаем строить.
Переходим к стихам:
«Делами,
кровью,
строкою вот этою,
Нигде
Не бывшею в найме,
Я славлю
Взвитое красной ракетою
Октябрьское
Руганое
И пропетое
Пробитое пулями – знамя!»
Аплодисменты всего зала.
На заводе
По утрам Лена глядела в зеркало с ненавистью. Зеркало честно и без всякого сочувствия отражало скошенный подбородок, вздернутый нос, кустами какими-то растущие брови. Да, некрасива, некрасива. И ничего тут не поделаешь, разве снова родиться. Вот быть бы такой, как Паня Шпагина – первая красавица на все ФЗУ. Сейчас за ее станком – шум, смех, всякий кто пройдет мимо – улыбнется, заговорит. А на Лену никто не обращает внимание, разве только по делу…
– Эй, Фёдоров, кому сдавать смену?
– Вот тебе сменщик.
– Я станок Игнатову не сдам, Павел Иваныч.
– Это почему?
– Поломает. Пусть ФЗУ кончит, тогда и к станку идет.
– Не глупи, Казакова. Не век же ему тележки возить. В техкружке Игнатов занимался. В остальном ты подучишь. Ты ведь у нас профессор по фрезерной части.
– Как учить, так профессор, а как фотографа в цех звать, так Шпагину снимают. Красивых ищите?
– Ревнует. А к кому ревнует? К парню?
– Нет, к газете, к станку.
– Ребенок, право, ребенок, – сказал мастер.
– Ну, Петька, придется мне, видно, остаться. Лекцию тебе читать. Становись вот сюда. Вот деталь. Номер ее 6017. Работать ее надо быстро. Начинай, показывай, чему вас на кружке учили. Поправлять буду.
– Грязно тут у тебя, Лена…
– Стружка, тряпка – это не грязь. Во всех цехах так. Чище нельзя, не дома.
Игнатов оказался способным учеником, а Лена – «профессором», и вскоре не стало надобности в учебе после смены.
Игнатов принес газету. Заводская многотиражка писала о нем – чернорабочем, ставшим квалифицированным фрезеровщиком.
Лена прочла газету и скомкала ее.
– Как ты ни работай, лучше меня работать не будешь.
– Посмотрим.
– Разве станок мой испортишь.
– Станок-то у нас один. Да и радость не в этом.
– Верно. – Лена досадливо откинула волосы со лба. – Вот что, Петька, ты учись скорей. А я уйду с завода. Работаешь, работаешь и никто на тебя внимания не обращает.
– В расчетной ведомости небось обращают…
– Да разве мне деньги нужны?
– Боишься меня. Училась, училась, а пришел Игнатов, два месяца проработал и сделает теперь больше, чем ты.
– Ты каждый день сдавай столько…
Так началось молчаливое соревнование сменщиков.
Паня Шпагина, свесив ноги в черных лакированных туфельках с подоконника клуба, болтала с подругами:
– Ненавижу его, рыжего летчика. Видеть не могу, а каждый вечер встречаюсь. Тянет. Целую и думаю: хоть бы погиб, проклятый…
– Влюбилась, влюбилась, – захихикали подруги.
– Вот странно, – сказала Лена, отрываясь от книжки. – Я так же с Петькой Игнатовым. Не от любви. И не целовала. А ненавижу.
– Влюбилась, влюбилась, – захохотали подруги.
– Эх ты, принцесса от станка, – засмеялась Шпагина. – Дай-ка книжку. Так и есть. «Фрезерные станки». Брось ты эту премудрость.
– Дайте мне, – сказала Лена библиотекарше, – что-нибудь поинтереснее.
– Вот «Кавказский пленник». Про любовь.
– Возьму, – сказала Лена. – Почитаю про любовь. Может, красивой стану.
– Петька, я хорошую книгу прочла. Сочинение Толстого «Кавказский пленник».
– Я читал эту книгу. – Игнатов снимал спецовку. – Что тебе здесь понравилось?
– А вот где о черкесах говорится, что были они бедны, а оружие у них дорогое, сверкает.
– Ну?
– Думала я о нашем с тобой оружии, Петька. Грязен станок. Инструмент надо полчаса искать в тряпках, в щепках. Чистить буду. На сколько сегодня?
– На сто шестьдесят процентов.
– И все на «отлично»?
– Не все, но много. Не подсчитывали еще…
– Не верь ему, Казакова, – сказал Горлов, фрезеровщик-сосед. – Игнатову счастье. Он с бракеровщицей из контрольного перемигнулся. Она ему и метит: «отлично». А деталь – хуже моей.
– Не ври, – резко оборвала Горлова Лена. – Я сама смотрю. Игнатов хорошо работает. Завидки берут?
Горлов ушел.
– Сплетня. Ты, Петька, не слушай Горлова. Первый шептун по заводу.
– У меня, Лена, для тебя чтение. – Игнатов вынул помятую газету.
– Опять про тебя? «Вчерашний чернорабочий…»
– Нет, Лена. Читай-ка.
Лена прочла заметку о шахте «Центральная – Ирмино», об Алексее Стаханове.
– Понимаешь? – Игнатов был серьезен и весел.
– Понимаю, – сказала Лена медленно, – мы не хуже угольщиков.
– Думай, Лена.
Две ближайших недели Лена работала особо внимательно и напряженно. Станок шел без единой неполадки, но больше 160–170 процентов нормы Лена сделать не могла. Игнатов за это время вырабатывал 120–140 процентов, часто останавливал станок, разглядывал фрезы. Однажды, принимая смену от Казаковой, сказал: «Если интересуешься – зайди к концу смены».
Лена видела, что Игнатов взволнован чем-то важным, отказалась от театра, куда был куплен билет, и пришла в цех. Толпа рабочих и инженеров окружала станок. Гора готовых деталей высилась около станка. Прогудел гудок. Игнатов остановил станок и молодцевато поправил галстук.
– Сколько? – спросил он. – Четыреста десять процентов, – ответил Гринце, начальник цеха. Лена рванулась к станку. Сразу все зашумели, заспорили. Игнатов объяснил: «Им изменен технологический процесс, он режет детали не по инструкции. Увеличена скорость резания. Нужная глубина резания, при увеличенной скорости, достигается вместо двух одной фрезой».
– А фреза? – кричал начальник цеха, наступая на Игнатова. – Фреза ступится, а экономичность…
– У меня подсчитано, – сказал бывший чернорабочий инженеру, вынимая засаленный блокнот. – Вот расчет. Фреза тупится очень медленно. Можно сказать, она сохраняется лучше, чем при прежней скорости.
Мастера с сомнением качали головами. Игнатов побледнел.
– Две недели проверяю, – крикнул он. – Ведь детали-то – вот. – Он показывал на горку деталей, переводя глаза с одного лица на другое, и вдруг задышал трудно и коротко.
– А ты, Лена? – Он с надеждой посмотрел на сменщицу.
– Я согласна с товарищем Гринце, – сказала она. – Фрезы затупятся.
Игнатов нагнул голову.
– Пойдем в партком, – сказал он хрипло и двинулся к выходу, одевая пиджак и никак не попадая в рукав.
Техническое совещание, созванное парткомом, подтвердило правоту Игнатова.
– А теперь, – сказал фрезеровщик, – я беру шефство над Казаковой.
– Учить меня будешь? – едва выговорила Лена.
– Не кусай губы, Лена, не гордись. Немного обиды на начальника цеха, немного обиды на мастера. Много обиды на тебя. Давно с тобой работаем. Станок любишь. Могла бы понять…
– Лощишь? Все равно лучше тебя буду работать. И с парашютом буду прыгать. И в хоккей играть. И шефство над тобой возьму.
– Вот это дело. А одной фрезой резать попробуешь?
– Попробую, – и Лена засмеялась.
Заводская газета выпустила «молнию». В ней было сказано, что фрезеровщица Казакова вызвала стахановца фрезеровщика Игнатова соревноваться на лучшую работу. Лена прикрепила газету кнопками к шкафчику с инструментами, обвела заметку синим карандашом. Игнатов улыбался, принимая смену. На инструментальный шкафчик Лена постлала белую клеенку. После одной смены, когда Казакова дала 500 % нормы, рабочие поставили на шкафчик большой букет цветов, из дома Лена принесла метелку, зеркало.
– Хозяйка, – говорил Павел Иванович, почтительно похлопывая Лену по плечу. Горлов косился на станок Лены: чистюля. Работала три года, все чисто было, а теперь вдруг – грязно. Клеенку белую постлала.
– А как же, – смеялась Лена, – не дома.
– Ну что, – сказала Паня Шпагина, – ругала Игнатова, а теперь сама за ним тянешься?
– Дура, – ответила Лена, открыла сундук, достала открытые туфли. Туфли, цвета беж, были куплены давно, но одевать их как-то не было охоты.
– Буду носить на работу, – сказала Лена удивленным подругам.
– Петька! Ты сколько сделал?
– Сразу шесть деталей двумя фрезами. 1400 процентов. – Шутка?
– Можно больше.
– Ну?
– Вот так поставить, – можно восемь деталей сразу делать.
Теперь уже Игнатов дожидался с нетерпением конца смены.
– Сколько? – спросила Лена, покусывая мизинец.
– Две тысячи сто процентов, товарищ Казакова, – ответил технический директор завода. – Ни одной отметки ниже «хорошо».
Игнатов в восхищении тряс за плечи сменщицу.
– Маникюр сломала, вот как спешила, – сказала Лена.
Лена сходила с трибуны заводского митинга. Технический директор потянул ее за рукав.
– Сколько вам лет, товарищ Казакова?
– Двадцать два.
– Молодец! Глаза блестят! А волосы? – Чистое золото. Красавица, красавица… Поздравляю.







