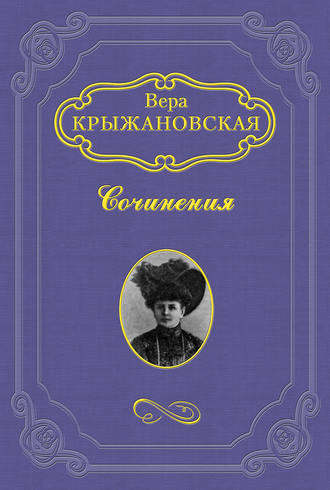
Вера Ивановна Крыжановская-Рочестер
Мертвая петля
Но ни эта тяжёлая сцена, ни потеря близких не поколебали решения упрямой баронессы. Она с благодарностью ухватилась за приглашение княгини переселиться к ним до свадьбы, которая была назначена в начале сентября. Затем новобрачные предполагали совершить маленькое свадебное путешествие, прежде чем ехать в Славгород, где у Лейзера был ангажемент в оперу. А так как князь только что известил о своём назначении на пост губернатора, то Зинаида обещала лично приготовить «гнёздышко» молодым и всё устроить к их приезду.
В такой уединённой тихой жизни Зинаида Моисеевна скучала; кроме того, искала выхода её затаённая злоба против мужа с семьей, и она нередко часами придумывала средства, как бы насолить им и нанести удар в сердце князя.
Частым гостем на даче был Арсений, приезжавший по праздникам из Красного Села. Красивый юноша понравился княгине с первого же взгляда и, чем больше она разочаровывалась в муже, тем больше стала интересоваться Арсением. И вот, в её извращённом воображении созрел план, который одновременно должен удовлетворить её жажду наслаждений и месть.
Глава VII
Было начало августа. Уже несколько дней как Арсений был произведён в офицеры, но в Царском Селе ещё не показывался. Нина днём виделась с ним в городе у одной из родственниц, и он обещал приехать на дачу вечером.
После обеда Нина чувствовала себя нездоровой; общее недомоганье перешло в мигрень, и ей пришлось лечь в постель.
Около одиннадцати часов вечера в доме водворилась тишина. Дети с гувернантками спали на противоположном конце дома, а Лили осталась ночевать в городе у знакомых.
Зинаида Моисеевна сидела одна в своём будуаре, рядом со спальней. Переодевшись в роскошный розовый батистовый, украшенный кружевами капот, она заплела на ночь косы и отослала горничную. Затем она поставила на столе вазу с фруктами, пирожки, вино и ликёры, а в один из хрустальных стаканов всыпала белый порошок из пакетика, который хранила в кошельке. Закончив приготовления, она вышла на маленькую террасу, рядом с будуаром, и стала ходить взад и вперед, поглядывая на садовую калитку, через которую обычно проходил Арсений, если поздно возвращался домой, и ключ от которой он всегда имел при себе.
Пробила полночь, и легкий скрип калитки указал на возвращение молодого князя. Минуту спустя стройная фигура юного офицера появилась у террасы, мимо которой ему необходимо было пройти, чтобы попасть в отцовский кабинет, где он обыкновенно ночевал, когда приезжал к своим. Заметив мачеху, он остановился, чтобы поздороваться.
– Ах, это вы, Арсений Георгиевич? Позвольте вас поздравить. Я ещё не имела удовольствия видеть вас в офицерской форме. Примите мои наилучшие пожелания.
Арсений взошел на ступеньки террасы, чтобы поблагодарить её за поздравление и поцеловать протянутую ручку.
– К вам очень идёт мундир, – с улыбкой продолжала она. – А теперь вы не откажете, надеюсь, мне, как и всякой доброй знакомой, в праве выпить стакан вина в честь вашего производства.
Арсений не мог отказать, не обижая её, и прошёл за ней в будуар. Увидав приготовленное угощение, он снял палаш и присел к столу: а пока он клал на стул оружие, Зинаида налила два стакана и, протянув один ему, подняла другой, провозглашая тост за здоровье и блестящую карьеру юного корнета.
При этом движении широкий рукав её капота распахнулся, и из массы кружев появилась обнажённая белая, как слоновая кость, и классической красоты рука.
Она сидела с огнистым румянцем на матово-бледном лице и смело глядела ему прямо в лицо лучистыми глазами, с затаённой беспечной радостью. Взгляд Арсения на минуту с восхищением остановился на Зинаиде, а затем он выпил залпом свой стакан и ещё раз поблагодарил за пожелания.
– Отчего вы так поздно приехали? Нина с нетерпением ждала вас и только нестерпимая мигрень уложила её в постель.
Княгиня пододвинула ему пирожное, и пока Арсений принимался за еду, она начала рассказывать, о чём писал ей князь в последнем полученном утром письме; затем она перешла на грустные вести с театра войны и дела Красного Креста и, под конец, упомянула про назначение мужа и их скорый отъезд.
Каждый вопрос она обсуждала с такими подробностями и полнотою, которые могли бы заронить подозрение, что она умышленно затягивала разговор. В это время в её пасынке происходила какая-то странная перемена. Лицо юноши раскраснелось, глаза неестественно загорались, и им овладело лихорадочное возбуждение.
Он пил вино стакан за стаканом, которые ему услужливо наполняла Зинаида, словно не замечая смелого, страстного, устремленного на неё взгляда юноши и продолжая болтать. Лишь когда волнение Арсения дошло до апогея, и он горячей рукой удержал ручку своей собеседницы, подававшей ему папироску, та заметила как будто его возбуждённое состояние и заботливо спросила:
– Что с вами, Арсений? Вы так раскраснелись! Вы нездоровы? И прислонясь к нему, она положила руку на лоб Арсения. Это прикосновение и ощущение на себе её упругого тела подействовали на юношу подобно электрическому току. Одурманенный обильно веявшим от неё и раздражавшим ароматом духов, он порывисто обнял её, прижал к себе и жадно прильнул к её губам.
– Что вы делаете, Арсений. Здесь подле балкона?.. Пустите… Она высвободилась из его объятий и попятилась к дверям своей комнаты. Но юноша потерял голову и следовал за ней, стараясь поймать её. Они скрылись в спальне княгини, и дверь захлопнулась…
Было поздно, когда Арсений проснулся на следующий день. Он лежал полуодетый в кабинете отца, на диване, служившем ему постелью. Голова была тяжела и трещала, и во всём теле чувствовалась тупая усталость. Вошёл Прокофий и добродушно ухмыльнулся, глядя на него.
– Хорошо вспрыснули новый мундир, ваше сиятельство, – сказал старый слуга тем покровительственным тоном, которого обыкновенно держался в отношении молодого барина. – А я, старая скотина, так заспался вчера, что не слыхал даже, когда вы изволили вернуться. Должно, часа в четыре, а не то в пять, когда у меня сон крепче всего.
Видя, что молодой князь закрыл глаза и прижал обе руки ко лбу, старик вышел и притворил за собой дверь.
Но Арсений не спал, а напряженно думал, стараясь уяснить себе, что с ним произошло. С той минуты, как он вошёл на террасу мачехи, воспоминания путались, а между тем вчера он вернулся в Царское от родных, где ничего не пил. Что же было потом?
Но вот стали просыпаться воспоминания, неясные сначала; но затем, мало-помалу, они становились всё определеннее, а по мере того, как вырисовывались, с грехом пополам, разные эпизоды вчерашней сцены, на теле выступил холодный пот, и в сердце заныло смутное чувство ужаса и отвращения.
Во сне ли это было или он с ума сошёл? Какое позорное, глупое увлечение! Взрыв нежданно налетевшей страсти толкнул его на обладание женой отца… А она, негодная, отвечала на его страсть с цинизмом вакханки.
У Арсения кружилась голова, и он никак не мог понять, каким образом могло совершиться подобное вопиющее безобразие. Его охватило такое омерзение к самому себе, что на мгновенье мелькнула мысль о самоубийстве, но для этого юноша был слишком честным и верующим. Он вырос в убеждении, что самоубийство – греховно и подло и что нельзя искупать один гнусный проступок другим. Арсений пробовал убедить себя, что это был просто кошмар, но, увы, эта иллюзия длилась недолго. Он ещё не кончил одеваться, как ему подали от мачехи записку, в которой та коротко извещала его, что едет в город, и просила в назначенный час заехать на городскую квартиру для переговоров по делу.
За завтраком Нина была очень встревожена болезненным видом брата; но он её успокоил, воспользовавшись догадкой Прокофия, и сказал, что слишком хорошо поужинал с товарищами. Затем он простился и уехал в город, будто бы по делам службы.
Разговор, бывший затем у Арсения с Зинаидой Моисеевной, убедил юношу, что случившееся с ним было не сон и что он нравился мачехе, а главное, что отделаться от неё будет не так-то легко. Вместе с тем, после долгих часов тяжёлого раздумья, в нём окрепла уверенность, что он попал в ловко расставленную западню и что за этой возмутительной интригой таится месть отцу, который, вероятно, обидел чем-нибудь эту ведьму.
Недели две спустя вернулся Георгий Никитич. Он был завален делами и мог пробыть в Петербурге лишь очень короткое время, будучи принуждён спешно ехать на место нового назначения, ввиду того, что его предместник заболел; в губернии же было неспокойно и настроение создавалось тревожное.
Оставшись как-то наедине с отцом, Нина воспользовалась минутой и описала всё, что творилось в его отсутствие: как Зинаида Моисеевна пригревала у себя шайку анархистов, терпеливо сносила призыв к бунту и ругательства, которыми те сыпали на царя и государственный порядок, не говоря уже об их наглой неприличной манере себя держать.
– Но я прекратила эти хулиганские сборища, – закончила раскрасневшаяся Нина свой рассказ. – Тем не менее, я сочла долгом, папа, тебя предупредить, чтобы теперь, когда ты займёшь высокий пост, в твоём доме снова не явились босяки и разный тому подобный сброд; да и у самой Зинаиды Моисеевны проскальзывает нередко такая манера себя держать в обществе, что я только краснею. Как бы она тебя там не скомпрометировала.
Князь привлек её к себе и расцеловал.
– Спасибо, мой верный страж, за то, что ты так хорошо всё блюла. Но успокойся, я не допущу, чтобы из моего дома устраивали революционный клуб, а если ты подметишь что-нибудь подозрительное, так предупреди меня.
Нина радостно обещала это отцу. Вечером, оставшись с глазу на глаз с женой, князь сказал, смотря на неё своим обычным, холодным взглядом:
– Я узнал, Зина, что ты в моё отсутствие принимала здесь сомнительный люд, который не находил нужным считаться даже с общепринятыми правилами приличия. Тебе известны мои верноподданнические чувства к Государю, мои национальные убеждения и уважение к церкви; следовательно, мой дом – не место для сборищ анархистов и нахалов. Я теперь уезжаю, а вы последуете за мной только через месяц. За это время убедительно прошу тебя принимать здесь лишь людей моего круга и ни под каким видом не впускать молодых людей из той извращённой, бесстыдной, не учащейся молодежи, которая бунтует школы, натравляет учеников на учителей и является позором нашего времени. Имей это в виду, Зина. Не забывай, какое имя ты носишь, и помни о том положении, которое тебе предстоит занять.
Не дожидаясь ответа, князь встал и вышел из комнаты, сославшись на дела. Зинаида Моисеевна молча слушала его, и муж не видел того взгляда, полного ненависти и презрения, которым она его проводила. Но скрытое бешенство её было таково, что она изорвала в клочья свой батистовый платок и кружева капота.
Несколько дней спустя после отъезда князя, была свадьба Лили, отложенная на несколько недель из-за разных формальностей. Молодая баронесса была зла на князя и Нину; дядя не пожелал отложить свой отъезд и отказался быть её посажёным отцом, а кузина осудила помещение её капитала, при посредстве Итцельзона, к еврею-банкиру в Славгороде. Князь только сказал:
– Ты глупа.
Нина высказалась откровеннее:
– Правда говорится, что кого Бог наказать захочет, у того разум отнимет. Ты не только сумасшествуешь со своим приданым, покупаешь роскошную обстановку и т. д., но ты отдаёшь мужу, в его распоряжение, всё своё состояние. И я предвижу, что в одно прекрасное утро ты останешься на соломе, без гроша за душой. Надо быть безумной, чтобы, связав себя по рукам и ногам, отдаться на произвол этой шайки.
– Пожалуйста, округляй свои выражения, потому что через несколько дней я буду принадлежать к той же шайке и не стыжусь этого. Успокой и твои напрасные страхи насчёт моего состояния: в руках моего жениха оно будет в такой же сохранности, как и в моём кармане, – протестовала раскрасневшаяся от негодования Лили.
Зато Зинаида Моисеевна относилась к баронессе с чисто материнской нежностью. Она была её посажёной матерью, помогала в приготовлениях к свадьбе и, при помощи Еноха, наняла в Славгороде квартиру. Аронштейн любезно обставлял «гнёздышко» присланными из Петербурга вещами, в которых было много подношений княгини. Дня два спустя после первого разногласия, между кузинами произошла новая размолвка.
– Разве правда, что сказала мне Зина, будто ты не хочешь быть на моей свадьбе? – спросила взволнованная Лили.
– Правда. Если уж твой брат и никто из твоих близких не желают на ней присутствовать, то с какой стати поеду я в общество, которое мне противно.
– Толя идиот, которого взвинтили мой опекун с женой, и я рада, что их не будет. Но ты с дядей Жоржем, вы меня возмущаете. Он, который сам женился на еврейке, корчит из себя вдруг непримиримого юдофоба. Смешно! Пожалуй, ты не пожелаешь меня знать и принимать с того дня, как я стану m-me Итцельзон.
– Нет, моя нетерпимость не идёт далеко. Я всегда буду помнить кто ты, и приму, когда ты меня навестишь, но бывать в доме m-me Итцельзон не намереваюсь. Отвращение, внушаемое мне евреями, – свыше моих сил.
– Арсений гораздо гуманнее тебя и даже обещал быть у меня шафером.
Нина покраснела до корней волос.
– В самом деле? Я думала, что у него больше такта. Признаюсь, я не предполагала, что он может находить удовольствие на этой толкучке, которая соберётся у тебя на свадьбе.
– Вот видишь! Твоего брата гораздо легче приручить, чем тебя. Он – беспристрастен и отдаёт должную справедливость редким качествам Зины, а не бежит от неё, как ты…
Она громко расхохоталась и поглядела как-то ехидно, так что у Нины сердце тихонько сжало смутное, тяжёлое предчувствие. Она и сама подметила, что в душе брата совершался какой-то роковой перелом.
Тем не менее, Нина настояла на своём и, под предлогом нездоровья, отсутствовала на свадьбе, не обращая внимания на ядовитые замечания Зинаиды и колкости Лили.
На другой день Арсений был в мрачном настроении.
– Ну, хорошо-ли ты себя чувствовал на знаменитом вчерашнем торжестве, и довольна ли осталась m-me Итцельзон? – спросила его Нина, когда они остались вдвоём. Молодой князь рассмеялся.
– О, мадам Итцельзон сияла счастьем. Увидим, вернётся ли она такой же довольной из своей свадебной поездки, какой уехала. На свадьбе было всё специфическое: и тон, и туалеты, и крючковатые носы, и жаргон. Не подумай, однако, что мало было наших, т. е. людей нашего общества. Их была там целая уйма, и вся эта компания держала себя угодливо, чуть не пресмыкалась перед наглым жидовьём. Господи, как люди подлы и низки! Вообрази, что адмирал Весёлый и барон Мерхе или дамы, вроде Рыдловой, Сушковой и, вообще, многие довели своё прихвостничество до того, что поехали провожать молодых на вокзал. Правду, значит, говорили, что все они по уши сидят в долгу у евреев.
Наблюдавшая за братом Нина взяла его руку и крепко пожала её.
– Оставь этих людишек, Арсений, они для нас с тобой мало интересны. Скажи мне лучше, что с тобой происходит? Признавайся, что у тебя на душе? С некоторых пор ты очень изменился. Или я перестала быть твоей поверенной, другом, любимой сестрой, которой прежде ты всегда говорил всё?
Арсений побледнел, встал и взволнованно прошёлся по комнате. Вернувшись затем к сестре, он порывисто обнял её и крепко поцеловал.
– Нет, Ninon, ты по-прежнему останешься всегда моим другом, поверенной, моей надеждой и, когда бремя станет уж слишком меня давить, я обещаю открыть тебе всё. Только теперь я ничего не могу сказать и умоляю тебя, не спрашивай! Ещё одна просьба: если ты меня любишь, не говори папе, что заметила во мне какую-либо перемену.
Удивлённая и встревоженная Нина пыталась убедить его доверить ей своё горе, но, видя, что её убеждения только волнуют брата, она с грустью смолкла.
Глава VIII
Переезд в Славгород совершался по частям. Первой уехала Нина с детьми, гувернантками и Василисой Антиповной. Княгиня отложила свой отъезд на неделю и для этого придумывала разные предлоги, а истинной причиной отсрочки было желание провести это время одной с Арсением. Её интрига с красивым юношей ей нравилась, а с трудом скрываемое отвращение, которое она ему внушала, и, видимо, мучившие его угрызения совести даже забавляли Зинаиду Моисеевну.
Нина нашла, по приезде, что отец был озабочен, грустен и задумчив. Да и действительно, положение князя было тяжёлое, и на деле всё оказывалось гораздо более запутанным, чем он предполагал. С первых же шагов он заметил, что находится на вулканической почве и попал в заколдованный круг, откуда выхода не видел, и где всё было враждебно его политическим воззрениям и административным распоряжениям.
Вице-губернатор, полиция, суд и громадная масса чиновничества были напичканы «либерализмом», который едва ли не примыкал вплотную к революции. Князь тотчас же убедился, что вся чиновная «аристократия» продалась евреям, очень многочисленным в Славгороде, как большом административном промышленном центре. После кровавых январских дней в Петербурге, революционная гидра осмелела, а подпольные листки с прокламациями наводняли улицы, казармы и деревни, вплоть до правительственных учреждений. Губернатор знал о существовании тайных типографий, где печатался этот гнусный хлам; из достоверных источников ему было известно, что еврейство вооружается под видом самообороны; наконец, убийства полицейских нижних чинов и мелких чиновников заливали город кровью всё чаще и чаще. А между тем, преступники оставались неуловимыми, склады оружия и подпольные типографии не разыскивались, тайных сборищ нельзя было накрыть, а полиция являлась либо слишком рано, либо поздно, и бунтовщики злорадно смеялись. Такое положение вещей бесило князя. Между вице-губернатором, фон-Заалем, – остзейским немцем, сыном еврейки и женатым тоже на еврейке, и полицеймейстером Боявским, – вкрадчивым и хитрым поляком, бедный губернатор чувствовал себя бессильным; все его распоряжения встречали глухое, но настойчивое противодействие. Вице-губернатор ухитрялся всегда доказать, что обвинение против евреев – сплошная клевета, а полицеймейстер выставлял зачинщиком или провокатором кого-нибудь из местных русских патриотов. Если же кое-кто из принадлежавших к революционной клике и попадал в руки «правосудия», будучи пойман на месте преступления или с поличным, то суд неизменно оправдывал его, или присуждал к забавному наказанию.
Чтобы бороться с такой молчаливой, но настойчивой и сплочённой шайкой, необходимы были выдающийся ум и железная воля, т. е. качества, которыми не обладал Георгий Никитич. Это был барин с головы до ног, он был добр, честен, любил свою Родину, но вместе с тем был беспечен и легкомыслен, расслаблен усладами жизни.
С приездом княгини дом оживился. Скопление работы и частые отлучки князя развязывали руки Зинаиде Моисеевне. Она много выезжала и принимала, проявила большую деятельность на поприще благотворительности и учредила два общества: одно – для оказания помощи постигнутому голодом крестьянству, а другое – для жертв войны и раненых. Концерты, спектакли, базары и т. д. шли без перерыва, и никто этому так не радовался, как еврейство, которому открыто покровительствовала княгиня, вербуя сородичей в члены своих учреждений. Представители финансового и промышленного мира всё чаще и многочисленнее стали являться в губернаторском доме.
Нину это общество глубоко возмущало. Всё, что происходило вокруг, противоречило её мировоззрению, а к этому чувству негодования присоединился страх за отца, убеждения и положение которого ежедневно подвергались большой, всё выраставшей опасности. Но всего более ей было противно сталкиваться чуть не ежедневно с Енохом, который состоял в двух обществах секретарём, а в других – почётным членом, и принимал деятельное участие во всех затеях своей кузины, что постоянно сводило его с княжной; а ей, как дочери губернатора, было неудобно уклоняться от благотворительных затей Зинаиды Моисеевны.
Аронштейн здесь был совсем иным, чем в Петербурге. Тут он говорил и действовал с большим апломбом, был на равной почве с властями и корчил из себя «аристократа».
В нём не было прежней ледяной сдержанности или горячности, как в столице, и держал он себя с той любезной небрежностью, которая походила на близость. При посторонних в особенности, он ставил себя на родственную ногу и нимало не смущался явным недовольством или презрительным равнодушием княжны. Жаловаться отцу Нина не хотела, видя, что у князя и без того немало забот; но она по возможности сторонилась и перестала посещать «заседания» и «собрания» мачехи с тех пор, как там окончательно водворилось еврейство.
Княгиня с явным неудовольствием отметила это и, как-то раз за утренним чаем, когда они остались с глазу на глаз, заметила со злобным негодующим взглядом:
– У нас сегодня в два часа заседание «Комитета помощи раненым», и я надеюсь, моя милая, что вы не будете отсутствовать. Ваше настойчивое нежелание посещать наши собрания начинает возбуждать внимание и справедливое удивление, что дочь губернатора так равнодушна к общеполезным учреждениям. Богатые и уважаемые люди, оказывающие нам честь своим содействием и присутствием, обижены этим недостатком внимания с вашей стороны, но вам, по-видимому, это безразлично, и вы себя держите, словно не принадлежите к семье и не интересуетесь удачей наших хлопот.
Нина побледнела, и её губы дрожали, когда она холодно ответила:
– Меня удивляет ваш упрёк, Зинаида Моисеевна. Я отлично знаю обязанности, возлагаемые на меня положением отца и, хотя мне это неприятно, но я постоянно принимаю участие в ваших базарах, ваших концертах и т. п. увеселениях. В дамском комитете Красного Креста для шитья белья я же ведь и председательствую; затем я ежедневно посещаю раненых в госпитале. И этот долг, подсказываемый мне больше сердцем, чем моим положением, я выполняю с радостью, но любезничать и ухаживать за теми богатыми и уважаемыми людьми, которые составляют большинство собирающегося у вас общества, мне противно. Я отлично понимаю побудительные причины их щедрой благотворительности. Люди эти, выйдя из подонков общества и разбогатев на ростовщичестве и разорении, словом, на русском поте и слезах, хотят пролезть в высшее общество, чтобы прикрыть своё сомнительное прошлое. Это общество не для меня, т. е. не то общество, к которому я привыкла, и я не вижу причины, могущей заставить меня быть бессменно дежурной в вашей гостиной, чтобы их чествовать.
– Среди других причин вашей нелюбезности, вы забыли упомянуть: во-первых, что часть моих гостей – израильтяне, и это одно делает их, разумеется, недостойными общества княжны; а, во-вторых, что золото такой же противной «жидовки» оплачивает роскошь княжеского дома, позолотило его облезлый герб, а самой княжне даёт возможность важничать, вместо того, чтобы бегать по урокам или коптеть в какой-нибудь конторе. Это вас не коробит?! – злобно прошептала Зинаида. Нина побледнела, и глаза её вспыхнули.
– Золото этой «жидовки» мой отец оплатил своим именем и положением – вознаграждение более чем достаточное за эту унизительную куплю-продажу. Но мне кажется, пора кончить наше неприятное объяснение, и я только прибавлю, что ухаживание ваших еврейских родственников делает мне пребывание в вашей гостиной положительно невыносимым. Я не желаю, чтобы меня преследовали. Поняли вы меня, сударыня?
Зинаида сухо засмеялась.
– Поняла и знаю, на кого вы намекаете. Но я вам отвечу на это: берегитесь! За ваше открыто высказываемое презрение ваш отец может поплатиться и головой. Мои соплеменники доведены до исступления заносчивостью и незаслуженным презрением со стороны христиан; мы идём к полному уравнению в правах, и всё, что осмелится противостать этому или преградить достижение свободы народу, издавна угнетённому, он сметёт со своей дороги. Так что, если вы дорожите жизнью и безопасностью вашего отца, будьте осторожнее и остерегайтесь задевать самолюбие столь же, как и вы, восприимчивого человека. За оскорбление вам воздается сторицей, и я буду бессильна защитить вас: тогда скажут, что я прикрываю обидчиков моих близких.
Нина встала. Она была бела, как её утреннее батистовое платье. Так вот каким пугалом хотят они обуздать её, придавить и подчинить своей воле?! Эта фурия решила действовать на её воображение, чтобы сделать её податливее, и заставить дрожать ежеминутно за жизнь своих близких. Теперь этот кровавый кошмар будет преследовать её денно и нощно.
– Наконец-то вы снимаете маску, – вырвалось у Нины. – Вы, как змея, вползли в нашу семью и принесли с собой позор и горе…
Крепко стиснув руки, Нина со слезами в голосе проговорила:
– Бабушка! Ты была первой жертвой этой ядовитой гадины, защити, сбереги нас твоими молитвами!
В эту минуту в соседней комнате послышались шаги князя.
– Ни слова отцу о нашем споре, – повелительно прошипела Зинаида Моисеевна, схватывая Нину за руку.
– Напротив, его надо предупредить, что ему грозит в случай неповиновения «святому кагалу», – ответила Нина, стряхивая с отвращением её руку.
Князь стоял уже на пороге и с удивлением смотрел то на бледную, дрожавшую от волнения дочь, то на жену, помертвевшее лицо которой отражало гнев и тревогу.
– Что такое здесь произошло, Нина? Что тебя взволновало? – раздражённым тоном спросил князь.
Тяжёлая, жгучая борьба шла в душе Нины. Гнев внушал ей сказать всё откровенно; любовь к отцу удерживала и подсказывала, что было бы жестоко с её стороны обременять его новыми заботами, раскрывая ему, что эта женщина хотела поработить её угрозой его смерти. Она бросилась к отцу на шею, крепко сжала его в объятиях и разрыдалась, а затем вдруг вырвалась от него и убежала.
Князь смерил жену недовольным, холодным взглядом.
– Сколько раз мне надо повторять, что я не желаю сцен между тобой и Ninon. Я требую, чтобы ты оставила её в покое и не стесняла никогда её вкусов, желаний и привычек. Не забывай, что мои дети для тебя – чужие, и я воспрещаю тебе делать им сцены и вступать в препирательства. Помни это!
Он повернулся и вышел из комнаты, не дожидаясь ответа, а Зинаида опустилась на стул. Её мертвенно бледное, искажённое лицо и горевшие ненавистью глаза дышали чисто дьявольской злобой.
– Погоди, – думала она, злобно сжимая кулаки. – Ох, как ты дорого мне заплатишь за все эти оскорбления! Твои дети для меня чужие? Ха, ха, ха! Воображаю твою рожу, когда узнаешь, какое у меня «родство» с Арсением! Ха, ха! А эта кривляка Ninon будет женой Еноха! Клянусь в том именем твоим, Иегова, Великий Бог отцов моих!…
После этого столкновения с мачехой, Нина пила утренний чай в своей комнате и ещё более избегала «благотворительных» собраний княгини.
Лили вернулась из своего свадебного путешествия и поселилась в прекрасной квартире, приготовленной для неё Зинаидой Моисеевной, которая встретила новобрачных даже с хлебом-солью и окружала нежным попечением.
Георгий Никитич с Ниной заметили, однако, что новобрачная сильно изменилась. Она побледнела, осунулась, стала задумчивой и мало общительной, а прежде была весёлой болтушкой.
Раз утром, когда Нина сидела в своём будуаре, горничная подала ей принесённую неизвестным мальчиком записку. Она с удивлением вскрыла конверт и прочла послание Лили, в котором та умоляла назначить ей день, когда она могла бы повидать её тайком по важному делу.
«Приезжай сейчас, – отвечала ей Нина, – время самое удобное. Папа уехал по губернии, а Зинаида Моисеевна гостит у Бродельманов в имении. Я одна дома, и проходи прямо ко мне».
Нина ждала её с нетерпением, ломая себе голову, какая такая тайна была у Лили?
Кузины виделись редко; хотя Лили первое время бывала иногда на собраниях у княгини и принимала участие в базарах и живых картинах, но затем её посещения стали реже.
– Счастье сделало её домоседкой, – вступилась Зинаида Моисеевна, когда однажды речь зашла о Лили, которую она навещала часто.
Нина иначе смотрела на «счастье» кузины, хотя и молчала пока; но когда к Новому году разнёсся слух о крахе банкирского дома Блохер и К°, а Лили, вслед за сим, стала невидимкой, Нина поняла, что её предсказания сбылись, и что кузина если не совсем ещё разорена, то всё же это причинило ей большую неприятность.
Час спустя прилетела Лили с довольно объёмистым узлом в руках, который и бросила вместе с перчатками на диван, а затем протянула обе руки Нине. Та с испугом поглядела на неё, настолько Лили похудела, точно после болезни. Глаза её покраснели и распухли от слёз, одета она была бедно и неряшливо.
– Боже мой! На что ты похожа!
Её слова ударили точно по сердцу Лили. Она закрыла лицо руками и с рыданьем опустилась на стул.
Боясь нервного припадка, Нина дала ей поскорее успокоительных капель и присела рядом на диванчик.
– Увы! Я с грустью вижу, что мои предсказания уже сбылись, – нежно сказала Нина, когда кузина несколько успокоилась. – Скажи мне всю правду, и я охотно сделаю всё, что могу.
Лили старалась подавить охватившую её нервную дрожь и душившие слёзы.
– О, Ninon, Ninon! Как я страшно наказана за то, что вовремя не послушалась тебя! Как я несчастна!..
Она остановилась и выпила поданный ей кузиной стакан воды.
– Что несчастна, это – очевидно; но теперь успокойся и рассказывай по порядку всё, что случилось с тобой после свадьбы.
– Ах, разочарование наступило скоро. Уже во время путешествия этот человек коробил меня в интимной жизни; но пока это было ещё сносно. Я всё надеялась, что он меня любит и что я его перевоспитаю…
Лили тяжело вздохнула и сжала голову руками.
– Но его невоздержанность всё росла, и, наконец, выглянули его низменные привычки; со времени же банкротства Блохера он окончательно снял маску, грубо заявив, что я нищая. Теперь дня не проходит, чтобы он мне этого не выговаривал и не осыпал меня руганью. Затем, в виду моего обеднения, он изменил весь домашний обиход. Мою горничную, повара и лакея он отпустил; у нас теперь только две прислуги на всё, и обе – совсем простые жидовки. А как мы нынче едим, Боже мой! Только еврейскую стряпню: рыбу с мёдом и шафраном, невозможные помои вместо супа, а во всём чеснок. Тьфу! Всё это стряпает грязная баба в атласном парике. Я разучилась обедать как следует и питаюсь тайком у себя в комнате, чем попало, когда ещё есть на что купить. Потому что, ведь, он мне не даёт денег, а что не покупает сам, то покупает прислуга. Я ничем не смею распоряжаться, я просто неудобная мебель в доме. А сам-то он, Боже, как грязен и отвратителен! Он уж и с посторонними больше не стесняется! Если бы ты видела, в каком виде он принимает дам, которые приходят к нему брать уроки пения: старый, засаленный лапсердак, рваные на босу ногу туфли, голова взъерошена и грязные руки.







