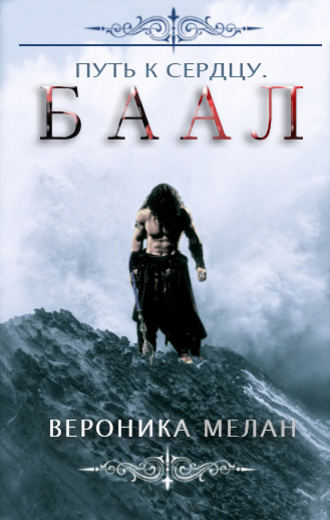
Вероника Мелан
Путь к сердцу. Баал
«…если Любовь как чувство, как посылаемую энергию перестать дозировать, у мужчин растет не только сила воли, но так же излишняя агрессия, тяга к власти и управлению (а так же к самоуправству), развивается желание доказать собственное превосходство, что неизбежно приводило и будет приводить к войнам и кровопролитию. Масштабы катастрофы огромны: в детстве – уличные драки, хулиганство; в зрелости – разработка и использование оружия массового поражения. Мужчины, лишенные женской Любви полностью, становятся злыми, гневливыми и мстительными – страх «меня не любят» впоследствии довлеет над всеми их поступками, формирует неадекватное поведение, порождает тягу к насилию, превращает людей с хромосомой Y в животных. Доказательством тому служит обитающее в лесах вокруг Женской Конфедерации количество «диких», не поддающихся перевоспитанию особей мужского пола, на пути которых стоит единственная преграда – Великая Конфедерационная Стена, спасающая общину Фемид от нападений. Уважаемые гражданки, жительницы Конфедерации, будьте благоразумны и всегда соблюдайте правила «дозирования» посылания Любви мужчинам, описанное в Своде Правил п.5.15.6, ибо только так вы поможете сохранить нашей великой державе спокойствие, процветание и мир…»
Из учебника по Истории. Колледж. 11 класс.
Часть 1. Танэо
Глава 1
Алеста
Толстое стекло разделяло комнату надвое: верхний, выше по уровню и похожий на бункер, этаж, и нижний, залитый солнечным и электрическим светом, «загон». В загоне совершенно голые – без единого лоскута ткани на ступнях или бедрах – на приземистых табуретках сидели трое молодых мужчин. Молчаливые, потупившиеся в пол, с неестественно выпрямленными спинами – так принято. Самый левый – голубоглазый блондин, чьи руки дрожали так сильно, что их приходилось прижимать к коленям, – нервничал; Алеста видела. Он то и дело порывался поднять голову и рассмотреть находящихся за стеклом женщин, но закон не позволял: ошибешься на собеседовании – попадешь не в державу, а за Стену, в лес. И ни тебе профессии, ни зарплаты, ни жены, ни потенциальных детей. И, конечно, ни капли женской любви. Блондин изо всех сил душил любопытство в зародыше и голову не поднимал. Другие двое нервничали меньше (или же так казалось?) – сидели спокойно, руки держали там, где их держат большинство мужчин, – на обнаженных причиндалах.
Хельга, допущенная вести собеседование в третий раз и оттого непривычно важная и деловитая, стояла у стекла, смотрела вниз и улыбалась – ее алые от новой помады губы растянулись в неприятной улыбке. Из угла, где разбирала и сортировала бумаги, Аля поглядывала на нее изредка. Поглядывала и не узнавала: и ведь не скажешь, что сестра – власть меняет людей. А ведь это только третий раз; как изменится Хельга за год? А за следующий? Она и за последний-то месяц растеряла остатки женственности – не принимала это качество и раньше, а теперь и подавно: волосы остригла по плечи, очки стала носить с квадратными стеклами, обувь исключительно на плоской подошве. Все старалась походить на старших коллег – Тильду Богдановну и Улу Валентиновну, сидящих сейчас слева от Хельги и церемонно наблюдающих за процессом «посвящения».
«Посвящение в граждане Конфедерации» – важность-то какая – Аля поморщилась. Благо, помещение темное, и никто не увидел.
А Хельга улыбалась акулой.
– Назовите ваше имя, – приказала она блондину, и тот от резкого звука, усиленного в загоне динамиками, вздрогнул. Неуверенно поднял голову и тут же получил словесный подзатыльник. – Смотреть в глаза без разрешения запрещено! Опустите голову!
Блондин смиренно склонился; Тильда Богдановна и Ула Валентиновна благосклонно кивнули – жесткость в общении с мужским полом здесь ценилась и почиталась.
– Имя!
Аля никогда не слышала в голосе сестры столько стали – первые два собеседования Хельги она пропустила – на стажировку прийти не смогла по причине досдачи последних экзаменов в колледже. Досдала. И теперь полноценно стажировалась в Комитете по приему в Женскую Конфедерацию мужского населения. Когда-нибудь собиралась занять должность Хельги – по крайней мере, на этом настаивала мама.
«Достойно, и люди будут гордиться. А с каким почтением станут относиться к нашей семье!»
Еще бы Аля имела право на выбор…
– Т…тимур Л. литецкий, – прозаикался блондин.
– Возраст?
– Восемнадцать лет.
– Образование?
– Полное высшее. Колледж мужского воспитания.
Хельга постучала себя по щеке ручкой; Але некстати вспомнился брат Савка – однажды и он будет сидеть на этом стуле, проходить собеседование. Через три года. Всего через три года – как быстро летит время. А, помнится, она держала его на руках, играла с ним и безмерно любила его, чем выводила из себя мать, которая орала, что Алеста с детства «залюбит» Савелия – испортит его, превратит в чудовище, ведь не благими ли намерениями устлана дорога в ад?
А потом Савку забрали.
Ей было десять, ему пять. И через три года они увидятся снова – каким он стал? Сильно ли изменился? Возмужал, наверное, вырос, вытянулся. Остались ли его волосы светлыми, какими были в детстве, или же потемнели, как у нее, у Альки? Хельга красилась в блондинку – дома забыли, с какой шевелюрой она родилась.
Собеседуемый Тимур, тем временем, отвечал на вопросы; «Урсулы» – этим единым словом Алеста мысленно объединяла Тильду Богдановну и Улу Валентиновну – придирчиво рассматривали его внешность. Ощупывали глазами, причмокивали губами, отпускали неприличные комментарии по поводу размера «недоросшего» причиндала.
– А ну-ка встань! – скомандовала Хельга, и щуплый парень поднялся с табуретки. – Руки по швам!
Дрожащие руки повисли вдоль боков.
– Двое других, встать тоже!
Соседи по загону подчинились приказу.
– Да нормальный у него член! – удовлетворенно констатировала сестра, и Аля вдруг испытала за нее стыд – ну, зачем в микрофон-то? Да, пусть мужчины, но они ведь тоже люди, тоже живые – зачем унижать-то? Хельга, однако, стыда не испытывала. – У этих двоих, конечно, получше, но и у блондина, когда встанет, вытянется. Детей будет чем заделать. Что думаете, коллеги?
«Урсулы» заперешептывались; Тильда хрипло и неприятно рассмеялась.
Алеста с полыхающими щеками уткнулась в бумаги – хорошо, что ее из-за стекла не видно.
– А тебе, Алеста, который нравится?
Хельга направила взгляд зеленых глаз на Алю – вопрос не был праздным. Этим вечером старшая сестра заберет одного к себе – лишать девственности – привелегирует, так сказать.
Провалиться бы сквозь землю, но как не отвечать? Не отвечать нельзя, она ведь следующая, кто займет эту должность, – Аля расправила юбку, вышла из-за крохотного стола с бумагами, приблизилась к окну. Ей нужно держать лицо, нужно соответствовать – «Урсулы» смотрят. А еще мать – что она скажет, если дочь подведет до официального поступления на работу? Опозорит семью, разрушит надежды.
Алеста прокашлялась. Смотреть на мужчин не хотелось, но она заставила себя.
«Не такими они должны быть – не забитыми, не зашоренными». Все это было как-то неправильно, в корне неверно – их робкие взгляды, их сутулые, несмотря на прямой позвоночник, плечи, отсутствие в глазах интереса. Не мужчины – чахлые взращенные цветы вместо гордых деревьев – эхо былых времен, о которых рассказывала бабушка.
Мужчины за стеклом ждали вердикта, кто краше, – ей стало их жаль.
«А если бы вот так ее? Или Хельгу? А «Урсулы» бы вообще тест на «красоту» не прошли», – эта мысль развеселила.
– Ну, сестренка, с каким бы ты позабавилась этим вечером?
«Ни с каким».
Аля вообще не хотела ни с кем забавиться. И девственность она берегла не потому что надеялась встретить кого-то особенного – ей все равно идти в храм, рожать от Богини, – а потому что не желала видеть рядом с собой в постели робкого и неуверенного, постоянно прячущего взгляд человека.
– Среднего.
Она выбрала наугад, не присматривалась.
– Почему?
Хельга впивалась игольчатым взглядом из-под очков.
Пришлось мужчин рассмотреть – не детально, поверхностно.
– Грудь шире, волосы гуще.
– И яйца у него ниже висят, в руке плотнее будут.
Тильда Богдановна чувством такта не отличалась тоже.
– А я бы крайнего справа, – с зевком отклонилась назад рыжеволосая тетка Ула Валентиновна, и Аля правому не позавидовала – заберет ведь. – Люблю, когда хрен толстый.
«Хрен».
Это слово продолжало звучать в голове Алесты и два часа спустя, когда собеседование завершилось и все вопросы – кем хотите работать, какую получать зарплату, готовы ли начать садовником? – нашли свои ответы.
«Интересно, а как называют мужской член с любовью, если не хрен?»
Хотелось на улицу, на солнце, к киоску с лимонадом. Хотелось пройтись по парку, подышать напоенным сосновой смолой воздухом, послушать гвалт на детской площадке, посидеть у озера.
«Может, и Ташка сможет?»
Едва Аля толкнула толстую дверь Комитетского управления, вышла на улицу и поставила лицо теплый солнечным лучам, «хрен» был забыт.
Лето.
Лето – это пора, когда хмельной от ароматов трав ветер забирается под тонкую ткань белой блузки, когда он – озорник – теребит кружевные рукава и распущенные локоны. Ноздри щекочет запах пестрых цветов, жужжат на лужайках выползшие из кладовых газонокосилки, хозяюшки в разноцветных шляпах полют рыхлые грядки.
Лиллен утопал в растительности, как тонет в пышных юбках любительница балов, – благоухал пряными травами, поглаживал калитки нежными листьями, кивал тысячами голов распустившегося тульника. Шумели липы, шептались вдоль аллей кусты ельховника, блестела под лучами солнца умытая дождем черепица крыш; из распахнутых окон домов через один тянуло пирожками.
Алеста Лиллен любила.
Выросшая на этих ласковых улицах и водимая некогда маминой рукой сначала в садик, затем и начальную школу, она едва ли могла представить, что раньше этот город звался иначе – неприветливо и неказисто – Курдан. Нет, слово «Курдан» этому месту не подходило совершенно. Хотя, раньше, до прихода Конфедерации, и само место было другим – все было другим: страны, люди, обычаи, жизнь. Тогда, еще до Алькиного рождения, когда Женская Конфедерация не воцарилась во всем своем текущем великолепии, как теперь, стран, согласно учебнику истории, было несколько, и все они управлялись мужчинами-диктаторами. И те воевали за все: за плодородные земли, за расширение границ, за власть, за воцарение мира во всем мире. Воевали, и ничего не добились. Зато разрушили храмы Богинь, которых когда-то существовало восемь, – тогда и свершился Уход. Разгневанные небожители покинули мир, превратив почти всю его площадь в Холодные Равнины – сравняли с землей людей и города, обратили почву в камень, оставили людей без благоволения и удачи. Из восьми осталась лишь одна – Дея – покровительница женщин и плодородия, чей храм по случайности остался нетронут, – она и помогла Алькиным прародительницам восстановить мир, а заодно и создать Конфедерацию. И стало тепло и уютно, стало светло и спокойно, и на месте Курдана вырос утопающий в цветах Лиллен. Алькин Лиллен – маленький и любимый.
«Зачем воевали? – часто пыталась понять Алеста. – Зачем что-то бесконечно делили? Почему сразу не могли жить в гармонии?» И не понимала. Силясь разобраться в хитросплетениях истории, она перечитывала школьные учебники по много раз, некоторые места выучила наизусть, но сути – зачем нужны войны? – уловить так и не смогла. А теперь просто радовалась, что их нет. Потому что прежних хватило – если бы не они, до сих пор бы цвела земля Равнин, и жили бы на ней люди, а не демоны. Демоны, которых боялись все – даже дикие мужчины из лесов. И хоть последние умели воевать и до сих пор чинили оружие, с Равнин живым не вернулся никто.
«Вот так-то, – размышляла Алька, и вздыхала. – Дураки. А ведь все могло быть иначе».
Но зачем думать об этом, когда вокруг лето? Когда вокруг жужжат шмели, когда розовеют у оград бутоны, когда свободной и счастливой жизни осталось еще целых три месяца. А потом…
Потому тоже будет жизнь, только другая, новая. Жизнь после Похода.
Ташка смогла.
Пересдала задолженность по философии и теперь сидела на разложенном у самой кромки озера одеяле, щурила зеленые глаза от пробегающих по водяной глади солнечных бликов и ела мороженое – свое любимое, апельсиновое.
Аля облизывала вафельный стаканчик, по краям которого стекал шоколадный пломбир; плюхал лопастями по озерной ряби катамаран, макушки сидящих на нем женщин припекало послеполуденное солнце. Свою рыжую и курчавую голову Ташка прикрыла розовой и почти сползшей на затылок шляпкой, невероятно ей «не идущей», но насчет последнего Алеста, как всегда, промолчала – ей запрещалось комментировать внешность подруги. Ташка – она же Талия – с ранних лет считала, что не удалась, ибо Дея в момент сотворения дочери для Эльзы Геннадьевны – мамы Ташки, – должно быть, пребывала не то в творческом ударе, не то маялась с нектарного похмелья. Иначе откуда бы взялись эти противные веснушки, медные кудри, маленькие зеленые глаза и тонкие губы? Это, что, гармонично? Талия так не считала.
У Али, впрочем, веснушки тоже были, но не на щеках, а россыпью на переносице. И побледнели они, как только Алеста вышла из подросткового возраста, – почти растворились. И Ташка завидовала – не зло, но со вздохами: тебе, мол, и кожа белая досталась, и волосы блестящие каштановые, и глаза карие – не темные, а красивые, кофейные, – и губы пухлые, – а мне что? Рост в метр с шапкой и отсутствие груди. И это почти в двадцать два!
«В двадцать один», – поправляла ее Алеста. А раньше говорила «в восемнадцать», «в шестнадцать», «в тринадцать». Они знали друг друга с первого класса начальной школы – как сели вместе за парту, так и шли по жизни рука об руку – разные, но привыкшие друг к другу, научившиеся ладить, ибо дружба – это всегда ценно. Кто, если не друг, прикроет тебя перед учителем, даст списать, сбежит с тобой с последнего урока в ботанический сад смотреть на бабочек? Кто будет спать с тобой на чердаке под одним одеялом, слушать утром про твои сны, плести тебе косы и помогать воровать из шкафа на кухне печенье? Кто разъяснит философию, сам же посмеется над ней, поддержит, если вдруг упал духом, и придет есть с тобой у озера мороженое? Правильно, Талия. И пусть она всегда завидовала Алькиным губам так, что иногда в шутку лезла целоваться, за что так же в шутку несколько раз получала в лоб пеналом, зато она была другом. Настоящим.
– Хорошенькие сегодня были?
Алеста не стала спрашивать «кто» – и так ясно. После каждого собеседования Ташка напористо выведывала подробности: рост мужчин, цвет глаз и шевелюр, разворот груди, длину «брынки», а так же имена и приписанные им должности. Алька не пыталась скрыть информацию: во-первых, та не являлась секретной, а во-вторых, если уж Ташка делалась напористой (а напористой она делалась всегда, как только разговор касался мужчин), проще было сдаться без боя.
– Нормальные. Обычные, – и она описала внешности.
– И ты никого не выбрала?
– Нет, конечно, – Алька поморщилась, – зачем мне выбирать?
– Ну, Хельга наверняка опять уведет одного. На пробы.
– Да пусть ведет хоть всех.
Подруга шумно всосала в себя растаявший верхний слой мороженого, причмокнула губами и воззрилась на Алесту.
– Неужели тебе не интересно попробовать, как это – в постели с мужчиной – до Похода? Ведь так и родишь девственницей.
– И что?
– Ну, это старомодно.
– А лежать в постели с… – какое-то время Алеста не могла подобрать нужного слова, – рабом – это модно?
– Ну, они не совсем рабы…
– Рабы. Подчиняются каждому твоему слову.
– А как должно быть, Алька? Подчиняются, потому что так надо, потому что так правильно, потому что иначе было бы, как раньше.
Они говорили об этом не в первый раз – наверное, в сотый, даже в тысячный. И каждый раз Ташка была на стороне Конфедерации, а Аля выступала инакомыслящей. Неким индивидом, не способным понять причину установленных правил, – борцом за справедливость. Хотя, за какую справедливость, если, вроде бы, все справедливо?
Она могла бы не ходить к Богине – отказаться. И выбрать мужа. Жить с тихим, подчиняющимся каждому ее слову человеком, родить мальчика (ведь от мужчин рождаются только мальчики – проклятье Неба), после отдать его в воспитательный дом и заниматься карьерой. А к Богине могла бы сходить позже – положим, в тридцать или даже сорок – Дея была благосклонна в любом возрасте. Но как быть с матерью, которая либо изобразит сердечный приступ, либо свалится с настоящим, если Аля откажется собираться в Поход?
«Ведь только от Деи рождаются девочки! Ты разве не хочешь родить дочь, снискать уважения в обществе, подкрепить собственный статус?»
Дочь Алеста хотела. А на уважение и статус ей было плевать. Хотелось романтики, хотелось любви, хотелось, чтобы все было так, как рассказывала бабушка.
– Ждешь большого чувства? – Ташка прочитала Алины мысли – теперь она смотрела второй катамаран, присоединившийся на озере к первому; солнце медленно описывало дугу и клонилось к стене. – Твоя бабушка жила в другие времена – теперь такого не бывает.
Аля молчала.
– Теперь нет сильных мужчин – мы не позволяем им. Потому что грань слишком тонка, потому что если любить их, как раньше, начнутся войны.
– Может, не начнутся.
– Хочешь проверить, зайдет ли на круг история? Зайдет.
– Но мы выделяем им всего по несколько минут в день. Этого мало!
Ташка вновь задела «живую» тему.
– Не мало! Как раз. Хочешь развить им силу воли, выпрямить им спину? Как только они почувствуют, что ты мягкая и прогибаешься, начнут сосать из тебя, требовать, давить.
– Ты становишься, как моя мама.
– А кто сказал, что твоя мама не права?
Альке, несмотря на теплый и почти безветренный день, вдруг расхотелось сидеть на берегу. Захотелось не домой, нет, но туда, где можно побыть одной, – побродить, помечтать, поразмышлять. И, может быть, тогда найдутся ответы на все вопросы – на главный вопрос: почему она – Алька – не такая? Почему не может жить, как все; почему каждый день ощущает, как что-то скребет душу, не дает ей покоя. Почему не хочет идти к Дее, почему не желает подчиняться правилам? Почему-почему-почему…
– Я пойду, Таш.
– Эй, ты чего?
– Ничего, устала после собеседования.
И, ощущая на себе растерянный взгляд подруги, – «я сказала что-то не то?» – Алеста поднялась с одеяла.
* * *
«Мы возвели новые дома. Без мужчин.
Мы вымостили дороги. Без мужчин.
Мы вывели инфраструктуру на новый уровень. Без мужчин.
Мы отстроили новые города. И снова без них.
Мы научились жить в мире без драк, алкоголизма, наркотиков и насилия.
Мы – лучшая часть этой планеты, независимая от выживания, покуда с нами Дея – да благословит ее деяния Господь. Да здравствует Дея! Вечная, милостивая к дочерям своим и щедрая на плоды земли и чрева…»
Из учебника по Религии. Колледж, 4й класс.
Аля мечтала любить – открыто, честно, в том объеме, в котором желало сердце, – и то была единственная несбыточная мечта из всех ее маленьких и больших мечтаний.
Нечестно.
Почему женщинам дозволялось любить все – дом, семью, животных, детей (девочек), – но только не мужчин? Женщин, к слову сказать, заставляли любить все вокруг, поскольку ученые считали, что если Источник Любви, расположенный в женской груди в переплетении энергетических каналов, бездействует, то Любовь обращается в Злобу – противоположный ей тип энергии. И, значит, Любовь должна, обязана течь. Хотя бы куда-то, иначе она, не выпущенная на свободу, все разрушит.
Но какими правилами можно прописать, куда именно течь любви? Почему решили, что можно избирательно направить энергию на какой-либо объект? А как же собственное желание, тяга, потребность любить то, что любится, а не то, что приказывают?
Аля маялась.
Она любила свою семью и свой город, но тяготилась от навязанной избирательности.
Да, у женщин есть Источник Любви – доказано. У мужчин Источник Любви тоже есть – тот, что помогает женщинам стать женственнее, – от него современное общество отказалось без раздумий – мол, нам неважно быть женственными. А вот что на самом деле важно, так это не дать мужчинам взрастить волю, ведь именно Любовь женщины взращивает в мужчине веру в себя, веру в свои силы – Мужественность. А излишняя Мужественность ведет к войнам и агрессии, и, значит, Любовь придется дозировать. Мужьям выделить по полчаса Любви в день, неженатым мужчинам по пятнадцать минут. И настроили ведь специальные дома, куда эти бедолаги ходят, получают свою порцию ласки, становятся временно счастливыми.
И становятся ли?
Аля не понимала, как можно «ласкать» по заказу? Неужели у кого-то выходит здесь «любить», а здесь «не любить»? Это как переключать положение выключателя – лампочка горит, лампочка не горит?
О том, «как» и «когда» женская Любовь стала разменной монетой, Алеста знала из учебников истории, вот только принять этот факт до сих пор не могла. Не логикой даже – сердцем. Женщины испокон веков были – не ниже, нет – другими. С другой ролью, другими целями в обществе, никогда ранее они не стояли в иерархии выше мужчин – неправильно это. И за подобные слова Алю бы оштрафовали, как однажды бабушку Агафью, которая и втолковывала маленькой еще тогда внучке собственное мнение:
– Вот отец мой, твой прадед, – он был романтик. Он умел завоевывать, понимаешь? Умел добиться женщины, настоять, сделать ее своей. Умел быть и мягким, где надо, и жестким, когда требовалось. А что сотворила с нами Конфедерация? Ты вырастешь, внученька, ты все увидишь.
Алька выросла. И увидела, что все, вроде бы, правильно, вот только мысль про прадеда и его умение завоевывать женщину прочно засела в памяти – совсем как сказочная история, в которую хотелось верить.
А жизнь уже расписана – жизни нет. Потому что есть мать, и ее желание видеть дочь на административной должности. Хельгу туда уже пристроили, затем пристроят и Алесту. После сгоняют обеих до храма Деи, встретят на пороге уже беременных и девять месяцев спустя примутся радостно растить внучек – новых гражданок Великой Женской Державы.
Хотелось плеваться.
И еще не хотелось отпускать от себя детство.
– Детство, Алечка, – говорила бабушка, – это безмятежность. Это когда твой мозг не затуманен страхом, чувством вины и обидой. Не из любви рождается злоба, Аленька, совсем нет – из вины. Потому и мужчины в лесу дикие, потому что виноватые.
– А в чем виноватые, бабушка?
– В том, что их никто не любил. И, значит, не были они достойны, значит – плохие. Чувство вины все рушит, не любовь. Так что люби все, что захочется, Алюшка, а вот вину не копи, не живи для других.
Но на дворе июнь. А через три месяца день рождения и Поход. Иначе мать, иначе разочарования, иначе Алька плохая.
«Не копи», – учила бабушка.
Правильно учила. Но чувство вины разрасталось.
* * *
– Представляешь, Альке опять никто не понравился.
– Не зови ее Алькой.
– Почему, если она Алька?
– Она – Алеста!
Мать чинно восседала во главе стола, Хельга спиной к телевизору, отец ютился с краю. Ел он всегда, понурив голову, во время разговоров молчал, газет не читал – ему запрещалось. Он читал их по ночам, втихаря, когда Ванесса Терентьевна, завершив вечерний моцион с последовательным наложением на лицо пяти увлажняющих масок, уплывала из ванной в спальню, гасила ночник и спустя несколько минут начинала посапывать. Тогда скромный Антон Львович – в обращении жены просто «Тошик» – спускался вниз, уединялся в кладовой и при свете тусклой лампочки перебирал периодику: пожелтевшие от времени газеты и старые, оставшиеся еще от деда, журналы. Несколько раз он порывался оформить подписку на новую «Науку и Технику», но жена лишь строго поджимала губы, и «Тошик» неслышно вздыхал. Альке хотелось сделать ему подарок на следующий день рождения – оформить подписку на себя и тайно подкладывать «Науку и Технику» в кладовую, но мать, узнав про такое, взмылила бы головы им обоим. Приходилось страдать – отцу без подарков, дочери без возможности их делать.
– Он тебе не отец! – давила мать, если Алька пыталась что-либо возразить. – Он отец Савки. И просто мужчина, который числится в нашей семье моим мужем. А ты рождена от Деи, и не забывай этого! Молись.
Аля молилась, но Антона Львовича отцом считать не переставала. Ну и что, что не родной отец? Читать маленькую учил? Учил. Кататься на велосипеде учил? Учил. Мороженым в парке кормил – чем ни отец? И ведь любил по-своему, как умел.
Ужин продолжался.
Дожевав салат, мать положила себе из сотейника пару котлет, обильно полила их соусом и задумчиво, погрузившись в воспоминания, посмотрела на Алесту.
– А ведь я хотела назвать тебя Констанцией. Сильно хотела.
Алька едва не поперхнулась – Констанцией? Это громоздкое и неповоротливое имя почему-то напоминало ей ржавый, лежащий на свалке развороченной кучей металла локомотив. Монументальный, неподъемный и совершенно не гибкий.
Не то что «Алька». Алька – это что-то уютное, родное, где пахнет дождем, где по шалашику из веток стучат капли, где за стенами шумят сосновые ветки. Алька – это когда утром кофе с корицей, а в окно солнце, Алька – это легкие шаги по улице, а пальцы касаются листьев кустов; Алька – это бесконечный мир фантазий – живой, подвижный и пахнущий сказкой. Ну и подумаешь, что Хельга произносила «Алька» по-ругательски, с насмешкой. На то она и сестра. Вредная и старшая.
– Это все Тошик. Он настоял на Алесте – сказал, красивее. Единственный раз тогда поддалась его уговорам и до сих пор жалею.
Алька посмотрела на отца, на секунду встретилась с его виноватым взглядом, после чего тот быстро опустил голову – он молчал, всегда молчал. Сносил все шпильки, унижения, а Алесте отчаянно хотелось, чтобы он вспылил. Вдруг поднялся, повысил голос, ударил кулаком по столу и сказал «хватит!» – чтобы все вокруг увидели, что – да, он мужчина, – но, главное, он ЧЕЛОВЕК!
Но отец не поднимался – делал вид, что разговоры его не касаются, что обиды ему чужды, что он вообще находится не здесь, а где-то еще – за стеной собственного невидимого мира.
Алька вздохнула; котлеты в горло не лезли. На экране телевизора плыл ряд из незнакомых лиц – все девушки, все одеты в военную форму, и у каждой в глазах такая гордость, будто это она только что защитила грудью Храм Деи. Не менее гордо звучал из-за кадра и голос ведущего:
– …Община гордится, что в этом году число рекрутов превысило прошлогоднюю численность почти вдвое – на постоянную воинскую службу с начала месяца заступило три тысячи окончивших Военный Колледж фемид. Мы гордимся вами, Женщины, – Женщины с большой буквы. Мы спокойны, зная, что периметр Стены охраняют такие доблестные Воительницы, славные последовательницы покинувшей нас богини Боллы…
Телевизор продолжал вещать; мать никогда не выключала военный канал – прислушивалась к нему и сейчас.
– Кстати, Алеста, ты еще не готова к Походу? Все чего-то ждешь?
– У меня еще три месяца боевой подготовки впереди.
– Ты прекрасно владеешь мечом, у тебя отличные отметки. Зачем дополнительная практика?
Именно за это Алька ненавидела ужины: за то, что во время них неизменно, не нарочно, но крайне очевидно оскорбляли отца, и за то, что именно сейчас – в мирные вечерние часы – за столом поднималась тема ее Похода.
Неужели мать не понимала, что Алеста не готова, что она попросту боится идти? Конечно, Дея вроде бы охраняет дорогу к храму – храму, который, к слову говоря, находится за Стеной, – но как быть с засадами? А если ее утащат в лес Дикие? Что, если сделают своей рабыней, привяжут в одной из хижин и будут по очереди измываться над ее телом – мстить, избивать, чернить его? Бить, конечно, не сильно – чтобы могла рожать. Каждый год – мальчика за мальчиком. Ведь им как-то нужно продолжать свой род…
Плен был хуже смерти. Уж лучше в Равнины, лучше монстрам на съедение, лучше за последнюю черту.
– Я… не готова.
Алька чувствовала, что злится. Злится не на шутку, всерьез, той обидой, что остается после в душе на годы.
– Не готова? Трусиха!
– Пусть так!
– Я два раза туда ходила, и ничего со мной не сделалось!
– Живи и гордись.
– Алеста!
Уходить из-за стола до матери считалось дурным тоном, но пальцы сами легли на скатерть, а ноги спружинили – Алька поднялась и бросила в тарелку скомканную салфетку.
– Своевольная, да?! – взревела Ванесса Терентьевна. – Гонор начала проявлять?! А ведь еще двадцати двух нет…
Ее лицо, обрамленное мелкими, похожими на собачьи букли кудрями, покраснело; тонкие брови грозно съехались к переносице.
– Не голодная, спасибо.
И Алька поспешила в коридор.
– Нет, вы только посмотрите! Это она в кого такая, в тебя? – в моменты злости мать почему-то забывала, что родила Альку от Деи, а не от Антона Львовича, и лила на последнего раскаленную мстительную лаву. – В тебя? Это все, потому что имя неправильное! Была бы Констанцией, была бы послушной!
Хельга деловито звякала вилкой; отец молчал.
Под напряженное, похожее на бычье, сопение матери телевизор залил комнату пафосным гимном Женской Конфедерации.
(Fox Amoore – Myre)
Грусть всегда выплескивалась у Альки в потребность любить. Упереться взглядом во что-то хорошее, светлое, залипнуть глазами в картину и мысленно хотя бы на минуту перенестись туда, затискать сидящих на крытом пледом диване плюшевых игрушек. Проследить за тянущимся через комнату косым солнечным лучом, прокатиться по его перемеженной пылинками спине, поверить, что из светлого пятна на полу может вырасти солнечный цветок. Чем тяжелее делалось на сердце, тем сильнее хотелось верить в чудо и тем жаднее росла потребность обратить себя в хорошее.
Комната из-за заката светилась оранжевым – напиталась сочным мягким апельсиновым светом и бережливо плескала его от стены до стены, от окна до окна. Хорошо, когда окна на первом этаже – всегда можно вылезти наружу, побродить по саду, добежать до прохладного пруда и окунуть в него руки, ненадолго потеряться в растущем на опушке ельнике.
В ельник не хотелось, к пруду тоже. Теплый ветер качал растущие на подоконнике медунки; по саду, обнаженный по пояс и одетый в синие заляпанные штаны, ходил босой садовник – таскал за собой свернувшийся змеиными кольцами шланг, поливал грядки. Иногда он бросал шланг у ягоды и брался стричь кусты, чавкал босыми пятками в меже у малины.
Садовник появился в их доме две недели назад – молодой парень со светлой вихрастой макушкой, тихий и нетребовательный. Ел в подсобке, спал в сарае, голову никогда не поднимал, не спорил, работал от заката и до рассвета. Садовник-мужчина – прихоть матери, ее способ продемонстрировать соседям зажиточный статус.
«Ну и что, что дорого? Мы можем себе позволить…»
Позволить новый гарнитур из орехового дерева, катанский ковер в прихожую, сервиз из тончайшего стекла с золотым орнаментом, садовника…







