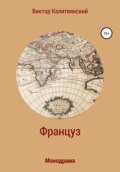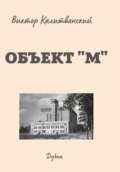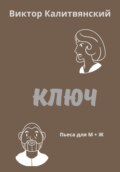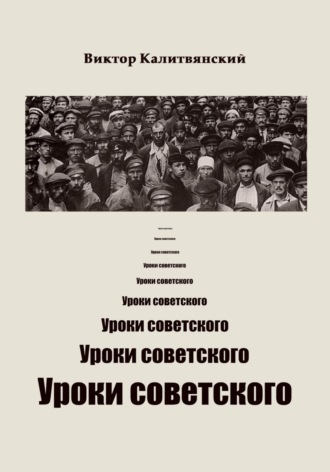
Виктор Иванович Калитвянский
Уроки советского
Война. Триумф и трагедия
И в одной бессмертной книге
будут все навек равны —
Кто за город пал великий, что один у всей страны;
Кто за гордую твердыню, что у Волги у реки,
Кто за тот, забытый ныне, населённый пункт Борки.
И Россия, мать родная –
почесть всем отдаст сполна…
Александр Твардовский
В истории каждого народа есть ключевые события, которые становятся символами-мифами, которые переходят из поколения в поколения, которые во многом формируют мировоззрение нации.
У Франции это – Столетняя война, Великая Французская революция, наполеоновские завоевания.
У Англии – Хартия вольностей, победа над испанской Армадой, Ватерлоо, Трафальгар.
У США – война за независимость, принятие Билля о правах.
И у исторической России таких символов немало. Разгром немецких рыцарей Александром Невским в 1241 году. Победа Дмитрия Донского в битве с татарами в 1380 году. Изгнание поляков народным ополчением Минина и Пожарского в 1612 году. Отечественная война 1812 года и вступление русских в Париж в 1814 году.
Для Советского Союза такие даты-символы – Великая Отечественная война и полёт в космос Юрия Гагарина.
После окончания Великой Отечественной войны постепенно отлилась «бронзой многопудья» формула Победы. Формула такая. Великая победа над мировой угрозой – немецким фашизмом. Достигнута победа великим напряжением всего советского народа. Под руководством Коммунистической партии во главе с генералиссимусом Сталиным, который внёс огромный вклад. Волю и мысль Сталина проводили в жизнь его верные маршалы во главе с гениальным Жуковым. А на полях войны, в окопах победу добывали рядовые и офицеры Советской армии. Да в тылу ковали эту победу гражданские лица – на заводах, в колхозах.
Кто-то спросит: а с чем тут можно спорить? Когда-то казалось – спорить не с чем. Но постепенно вопросы появились. Их, вопросов, становится всё больше. И невозможно просто отмахнуться от них.
Например, такие вопросы.
В чём причина военных катастроф 1941 и 1942 годов?
Почему потери СССР в войне многократно превышают потери наших союзников и противников?
Насколько Советский Союз участвовал в становлении и укреплении гитлеровского режима в Германии?
Мог ли СССР предотвратить мировую войну или хотя бы добиться того, что она началась в менее благоприятных условиях для Германии?
Есть такая точка зрения, что отвечать на эти вопросы – чернить память погибших, принижать роль советского народа в победе над фашизмом.
У писательницы Светланы Алексиевич есть замечательная книга «У войны не женское лицо». Но у войны и не генеральское, не маршальское лицо. У войны – лицо простого солдата, которого вырвали из мирной жизни и бросили под пули и снаряды.
Таким простым солдатом был мой дед, рядовой Красной Армии Иван Захаров, орловский крестьянин. На пятом десятке призвали его защищать на фронте советскую власть, которая раскулачила его вместе с отцом и братьями в коллективизацию. Дед ушёл воевать и не вернулся, погиб в 43-м году. Таким простым солдатом был и мой дядя, старший брат моей матери. Он прошёл фронт, немецкий концлагерь и умер от чахотки. И обе моих бабушки умерли в 1946 году, не пережили войну.
Четверо умерших взрослых и восемь полных сирот-детей – вот какова оказалась цена победы для двух советских семей. И эта страшная цена даёт нам право задавать вопросы и пробовать отвечать на них, – как можем, по совести.
Всем тем, кто внёс свой вклад в великую победу, вечная наша благодарность.
Всем, и живым ещё, и погибшим, и умершим от ран – вечная наша память.
Но эта благодарность и эта память должны давать нам силы – разобраться в том, что было. Чтобы страшные и великие жертвы были не напрасны, чтобы уроки войны были выучены крепко-накрепко и на все времена.
Как известно, война – это продолжение политики. Продолжение – другими средствами, военными.
Одно из положений древней китайской философии гласит: если ты допустил войну – ты уже проиграл. Проигрыш заключается в том, что война – это громадное напряжение народного, общественного организма. Война – это безвозвратные потери ресурсов, в том числе самого главного – человеческого. Но никакие философские истины не способны остановить диктатора-правителя от соблазна ввязаться в войну, если это ему покажется выгодным. Каждый такой правитель, начинавший войну, не мог быть уверен, что закончит её успешно и усидит на своём месте, но история человечества – это в немалой степени история войн.
Как известно, большевики считали войну вполне приемлемым политическим средством. Советский Союз всегда готовился к войне – в каждый период своей истории настолько, насколько мог себе позволить по политическим и экономическим соображениям.
«Индустриализация», проведённая сталинским государством за счёт разорения деревни, – в немалой степени была нацелена на создание мощных оборонных отраслей. К концу существования советского государства военно-промышленный комплекс занимал ведущее положение в экономике, вместе с армией он поглощал около 25 % национального дохода. В машиностроении военные предприятия давали, по разным оценкам, от 62 до 90 % совокупного объёма производства.[51]
Основы милитаризации страны были созданы в 30-ые годы. Сталинское руководство страны сделало должные выводы из итогов первой мировой войны. В 1917 году в русском Генштабе была подготовлена записка с анализом состояния дел в армии и военной промышленности. Главными проблемами генштабисты называли недостаточные возможности правительства по управлению военными заказами при размещении их на частных предприятиях, отсутствие ряда образцов военной техники и зависимость от поставок из-за границы.
Советская военная промышленность создавалась в таких масштабах и в такой номенклатуре предприятий, чтобы полностью обеспечить армию образцами современной боевой техники. Мало того, разработка образцов вооружений осуществлялась на конкурентной основе: почти по всем основным направлениям работали два-три конструкторских бюро. Не будет преувеличением сказать, что с начала 30-х годов чуть ли не вся хозяйственная жизнь страны была нацелена на подготовку к будущей войне.
В 1936 году создаётся Наркомат оборонной промышленности. Но темпы роста военной отрасли очень велики, управление предприятиями усложняется, и в 1939 году образуются новые наркоматы: авиационный, судостроительный, вооружений и боеприпасов.
За 10 предвоенных лет среднегодовое производство увеличилось: стрелкового вооружения – в 7 раз, орудий и миномётов – в 25, танков – в 4, самолётов – в 9,5 раза.[52]
Быстрыми темпами увеличивается и состав Красной армии. Численность армии в 1924 году – 562 тыс., в 1930–700 тыс., в 1935–930 тыс., в 1937–1, 6 млн, на конец 1939 года – 1,9 млн, на 1 мая 1940 года – 3, 9 млн, на июнь 1941 года – 5,3 млн. С 1940 года в сухопутных войсках служили по 3 года, в авиации – 4, на флоте – 5 лет.[53]
Понятно, что такие темпы вооружения и роста численности армии требовали огромных бюджетных затрат. Социальное развитие страны, обеспечение сельского хозяйства техникой – всё шло, что называется, по остаточному принципу.
К началу второй мировой войны СССР – одна из ведущих военных держав мира. По некоторым видам вооружений СССР – абсолютный лидер. Танков, например, у Красной армии столько, сколько у всех остальных армий мира вместе взятых.
К 22 июня 1941 года соотношение немецкой группировки войск и их союзников у границ СССР к советской группировке составляет условные 1,2 к 1. 190 немецких дивизий (5.5 млн чел.) противостоят 170 (2.9 млн чел.) советским. Орудий и миномётов у немцев более 47 тыс., у советских войск – около 33 тыс. Танков и самолётов значительно больше у Красной армии – 14 тыс. против 4 тыс., 9 тыс. против 5 тыс.[54]
Несмотря на многолетнюю подготовку к войне, её начало оказалось крайне неудачным для Советского Союза.
Отдельные части, дивизии и группировки войск Красной армии героически сопротивляются, однако немецкие войска быстро продвигаются вглубь советской территории. За первый месяц боёв немцы оккупировали территорию, вдвое превышающую Францию. Сценарий сражений был почти всегда один и тот же: глубокие фланговые удары танковыми соединениями, окружение целых дивизий и армий. Например, в киевской стратегической оборонительной операции безвозвратные потери (убитыми, умершими от ран и пленными) составили 98 % от численности советских войск…[55] Попытки перейти во встречное наступление приносят одни неудачи, увеличивая потери.
Начальник немецкого генерального штаба Гальдер, удовлетворённый ходом событий, написал в дневнике 3 июля: «…не будет преувеличением сказать, что кампания против России выиграна в течение 14 дней. Конечно, она ещё не закончена. Огромная протяжённость территории и упорное сопротивление противника, использующего все средства, будут сковывать наши силы ещё в течение многих недель».[56]
И хотя план разгрома Советского Союза под названием «Барбаросса» по срокам не был выполнен, через четыре месяца немецкие армии стоят под Москвой. Оставалось взять столицы и выйти на рубеж Архангельск – Волга.
Потери советских войск – гигантские. К концу 1941 года разгромлено и уничтожено 177 дивизий и 18 бригад.[57] Количество танков в действующей армии по сравнению с началом войны снизилось в 6,5 раз (с 22,6 тыс. до 2,2. тыс.), самолётов – в 1, 7 раза (с 20 тыс. до 5,4 тыс.).[58] Безвозвратные потери – более 3 млн солдат и офицеров – это больше, чем вся советская группировка на западных границах накануне войны.[59] Из них пропавшие без вести и попавшие в плен – более 2 млн.
О безвозвратных потерях германских войск Гальдер делает запись в дневнике 5 января 1942 года: около 210 тыс. чел.[60] То есть – в четырнадцать раз меньше… Эта ужасная разница складывается в основном за счёт пленных: у немцев их почти в семь раз меньше. Однако по сравнению с теми потерями, которые понесла германская армия за два первых года войны (100 тыс.), потери в боях на территории СССР очень велики. В сущности, немецкая армия была обескровлена.
К декабрю советское командование подтянуло к Москве новые дивизии, и немцы были отброшены на 100–150 километров на запад.
Такой же масштаб потерь Красной армии будет и в 1942 году. В дальнейшем потери будут снижаться, а для немцев, наоборот, расти – так что общая разница станет существенно меньше.
1942 год советское командование во главе со Сталиным решает сделать годом окончательного разгрома оккупантов. Зимой советские войска начинают наступательные операции на Центральном фронте, но серьёзных успехов нет, а потери очень велики.
В мае попытка наступления в районе Харькова заканчивается полным провалом, а немецкие армии наступают всё лето на южных направлениях, в результате фронт отодвигается на восток до линии Воронеж – Сталинград – Северный Кавказ.
Под контролем противника – почти половина европейской части страны.
Но ресурсы Германии – на исходе. СССР выставляет всё новые и новые дивизии – уже третью по счёту армию формирования!
Сталинградская битва заканчивается разгромом немецкой группировки, и с первых месяцев 1943 года фронт движется только в одну сторону – на запад. Война продлится ещё целых два года, но исход её уже ясен.
Для того чтобы точнее разобраться в итогах войны, надо немного изменить привычный исторический взгляд. Например, попытаться провести сравнительный анализ хода и итогов двух мировых войн по отношению к России и СССР. Такой анализ даёт богатую пищу для размышлений.
Принято считать, что первая мировая война закончилась для России самым печальным образом: империя рухнула, завершилась история монархической России. Это действительно так. Однако собственно военные итоги противостояния России с Германией и Австро-Венгрией в первой мировой войне можно и нужно рассматривать отдельно от последствий русской революции, в результате которых русская армия развалилась и открыла фронт. И если отделить эти последствия от собственно итогов военных действий, то получается такая картина.
Возьмём для рассмотрения военное положение России с одной стороны и Германии с союзниками с другой к 1917 году, то есть – до начала революционных событий. К этому времени война продолжалась уже почти два с половиной года. Было проведено несколько наступательных компаний, как немцами и австрийцами, так и русскими. В 1914 году русская армия сражалась в Восточной Пруссии и Галиции, пытаясь перейти в стратегическое наступление. 1915 год стал годом локальных поражений и так называемого «великого отступления», когда русская армия отступала по широкой линии фронта. В 1916 году русская армия реабилитировалась, летом произошёл знаменитый «Брусиловский прорыв», когда Юго-западный фронт впервые в современной истории осуществил прорыв и стремительное наступление на большом участке фронта. Все военные действия велись в коридоре от Балтийского моря до южных Карпат (не считая турецкого фронта) шириною до 1000 км.
Вот как оценивал в начале 1917 года положение на Восточном фронте генерал Нокс, глава британской миссии в России:
«Перспективы были более многообещающие, чем виды на компанию 1916 года… Русская пехота устала, но меньше, чем год назад… почти всех видов вооружений, боеприпасов и снаряжения было больше, чем когда-либо… Качество командования улучшалось с каждым днём… Нет никакого сомнения в том, что если бы тыл не раздирался противоречиями… русская армия увенчала бы себя новыми лаврами… и, вне сомнений, нанесла бы такой удар, который сделал бы возможным победу союзников к исходу года».[61]
Итог военных действий к началу 1917 года таков: фронт стабилизировался на линии Рига – Двинск – Барановичи – Ровно – Черновцы.
Потери территории – Польша и несколько белорусских и украинских областей.
Теперь обратимся к положению на Восточном фронте второй мировой войны на исходе двух с половиной лет.
Фронт к началу 1944 года проходит на несколько сот километров восточнее тех рубежей, где стояла русская армия в начале 1917 года. То есть в стратегическом смысле разница невелика.
Но если в первую мировую все боевые действия велись в полосе глубиною 500–600 км либо в западных губерниях России, либо на территории противника в Восточной Пруссии или австрийской Галиции, то во вторую мировую картина совершенно иная.
Военные действия к началу 1944 года ведутся только на территории СССР. Полоса боёв: глубиною от тысячи до полутора тысяч километров с запада на восток (от Карпат до Волги) и более двух тысяч километров с севера на юг от финской границы до Кавказских гор.
В первые месяцы войны советские войска только отступают, а иногда, говоря бытовым языком, – бегут. Какой контраст с действиями русской армии в самом неудачном году первой мировой, в 1915! «Наш фронт, лишённый снарядов, – пишет в своих воспоминаниях генерал Деникин, – под сильным напором противника медленно отходил шаг за шагом, не допуская окружения и пленения корпусов и армий, как это имело место в 1941 г., в первый период Второй мировой войны, при советском режиме».[62]
За полтора года боёв на собственной территории к концу 1942 года врагу отдана почти половина европейской части СССР. К западу от линии Ленинград—Калинин—Москва—Тула—Воронеж—Сталинград—Нальчик – хозяйничают оккупанты. Миллионы советских людей истреблены или отправлены в Германию на принудительные работы.
Всего на территории Советского Союза за время войны было разрушено более 1700 городов и более 70 000 деревень. Уничтожено более 31 тыс. заводов и фабрик, 13 тыс. мостов, 65 тыс. километров железнодорожных путей. Значительно пострадало сельское хозяйство, более всего в животноводстве: поголовье крупного рогатого скота сократилось вдвое, свиней – втрое. По некоторым оценкам, Советский Союз потерял более 30 % национального богатства…[63]
С какой целью дан этот сравнительный частичный анализ действий русской армии в первой мировой и советской армии – во второй мировой войне?
В советской исторической науке (а также в головах советских и российских граждан) утвердился тезис о бездарности русского военного командования в первую мировую войну, хотя и признавались отдельные достижения вроде «Брусиловского прорыва».
Одновременно с этим тезисом в массовое сознание внедрялся другой – о гениальности советских полководцев во главе со Сталиным.
Приведённый нами анализ показывает, что оба этих тезиса – ложны. В истории обеих мировых войн можно найти примеры и блестящих, и бездарных операций и русской, и советской армии. Чтобы понять суть произошедшего в полной мере, мы должны иметь полную, истинную картину событий. Только в этом случае можно оценить эффективность государственного управления в целом и отдельных политических деятелей в частности, их роль в поражениях и победах. Для этого необходимо очистить историческую и военную науку от мифов, передержек, искажения масштабов явлений.
Маленький пример. Поражение русских армий в Восточной Пруссии в начале первой мировой в советско-российской исторической науке принято называть «катастрофой».
Если этот эпизод – катастрофа, что же такое – итоги военных действий в 41-м и 42-ом годах для Советского Союза? Ищешь слово – и не находишь подходящего в богатейшем русском языке, чтобы точней выразить масштабы потерь, бедствий и горя.
Во второй мировой войне наша страна потеряла по разным оценкам от 8 до 20 млн человек на фронте и до 15 млн мирного населения. Соответствующие потери Германии – 5–6 млн и 2–3 млн (точных, всеми признанных цифр нет до сих пор). При этом, военные потери Германии на Восточном фронте, составляли, по разным оценкам, от 3 до 4 млн солдат и офицеров.
Кто несёт ответственность за такую эффективность ведения военных действий, когда на каждого убитого противника приходится как минимум 3–4 собственных военнослужащих?
Широко известны слова Суворова о том, что настоящий полководец побеждает не числом, а уменьем. Это было сказано по поводу разгрома адмиралом Ушаковым турецкого флота в Чёрном море у мыса Калиакрия 31 июля 1791 года. Сразу после этого события Турция запросила мира у России. Потери Ушакова в том важнейшем сражении – 17 матросов…
Надо с горечью признать, что в русской военной истории гораздо больше примеров, когда наши потери превышают потери противника, независимо от того, побеждали мы или проигрывали битвы и войны. Это горький факт, от него нельзя отмахнуться. Не многие русские полководцы умели воевать так, как адмирал Ушаков. Эта печальная традиция – не ценить русских жизней – продолжалась и при советской власти.
Военной наукой признано, что русский солдат покрыл себя неувядаемой славой в первую мировую войну, но высшее командование русской армии со своей задачей не справилось.
И вторую мировую войну вынес на своих плечах, выиграл её – советский солдат. Не избалованный жизнью, бывший или нынешний крестьянин, солдат советской армии не выживал более двух атак.
«Русская тактика наступления, – пишет генерал Гальдер в своём дневнике, – трёхминутный огневой налёт, после чего – атака пехоты с криком «ура» глубоко эшелонированными боевыми порядками (до 12 волн) без поддержки огнём тяжёлого оружия, даже в тех случаях, когда атака производится с дальних дистанций. Отсюда невероятно большие потери русских».[64]
Решение военных задач «любой ценой» – было привычной боевой практикой советской армии. Этот импульс шёл сверху. Директивы Ставки и лично Сталина пестрят требованиями не щадить людей и угрозами расстрела. Между тем полководцы, практиковавшие такие методы, занесены у нас в разряд гениальных.
Наша историческая наука, в том числе военная, полна такими парадоксами, застывшими мифами. И предстоит ещё громадная работа, чтобы выявить истину.
Мог ли Советский Союз по-другому вступить во вторую мировую войну?
Чтобы ответить на этот вопрос, надо вернуться в 1922 год, когда в итальянском городке Раппало было подписан договор между Германией и Советской Россией, двумя изгоями европейской и мировой политической сцены. Германия – побеждённая страна, выплачивает репарации победителям. Россия – бывший союзник победителей, страна-перерожденец, объявившая себя врагом капитализма. Обстоятельства толкают обе страны к сближению.
Договор предусматривал немедленное восстановление в полном объёме дипломатических отношений между РСФСР и Германией. Стороны взаимно отказывались от претензий и договаривались о порядке урегулирования разногласий. Обе стороны признали принцип наибольшего благоприятствования в качестве основы их правовых и экономических отношений, обязывались содействовать развитию торгово-экономических связей.
С тех пор, почти двадцать лет, у Германии с нашей страной – особые отношения. Обе страны помогают друг другу в военной области. СССР поставляет в Германию продовольствие и горючее. В июне 1941 года, когда немецкие самолёты уже бомбили советские города, железнодорожные составы с зерном все ещё шли в Германию.
Эти особые отношения почти не изменились и с приходом к власти Гитлера. Антифашистская риторика Коминтерна совершенно не мешала сталинскому СССР поддерживать хорошие отношения с Германией и вести научно-техническое сотрудничество.
Такая политика расчётливого балансирования продолжалась вплоть до начала второй мировой войны, до 1939 года. Два выросших тоталитарных гиганта – Германия и СССР – вступили в сложную стратегическую игру с участием ведущих западных держав. Каждый играл в свою игру. Запад не доверял ни Германии, ни Советскому Союзу. Изгои-отщепенцы не доверяли ни Западу, ни друг другу.
В результате появился пакт Молотова-Риббентропа и его секретные протоколы о разделе сфер влияния. Этот договор советская историография представляет как вынужденный для СССР, как меньшее зло. Это, несомненно, трактовка самого Сталина, которую он сформулировал уже после войны. На деле пакт явился логичным продолжением предыдущих отношений СССР как с Германией, так и со странами Запада. Тем более, пакт позволял расширить границы Союза и разделаться со старыми врагами вроде Польши. Апофеозом этой линии сотрудничества, идущей ещё из Рапполо, стал совместный парад советских и германских войск в Бресте в сентябре 1939 года.
По-видимому, уже после заключения пакта, Сталин планировал нанести удар по Германии – но в тот момент, который будет удобен для СССР (на взгляд, разумеется, Сталина). Старый советский миф о миролюбии Советского Союза и его сугубо оборонительных планах уже не выдерживает современного взгляда на проблему. Специалисты разве что ведут речь о том, когда именно Сталин планировал такой удар по Германии: в 41-м или 42-м году.
А в 1939 году ситуация была такова, что если бы СССР по-настоящему желал мира, хотел бы остановить Гитлера в его намерении напасть на Польшу, он такие возможности и рычаги – имел. В этом случае весь ход второй мировой войны был бы иным. Можно предположить, что и потери, в том числе и для Советского Союза, были бы совсем другими, гораздо меньшими.
История Великой Отечественной войны – необъятная, сложная тема, и автор вовсе не претендует на какую-либо полноту и окончательность оценок. Мы касаемся военной тематики только в контексте анализа сущности советского строя, его сильных и слабых сторон.
В этом отношении война дала ярчайшие примеры, которые характеризуют советский строй самый точным и определённым образом. Ход войны показал, что политический и экономический механизмы советского государства приспособлены к чрезвычайным условиям наилучшим образом.
Несмотря на внешние признаки демократического разделения властей (советы всех уровней – представительная власть, исполнительные органы), в действительности в Советском Союзе всегда существовала жёсткая (в терминах сегодняшнего дня) вертикаль власти. Во власть попадали только люди из номенклатуры. Номенклатура формировалась путём соответствующего отбора, начиная со школьной скамьи, через комсомол, институт, армию. Люди номенклатуры хорошо понимали правила номенклатурной игры: беспрекословное подчинение старшим, за что – власть над младшими и номенклатурные блага. В условиях войны (как и любой другой чрезвычайщины) такой слой людей позволяет достаточно эффективно проводить линию руководства. Он, этот слой, готов был выполнять любые решения, даже самые нелепые и жестокие.
Вся собственность в Советском Союзе была государственной (заводы, учреждения, колхозы), все ресурсы огромной страны были сосредоточены в руках властной номенклатуры. Если в первую мировую войну властям приходилось учитывать интересы частных промышленных компаний и частника-сельхозпроизводителя, то в Советском Союзе власть имела возможность проводить в жизнь любые экономические решения. Об их эффективности никто не задумывался, потому что советская политико-хозяйственная модель исходила из неисчерпаемости природных и людских ресурсов.
Ни одно демократическое государство, основанное на частной собственности, не смогло бы выдержать испытания, выпавшие на долю Советского Союза в первые два года войны. СССР выстоял потому, что имел возможность маневрировать любыми доступными ресурсами без каких-либо ограничений, кроме природно-физических. Эти ограничения позволила преодолеть помощь союзников по антигитлеровской коалиции, Великобритании и США. По программе помощи (так называемый ленд-лиз) было поставлено 10 % самолётов, 12 % танков, 6 % паровозов, более 400 тыс. автомобилей, более 2,5 млн тонн нефтепродуктов, более 400 тыс. полевых телефонов, 15 млн пар обуви, более 4 млн тонн продовольствия.[65]
Мы уже говорили о том, как советская армия, казалось бы, полностью уничтоженная к концу 1941 года, была воссоздана в том ритме, который требовался (конечно, не без потери для качества личного состава). Гитлер признавался в частных беседах в 1942 году, что если бы он до конца представлял себе возможности русских по формированию новых дивизий, он не начал бы войну…
Ввиду потери значительной части промышленности Советского Союза на оккупированной территории, производство военной техники в 1941 году снизилось, но, начиная со следующего года, росло с каждым месяцем.
Разумеется, все это достигалось за счёт сверхусилий рядовых тружеников.
Во время отступления советской армии в первый год войны многие промышленные предприятия были эвакуированы. Задумаемся на минуту: что это значит – эвакуировать предприятие? Это значит – построить его заново, в другом месте, за тысячи километров от старого. Понятное дело, что здания и сооружения увезти невозможно. Разбирают и увозят оборудование, материалы. Уезжают люди, работники предприятий, со своими семьями. Не один железнодорожный состав нужен для перевозки среднего завода. А затем – нужно построить завод на новом месте в кратчайшие сроки. И зачастую под угрозой репрессий.
На второй, третий год войны у станков на заводах стояли преимущественно женщины и подростки. Некоторые подкладывали ящики, иначе им было не дотянуться, не смогли бы управлять станком…
Война – страшное испытание для солдат и офицеров, которые воюют на фронте.
Ещё более страшное испытание войной проходят мирные граждане – старики, женщины, дети. В тылу.
Но ещё горше, тяжелей приходится тем, кто по ту сторону фронта, кто оказался на занятой врагом территории. Ещё вчера они, колхозники, рабочие, жители городов и сёл жили в мирной стране. Да, жили небогато, в некоторых семьях недоедали, а в иных – на четверо детей приходилось по одной паре обуви, так что в школу до морозов ходили босиком.
Страна жила нелегко. Советским людям не привыкать было – выживать, терпеть, обходиться самым малым. Такая жизнь для громадного большинства из них – была привычной. Зато жители страны советов хорошо знали, что на первом месте – нужды промышленности, армии, флота. Они знали, что это необходимо, потому что страна – в окружении врагов.
И вот начинается война. За три-четыре месяца огромные территории с десятками миллионов советских людей оказываются в зоне оккупации. И до того нелёгкая жизнь советских семей превращается в кошмар. Ведь семья – это женщина и дети. Большая часть трудоспособных мужчин – в армии, другая часть – бежала в леса, к партизанам. Средств к существованию – нет. А надо как-то выживать, кормить детей. И каждый выживал, как мог. Миллионы людей погибли, миллионы были увезены в рабство на чужую сторону.
И вот – война закончилась. Своя, родная армия освобождает свою территорию, уходит на запад. Самое худшее позади. Вернулась своя, советская власть. Наверное, эта власть испытывает вину по отношению к своему населению, которое она оставила на волю врага?
Так вот, все те из советских граждан, кому выпало жить на оккупированной территории, их родственники, например, дети, – на всю жизнь попадали в особую категорию. При приёме на работу, при поступлении в институт – граждане этой категории должны были указывать в особой графе тот факт, что им, либо их близким родственникам, довелось жить на оккупированной территории. Для чего был введён в анкеты этот вопрос? Для того чтобы органы внутренних дел и безопасности знали потенциальных «предателей». Логика здесь простая: при немцах могли попасть под вербовку, а потом – через немецкие архивы – к американцам – и так далее…
Каковы были реальные последствия для людей? Иногда – никаких. Иногда – тяжёлые: не брали на работу в оборонную промышленность, где платили больше, чем в прочих отраслях, не принимали в лучшие учебные заведения.
Таким образом, советская власть сначала бросила часть своего населения на произвол судьбы и врага, а потом всех их зачислила в граждане второго сорта…
Под большим подозрением у советской власти были воины её собственной армии.
16 августа 1941 года Верховный главнокомандующий Сталин подписал приказ № 270. Этим приказом любой солдат или офицер, попавший в плен, объявлялся изменником Родины.
Что это за время – август 41-го? Советская армия стремительно отступает вглубь страны. Управление войсками – на низком уровне. Координация действий между соединениями – плохая. Одна дивизия стоит насмерть, другая – бежит. И та, что выполняет приказ и не отходит, – попадает в «котёл», а затем – и в плен… У тех, кто избегает плена и добирается из окружения до своих, три возможности: быть расстрелянным, отправленным в штрафбат или – в тыл, в лагерь…
К середине августа в плену уже не менее миллиона военнослужащих. А всего за войну их было около 4 млн. Большая часть их погибла в немецких концлагерях. Так как руководство СССР не признавало пленных своими гражданами, на них не распространялась Международная Конвенция о военнопленных.
А как относились к собственным гражданам, имевшим несчастье попасть в плен к врагу, в других государствах? Например, у союзников СССР во второй мировой войне? Вот как: военнослужащий, выживший в плену и сумевший вернуться на родину, подлежал награждению, если только не было свидетельств о его сотрудничестве с врагом. Примерно то же самое практиковалось в русской армии в первую мировую: солдат или офицер, бежавший из плена, награждался Георгиевским крестом…