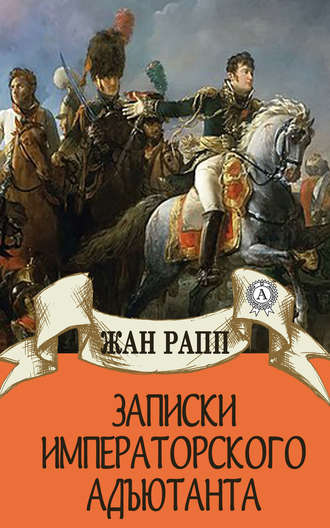
Виктор Пахомов
Записки императорского адъютанта

ГЛАВА I
Я не претендую на звание легендарного героя, но я очень долго был в обществе человека, ставшего причиной многих волнений, и командовал отважными солдатами, заслуги которых не были признаны. Первый осыпал меня милостями, а последние отдали бы за меня свои жизни – этого я никогда не забуду.
Я прослужил в армии несколько лет, иногда был успешен, хотя, как обычно бывает со многими нижними чинами, наград не получал. Наконец мне посчастливилось привлечь внимание генерала Дезэ. Наш авангард, которому было поручено вступить в схватку, очень быстро прибыл на место. С сотней гусар я поспешил вперед – мы атаковали австрийцев и обратили их в бегство. Мало кто из нас не получил ранения, но они вполне стоили тех похвал, которыми нас вознаградили за них. Генерал пообещал позаботиться о моей судьбе и дал мне самую лестную аттестацию, на которую когда-либо мог рассчитывать солдат. Я упоминаю об этом факте не потому, что в результате я обзавелся эполетами, а потому, что он стал основой моей дружбы с этим великим человеком и исходной точкой моей карьеры. Вот эта аттестация.
«РЕЙНСКАЯ И МОЗЕЛЬСКАЯ АРМИЯ.
Главный штаб, Блотзайм, 30-е фрюктидора,
год III Французской Республики, единой и неделимой.
Я, нижеподписавшийся дивизионный генерал, командующий правым крылом вышеупомянутой армии, удостоверяю, что гражданин Жан Рапп, лейтенант 10-го полка конных егерей, под моим командованием с указанным полком участвовал в двух последних кампаниях, и в обеих проявил себя как разумный и мужественный солдат, что он был трижды ранен, и что 9-го прериаля II-го года, во главе роты егерей, он напал на колонну вражеских гусар, численность которых в пять раз превышала его собственные силы, и настолько бесстрашно, что, изрубив их на куски, он прикрыл отступление части наших войск и одержал полную победу. Невероятно жаль, что став жертвой своей доблести, он был ранен так тяжко, что не мог использовать свою руку. Он достоин благодарности нации и заслуживает того, чтобы в случае неспособности к более активной службе, занять какой-либо другой почетный пост. Я утверждаю, что гражданин Рапп пользуется дружеским отношением и уважением всех, кто его знает.
ДЕЗЭ»
Став адъютантом скромного завоевателя Оффенбурга, я сражался под ним в Германии и Египте. У Седимана мне поручили эскадрон и, будучи командиром двухсот храбрецов, я имел удовольствие забрать все остатки турецкой артиллерии. Недалеко от руин Фив, в Саманхуде, меня повысили до звания полковника. В том сражении я был серьезно ранен, но с честью упомянут в депешах командующего.
После смерти погибшего у Маренго отважного Дезэ, в тот самый момент, когда именно его появление решило судьбу победы, Первый Консул соизволил назначить меня личным адъютантом. Та его благосклонность, которой он одаривал завоевателя Верхнего Египта, теперь снизошла и на меня. С того времени жизнь моя стала несколько упорядоченнее, я обзавелся широким кругом знакомств.
Усердие, искренность и некоторые воинские качества обеспечили мне доверие Наполеона. Он часто говорил другим, что очень немногие обладают такими врожденными здравым смыслом и проницательностью, как Рапп. Я тоже слышал эти похвалы, и я должен признаться, что был очень польщен ими, – если это слабость, она мне простительна, ведь у каждого есть какая-то своя такая – тайная и неуловимая. Я бы пожертвовал своей жизнью, чтобы показать, как я благодарен Первому Консулу. Он знал это, он часто повторял моим друзьям, что я «ворчун» – со слабой головой, но добрым сердцем. Он относился как ко мне, так и к Ланну исключительно по-дружески, на «ты», а вот когда он обращался к нам на «вы» или «Monsieur le General», мы сразу же настораживались, ибо были абсолютно уверены, что он сердится. У него была слабость придавать большое значение полицейским сплетням, которая в большинстве своем снабжала его ложной информацией. Эта одиозная полицейская система отравляла его жизнь, – очень часто он злился и на своих лучших друзей, и на родственников, и даже на свою жену.
Наполеон не слишком ценил обычное мужество, кое он считал самым банальным качеством, свойственным всем французам, но более ценил бесстрашие, он был готов простить любые ошибки бесстрашному солдату. Когда кто-то о чем-то просил его, – либо во время аудиенции, либо на смотре, он никогда не забывал спросить, был ли тот ранен. Он считал, что каждая рана является частью благородства. Он уважал и награждал таким образом отмеченных людей, и имел весьма веские причины для этого. Вскоре, однако, осознав, что они достойны на выход из тени, он ввел их в свет старого нобилитета. Его решение обидело нас, он заметил это и был очень недоволен. «Я ясно вижу, – сказал он мне однажды, – что эти дворяне, которых я приветил в своем доме, вам неприятны». Я, тем не менее, с уважением отнесся к этой привилегии. Некоторых из этих господ я вычеркнул из списка эмигрантов, иным предоставлял места и выдавал деньги и пенсии третьим. Кто-то помнит об этих любезностях, но большинство нет, а значит, после возвращения короля мой кошелек был закрыт. Хотя моя цель состояла в том, чтобы просто и безвозмездно помочь им, я не хотел, чтобы между нами и тем, вознесенным нами великим человеком, были эмигранты.
Я забыл об этом неприятном инциденте, а вот Наполеон – нет. Но он напрасно пытался выглядеть суровым, его врожденное добродушие сметало все его усилия, оно всегда одерживало победу. Он пригласил меня к себе: он рассказывал мне о дворянах и эмигрантах, и внезапно, словно вернувшись к теме вышеописанного разговора, он сказал: «Итак, вы полагаете, что я симпатизирую этим людям, но вы ошибаетесь. Просто они нужны мне, и вы знаете, зачем. А сам я дворянин? Я – когда-то бедный корсиканец?» «Ни я, ни армия, – ответил я, – никогда не интересовались вашим происхождением. И мы считаем, что все, что все, что вы делаете, абсолютно правильно». Позднее я рассказал об этой беседе некоторым моим друзьям, в частности, генералам Мутону и Лористону.
Тем не менее, большинство из этих же дворян утверждает, что они стали ими лишь по принуждению. Это абсолютная ложь. Я знаю только двоих, оставивших приглашение Великого Камергера без ответа. Некоторые отклонили столь выгодное предложение, но за исключением этих немногих, все оставшиеся, упрашивали, умоляли и клянчили. Невероятное соревнование в преданности и усердии. Никакие самые недостойные занятия и унизительные должности не были отвергнуты, – это казалось делом жизни и смерти. Если когда-нибудь чья-то коварная рука залезет в портфели мсье Талейрана, Монтескью, Сегюра, Дюрока и других, какие пылкие выражения, так обогатившие язык преданности, она там найдет! Но теперь те люди, которые тогда говорили на том языке, со всей своей ненавистью поливают друг друга грязью. Если они действительно испытывают к Наполеону чувство столь глубокой ненависти, каковую они ныне демонстрируют, тогда получается, что в течение пятнадцати лет, прижимаясь к его ногам, они ненавидели самих себя. И тогда вся Европа согласится с тем, что вся их неумеренность и несдержанность, сладкие улыбки и смиренное послушание и их услуги, которые они оказывали добровольно, похоже, обошлись им не очень дорого.
ГЛАВА II
Многие назвали Наполеона жестоким, суровым и очень экспансивным человеком, но лишь потому, что они не знали его. Будучи невероятно занятым, обуреваем противоречивыми чувствами и обремененный грандиозными планами, вполне естественно, что бывали времена, когда он был нетерпелив и капризен. Но его природная доброта и благородство быстро подавляли его раздраженность, но все же, никак не стараясь укреплять его спокойствие, его наперсники никогда не упускали случая лишний раз рассердить его. «Ваше Величество правы, – говорили они, – этот человек заслуживает того, чтобы его расстреляли, гильотинировали, уволили или опозорили, и я давно знаю, что он ваш враг. Нужен пример – это необходимо для поддержания спокойствия».
Если обсуждался вопрос об обложении территории противника контрибуцией, Наполеона, возможно, вполне удовлетворили бы двадцать миллионов, но ему все же советовали взять на десять миллионов больше. Они говорили ему: «Крайне необходимо, Ваше Величество, пощадить вашу казну и содержать ваши войска либо за счет иностранного государства, либо союзников».
Если у него возникала идея о призыве 200 000 конскриптов, его убеждали потребовать 300 000. Если он предлагал выплатить кредитору, долг, на который он имел неоспоримые права, сразу же высказывались сомнения относительно законности этого долга. Означенную сумму иногда уменьшали вдвое, втрое, а нередко случалось и так, что долг этот вообще не выплачивался.
Идея начать войну всегда приветствовалась бурными аплодисментами. Ему говорили, что эта война обогатит Францию, удивит мир и именно таким путем должен идти великий народ.
Вот так и получилось, что вдохновленный и увлеченный множеством самых разнообразных планов и реформ, Наполеон погрузился в непрерывную войну, и его царствование поглотило насилие, совершенно несвойственное его на самом деле добродушному характеру и привычкам.
Никогда на свете не было еще такого человека, столь милосердного, а еще того более, гуманного, – и в доказательство тому я готов дать тысячу примеров, но пока ограничусь следующим.
Жорж и его сообщники были осуждены. Жозефина ходатайствовала за господ Полиньяк, Мюрат – за де Ривьера, и оба они преуспели в своем посредничестве. В день казни, ко мне в Сен-Клу, весь в слезах, прибыл банкир Шерер. Он умолял меня похлопотать о прощении для его зятя, мсье де Руссильона, старого швейцарского майора, который был замешан в этом деле. С ним пришли и его, – все родственники арестованного. Они подтвердили, что осознают, что майор заслуживает такого приговора, но он глава семьи и связан отношениями с самыми влиятельными семьями кантона Берн. Я внял их мольбам, и никогда не сожалел об этом.
Семь часов утра. Наполеон уже встал и как раз был в своем кабинете с Корвизаром, когда объявили о моем прибытии. «Сир, – сказал я, – прошло совсем не так много времени с того момента, как при посредничестве Вашего Величества Швейцария получила новое правительство. Но вы же знаете, что не все им довольны, особенно жители Берна. Теперь у вас есть возможность доказать им насколько вы благородны и великодушны. Сегодня должен быть казнен один из их соотечественников. Он связан с лучшими семьями этой страны, и если вы помилуете его, это, несомненно, вызовет бурю восторга и обеспечит вас множеством друзей». «Кто этот человек? Как его зовут?» – осведомился Наполеон. «Руссильон», – ответил я. Услышав это имя, он рассердился. «Руссильон, – сказал он, – более виновен, чем сам Жорж». «Я полностью понимаю все то, о чем Ваше Величество сказали мне, но народ Швейцарии, его семья и его дети всегда будут благословлять вас. Простите его, но не за то, что он совершил, но ради многих храбрых людей, невинно пострадавших по его глупости». «Хорошо, – сказал он, поворачиваясь к Корвизару, который передал ему мое прошение, потом он подписал и сразу же возвратил его мне, – немедленно пошлите курьера, чтобы отменить казнь». Несложно догадаться, как были рады его родные, и свою благодарность мне они засвидетельствовали на страницах общественных газет. Со всеми своими сообщниками Руссильона перевезли в тюрьму, но потом он получил свою свободу. После возвращения короля он несколько раз приезжал в Париж, но со мной не встречался. Он думает, что я лишь чуть-чуть помог ему, и в этом я с ним совершенно согласен.
ГЛАВА III
Никто из людей не обладал большей чувствительностью или постоянством в своих чувствах, чем Наполеон. Он нежно любил свою мать, обожал свою жену и с большой любовью относился к своим сестрам, братьям и другим родственникам. Все они, за исключением его матери, очень часто огорчали его, но он никогда не лишал их своих милостей. Его брат Люсьен, как никто из его родных, проявил себя самым решительным противником его взглядов и планов. Однажды, во время разговора по вопросу, сути которого память моя не сохранила, Люсьен вытащил из кармана свои часы и, весьма сильно швырнув их на пол, обратился к своему брату вот с такими запомнившимися мне словами: «Ты уничтожишь самого себя так же, как я уничтожил эти часы, и придет еще то время, когда ни твоей семье, ни твоим друзья негде будет голову преклонить». Несколькими днями позднее он женился – без всякого согласия его брата, и более того – даже не сообщив ему об этом намерении. Тем не менее, Наполеон принял его в 1815 году, хотя и не без некоторых уговоров: Люсьену пришлось некоторое время провести на заставе, но потом его быстро направили прямо к Императору.
Наполеон не ограничивал свою щедрость своими родственниками; его друзья, слуги – все получали свою долю. Это я знаю по личному опыту. Я вернулся из Египта в чине адъютанта отважного генерала Дезэ, и с двумя сотнями сбереженных мною луи, – всем своим состоянием. На момент отречения я владел 400 000-ми франками, накопившимися из разных денежных вознаграждений, оплаты за службу, внеочередных премий, поощрений, etc. Я потерял пять шестых этой суммы, но я не жалею об этом, все, что я имею сейчас, так сильно отличается от того, что было у меня в самом начале. Но вот о чем я действительно сожалею, – так это о славе, за которую я пролил столько крови и потратил так много сил: она ушла навсегда, и я безутешен.
Не я один пользовался щедростью Наполеона, тысячи других были точно так же осыпаны его милостями, и те обиды, которые он претерпел из-за недостойного поведения некоторых из них, только доказывают, насколько он был добр. Но, независимо от их тяжести, он сразу же забывал их, когда убеждался, что сердце его тут ни при чем. Я мог бы привести сотню примеров такой его снисходительности, но того, о чем я сейчас расскажу, будет вполне достаточно.
После того, как он принял титул Императора, изменения, которые произошли в его близком кругу, доселе исключительно военном, очень опечалили нас. Мы привыкли наслаждаться обществом этого великого человека, и нам совершенно не нравилась та закрытость, которую ему навязал императорский пурпур.
Генералы Ренье и Дама были в то время в опале: я был дружен с обоими, и у меня нет привычки оставлять своих друзей в беде. Я прилагал все усилия, чтобы изменить сложившееся о них у Наполеона неверное мнение, но безуспешно. Как-то раз, я снова заговорил в пользу Ренье, но утративший терпение и доброе расположение духа Наполеон, сухо заявил мне, что более он не хочет о нем слышать. Я написал смелому генералу, что все мои усилия оказались бесполезными, я умолял его проявить терпение, и кроме того, добавил еще несколько фраз, по которым было видно, насколько я был расстроен и озлоблен. Я поступил очень неосмотрительно, доверив свое письмо обычной почте, в результате чего оно было перехвачено и доставлено Императору. Трижды или четырежды перечитав его, он приказал принести ему еще несколько моих писем – для сравнения, – он просто поверить не мог, что это я написал его. Совершенно озверев от ярости, он отправил курьера – из Сен-Клу – в Тюильри, где я тогда жил. Предполагая, что меня ждет какая-нибудь миссия, я выехал немедленно. В приемной я встретил Коленкура и Каффарелли, я спросил его, какие новости. Коленкур уже знал об этом происшествии, по крайней мере, он выглядел, как мне показалось, очень расстроенным, но мне он не сказал ни слова. Я перешагнул порог апартаментов Наполеона, который, весь кипя от ярости, с письмом в руке выскочил навстречу мне из своего кабинета. Его глаза сверкали, от такого взгляда очень многих бросало в дрожь.
– Вам знакомо это письмо? – спросил он.
– Да, Сир.
– Это ваше письмо?
– Да, Сир.
– Вы – последний из тех, кого я мог бы заподозрить. Возможно ли, что именно вы написали это письмо моим врагам? Вы – к которому я так хорошо относился! Вы – для которого я сделал так много! Вы – единственный из моих адъютантов, кого я поселил в Тюильри!
Дверь его кабинета была приоткрыта, заметив это, он широко распахнул ее, чтобы одному из его секретарей – мсье Меневалю, – было удобнее наблюдать за этой сценой. «Вон отсюда! – проговорил он, оглядывая меня с головы до ног. – Ступайте вон, вы, неблагодарный человек!» «Сир, – возразил я, – мое сердце никогда нельзя было обвинить в неблагодарности». «Прочтите это письмо, – сказал он, подавая его мне, – и решите сами, справедливы мои обвинения или нет». «Сир, из всех упреков, которыми вы могли бы осыпать меня, этот – самый жестокий. И теперь, утратив ваше доверие, я не могу более служить вам». – «Да, это верно, вы действительно утратили мое доверие». Я почтительно поклонился и ушел.
После того, как я принял решение вернуться в Эльзас и начал подготовку к путешествию, курьер от Жозефины сообщил мне, что она желает, чтобы я вернулся и извинился перед Наполеоном. Луи, однако, дал мне иной совет, и я не последовал указаниям императрицы, ибо мое решение было окончательным. Прошло два дня, но из Сен-Клу не было никаких новостей. Я встретился с некоторыми из своих друзей, среди которых был и маршал Бессьер. «Вы были неправы, – сказал мне маршал, – вы не можете не признать этого. Уважение и благодарность, которыми вы обязаны Императору, вынудят вас признать вашу вину». Я согласился. Сразу по получении моего письма Наполеон пожелал, чтобы я сопровождал его во время одной из своих конных прогулок. Некоторое время он дулся на меня, но однажды, очень рано он пригласил меня в Сен-Клу. «Я уже не сержусь на вас, – необычайно мягко сказал он, – вы провинились, поступив так глупо, но теперь с этим покончено – я забыл об этом и хочу, чтобы вы женились». Он рассказал мне о двух юных дамах, любая из которых, по его словам, могла бы мне подойти. Таким образом был устроен мой брак, но, к сожалению, он оказался несчастливым.
Бернадот пребывал в глубочайшей опале, но он заслужил ее. Я виделся с ним в Пломбьере, куда ему разрешили поехать вместе с женой и сыном для поправки здоровья на водах, и сам я приехал туда с той же целью. Я всегда восхищался добрым и любезным нравом Бернадота. В Пломбьере мы виделись очень часто. Он рассказывал мне о своих неприятностях и просил, чтобы я использовал все свое влияние, чтобы добиться его примирения с Императором, коим, как он говорил, он никогда не переставал восхищаться, и что лишь клеветнические наветы сделали их врагами. По возвращении я узнал, что его друзья, его шурин и сама мадам Жюли тщетно ходатайствовали за него. Наполеон не желал их выслушать, его раздражение Бернадотом становилось все сильнее и сильнее. Но я обещал сделать для него все, что я мог сделать, а значит, я должен был сдержать свое слово. Император собирался в Вилье, где Мюрат готовил une fête.[1] Настроение у него было прекрасным, – этим благоприятным обстоятельством я и решил воспользоваться. Я рассказал о своем плане маршалу Бессьеру, который тоже вместе со мной ехал к Императору: он пытался отговорить меня от моего намерения. Он сообщил мне, что мадам Жюли как раз тем же утром посетила Мальмезон и уехала оттуда вся в слезах. Этот факт не слишком укрепил мою уверенность, но я все же решил попробовать. Я рассказал Наполеону о своей встрече с Бернадотом в Пломбьере, о том, что он был печален, очень подавлен и в высшей степени огорчен своей опалой. «Он категорически утверждает, – добавил я, – что он никогда не предавал своей любви и преданности Вашему Величеству». «Ни слова о нем, он заслуживает расстрела, – ответил Наполеон и пришпорил коня. На вечеринке Мюрата я видел Жозефа и его жену, и я рассказал им, как мне не повезло. Потом об этом узнал Бернадот, – он поблагодарил меня за мои добрые старания. Несмотря на свои многочисленные размолвки с Бернадотом, позже Наполеон простил все его проступки и наделил его богатством и почестями. Ныне кронпринц стоит на пути к королевскому трону, а вот творец его судьбы – к бесплодной скале посреди безбрежного моря.
ГЛАВА IV
Бытует такое мнение, что Наполеон не был храбрым человеком. Тем не менее, тот, кто сумел пройти путь от простого лейтенанта артиллерии до правителя такой нации, как наша, не мог не обладать мужеством. То, как он вел себя 18-го брюмера, 5-го нивоза и во время заговора Арены, является достаточным доказательством того, что им он обладал в избытке. Он прекрасно понимал, как много у него врагов – и среди якобинцев, и шуанов, – но каждый вечер он выходил на улицы Парижа и ходил по ним пешком, а сопровождало его не более двух человек. Как правило, во время этих ночных прогулок его спутниками были Ланн, Дюрок, иногда Бессьер, а временами кое-кто из его личных адъютантов. Об этих прогулках прекрасно знал весь Париж.
До сих пор «дело адской машины» не получило должной оценки нашего общества.
Полиция сообщила Наполеону о планируемой попытке покушения на его жизнь и посоветовала ему прекратить прогулки. Мадам Бонапарт, мадемуазель Богарне, мадам Мюрат, Ланн, Бессьер, адъютант и лейтенант Лебрен, ныне герцог Пьяченский, собрались в гостиной, Первый Консул работал в своем кабинете. Тем вечером должна была прозвучать оратория Гайдна, дамы очень хотели послушать музыку, да и мы тоже хотели поприсутствовать на этом концерте. Прибыл эскорт – Ланн предложил Наполеону присоединиться к остальным. Тот согласился. В свою карету он взял Бессьера и адъютанта. Мне же было поручено сопровождать дам. Из Константинополя Жозефине привезли великолепную шаль, в тот вечер она впервые накинула ее на свои плечи. «Позвольте мне заметить, мадам, – сказал я, – что ваша шаль не совсем в полной гармонии со свойственной вам элегантностью». Засмеявшись, она попросила, чтобы я уложил ее по моде египетских дам. Пока я занимался этим необычным делом, Наполеон уехал. «Поторопитесь, сестра, – сказала мадам Мюрат, которой очень хотелось побыстрее попасть в театр, – Бонапарт уже уехал». Когда мы уселись в нашем экипаже, карета Первого Консула уже достигла середины Пляс-дю-Карузель. Мы двинулись за ним, но как только выехали на площадь, прогремел взрыв. Наполеон чудом избежал смерти. Сен-Режан, или его французский слуга, расположился в самой середине Рю Сен-Никез. Один из гренадеров эскорта, предположив, что он действительно был тем, кем казался, то есть, водовозом, несколькими ударами своей сабли прогнал его и отвернул тележку в сторону, в результате чего машина взорвалась между каретами Наполеона и Жозефины. Дамы вскрикнули, окна кареты вылетели, и осколки стекол слегка оцарапали руку мадемуазель Богарне. Я выскочил из экипажа и побежал по усеянной телами пострадавших от взрыва людей и обломками зданий Рю Сен-Никез. Ни Консул, ни кто другой из его свиты серьезного ранения не получил. Когда я вошел в театр, Наполеон уже сидел в своем кресле, абсолютно спокойный, и совершенно невозмутимо через свой театральный бинокль рассматривал зрителей. Фуше сидел рядом с ним. «Жозефина! – сказал он, заметив меня. Она вошла сразу же после меня, и он не закончил фразы. «Эти негодяи, – сказал он с ледяным спокойствием, – хотели взорвать меня. Принесите мне либретто «Оратории».
Зрители вскоре узнали о том, как ему удалось избежать смерти, и радостно приветствовали его. Эти аплодисменты, я полагаю, есть недвусмысленное подтверждение его мужества. Те, кто был с ним на поле брани, с легкостью могут привести еще множество подобных примеров.







