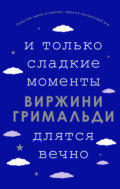Виржини Гримальди
Океан на двоих
Мима без конца обнимала и целовала нас и говорила, как она нас любит. Теперь, когда я это вспоминаю, я думаю, она делала так потому, что знала, что будет вечером.
Когда мы вернулись домой, я побежала в ванную с криком «чур, я первая». Агата заплакала, ладно, завтра я пущу ее принять душ первой. Когда я вышла, дома были дядя Жан-Ив, тетя Женевьева и кузены. Я была рада, но недолго, потому что папа увел нас в комнату, где он жил, когда был маленьким, и сказал, что должен с нами поговорить, это важно. Он даже разрешил нам поесть конфет-ракушек, но я их не доела, потому что он все испортил. Это был хороший день, а теперь это день, когда папа с мамой развелись.
Тогда
Сентябрь, 1989
Агата – 4 года
Папа приходит за нами, но маме это не нравится. Они громко кричат, я затыкаю пальцами уши, чтобы их не слышать.
Мама говорит, что он плохой. А я думаю, что папа хороший.
Я ложусь в кровать к Эмме. Она толкается, но потом говорит: «Ладно», и я засыпаю с ней и светлячком.
Сейчас
5 августа
Эмма
19:43
Я не была здесь целую жизнь. Рынок Биаррица не изменился, террасы баров и рестораны переполнены семьями, парочками, коллегами и друзьями, которые перемешались в праздничном гомоне. Мы устраиваемся за высоким столиком, Агата спрашивает, что я хочу выпить, и идет заказывать в бар. По пути она приветствует двух человек, а официантка ее обнимает. Здесь ее территория.
– С ума сойти. Кажется, мне все еще двадцать лет, а ведь вот-вот стукнет сороковник.
– Не говори, мне уже перевалило.
Официантка приносит два бокала вина и закуски.
– За сестричек Делорм, – говорит Агата, поднимая бокал.
– За нас.
Повисает молчание. Сестра ест жареный козий сыр на шпажках, я налегаю на тартинки с утиной грудкой. Не понимаю, то ли нам нечего друг другу сказать, то ли надо сказать слишком много, и мы не знаем, с чего начать. В нашей истории дыра длиной в пять лет.
– У тебя есть фото Алисы? – спрашивает она.
Я достаю телефон и показываю снимок дочери. Агата берет у меня мобильник и прокручивает картинки:
– Она миленькая. Интересно, в кого бы.
– Наверное, в свою тетю. Предупреждаю, здесь сотни снимков.
– Ты сумасшедшая мать?
– Совершенно. Мне приходится сдерживаться, чтобы не съесть ее. Характерец у нее еще тот, она часто напоминает мне тебя.
Сестра улыбается.
– А Саша? Наверное, так вырос!
Я открываю папку со снимками сына и возвращаю ей телефон:
– Он только что отпраздновал свое десятилетие. У него уже мой размер ноги, и он дорос мне до подбородка.
– Как летит время… Они хорошо ладят?
– Прекрасно. Я боялась, у них же семь лет разницы, но старший защищает сестренку, а малышка обожает брата. Они иногда ссорятся, конечно, но у них прекрасные отношения. Надеюсь, надолго…
Агата пьет вино, потом закуривает.
– Нет ничего крепче отношений между братом и сестрой. Что ни делай, от общего детства так просто не избавишься, это сидит прочно.
Я не успеваю ответить, как высокий черноволосый парень без приглашения усаживается за наш стол и кладет свою лапищу на плечи сестры:
– Я уже давно на тебя смотрю, и мне обязательно надо задать тебе один вопрос.
– Еще тебе надо по-быстрому убрать руку с моих плеч, – предупреждает Агата.
– Ты воевала? – спрашивает парень на полном серьезе.
– Воевала? Нет, а что? – удивляется она.
– А то, что ты бомба.
Я сдерживаю смех. Реплика не из приятных.
Агата высвобождается и выпаливает ему в лицо:
– Проваливай, если не хочешь быть в первых рядах, когда рванет. Тик-так, тик-так.
Детина смеется, его нисколько не волнует, что та, на кого он нацелился, рассердилась.
– Ну же, будь лапочкой! – не отстает он. – Ты слишком классная, чтобы задирать нос. Как тебя звать?
– Моника.
– Очень приятно, Моника. Чем ты занимаешься?
– Я факир, я всегда сплю на доске с гвоздями, и у меня зад похож на сыр с дырками.
Я прыскаю вином. Парень больше не смеется. Я кладу руку ему на плечо, чтобы он заметил мое присутствие.
– Месье, вы не могли бы оставить нас в покое, пожалуйста?
– А, ну вот! – отвечает он. – Ты выглядишь не такой дурой, как твоя подружка!
Агата молчит, она знает, что я терпеть не могу скандалы. Я вижу, что она замыкается в себе, и опасаюсь, как бы она не сорвалась. Никто не обращает на нас внимания, и я бы предпочла, чтобы так было и дальше, но чувствую, что закипаю:
– Месье, моя сестра дала вам понять, что не желает с вами разговаривать. Так что будьте любезны, с вашими пятнами под мышками и харизмой мидии в садке, убраться отсюда подальше.
У Агаты отвисает челюсть. Типчик качает головой и недобро смеется.
– Я просто хотел оказать вам услугу, – презрительно фыркает он. – Вряд ли вас часто клеят.
Он разворачивается и растворяется в толпе. В эту самую минуту официантка ставит на стол два новых бокала. Агата поднимает свой:
– За сестер Делорм и мидий в садке!
Тогда
Январь, 1990
Агата – 4,5 года
У папы новая невеста. Мама не хочет, чтобы я называла ее мамой, но в любом случае у нее есть имя – Мартина. Она купила мне Барби «Феерию» в платье, которое светится в темноте, она хорошая.
У нее есть сын, его зовут Давид, он большой.
Папа сделал мне полку своей машинкой, от которой болят уши, и поставил на нее мои любимые книги – «Ягненок Альдо» и «Леопард Леонард». Он читает слова, а я смотрю картинки. У меня есть комната для меня одной, а у Эммы даже своя ванная.
Папа принес из магазина видеокассету. Это мультик про кролика по имени Роджер и даму с оранжевыми волосами по имени Джессика, которую похитил злой дядя. Я заплакала, тогда папа выключил телевизор, попросил прощения и сказал, что я еще маленькая, а потом мы играли в микадо.
Ночью мне слишком страшно одной, и я забираюсь в кровать к Эмме. Она больше ничего не говорит, я забираюсь к ней в кровать каждую ночь, когда мы у папы, она подвигается немного, и я могу спать.
Потом папа сделал нам сюрприз, мы пошли в такое место, где много собак в клетках. Папа прятал в кармане поводок, и дядя дал нам щенка, который нас ждал. Его зовут Снупи, он коричневого цвета, и я очень рада. Он смешной, Эмма говорит ему «сидеть», и он садится, хвостик у него все время двигается, и он ходит за нами повсюду, даже когда я иду делать пипи. Папа не разрешает ему залезать на диван, и мы с Эммой садимся на ковер, и папа тоже с нами.
Мне грустно, когда папа отвозит нас домой. Он все время говорит, но глаза у него мокрые. Я машу ему рукой – до свидания, – и он уходит, а мама открывает дверь и говорит, что скучала, и целует нас, и спрашивает, была ли там Мартина, и выбрасывает Барби «Феерию» в мусорное ведро.
Сейчас
5 августа
Агата
22:13
Эмма не захотела смотреть закат. Я и забыла, что она этого не любит. А у меня это одно из обожаемых зрелищ. Так же, как на закат, мне нравится смотреть разве что на Брэда Питта. Я столько раз видела «Легенды осени», что мое имя пора писать в титрах. Особенно люблю тот момент, когда Брэд, после долгих лет отсутствия, скачет галопом по грандиозным прериям Монтаны в сопровождении табуна диких лошадей. Я бы с удовольствием попробовалась на роль его кобылы.
– Я иду спать, – сообщает Эмма, открывая ворота дома.
– Уже?
– Дорога меня вымотала, а надо еще постелить постель. Я могу лечь в папиной комнате?
– Если хочешь. Я лягу в дядиной.
Она поднимается на пару ступенек и останавливается.
– Спокойной ночи, младшенькая.
– Спокойной ночи, старшенькая.
На миг мне кажется, что Эмма хочет сказать что-то еще, но она уже поднялась по лестнице.
Я иду за дом, откапываю в кладовке подушки и ложусь в гамак. Небо усеяно звездами, и, если смотреть, не моргая, можно разглядеть Млечный Путь.
Младшенькая. Вот кто я. Младшенькой я родилась, младшенькой и умру. Я глубоко убеждена: очередность рождения детей в семье влияет, более того, предопределяет, какими они вырастут. Я наверняка была бы другой, окажись я старшей. Первый прокладывает путь, заполняет все пространство, поглощает все внимание. Родители сосредоточены на его жизни и всевозможных опасениях, такова сила первого опыта. Для многих семья рождается с первым ребенком. Со следующими она растет, первый ее основывает. Он берет на себя значимость и ответственность, неведомые тем, кто идет за ним. Они являются на занятое место. Внимание родителей разделено, опасений меньше, ведь все это уже испытано. У последующих детей есть модель, и они ведут себя в соответствии с ней или ей в противовес. Их характер формируется в реакции, в сравнении: они производят больше шума или поднимают меньше волн, они более такие или менее сякие. Я не знаю, какое место завиднее. У каждого свои преимущества и свои недостатки. Знаю только, что я вторая, младшая, последыш, и это я глубоко, всем нутром, чувствовала всю жизнь.
Я закуриваю и включаю телефон. Матье не ответил на мое сообщение. Он его прочел, судя по синему значку внизу экрана. Я мысленно формулирую следующее, которое ему напишу, но делаю над собой усилие, чтобы его не отправить. Моя гордость смотала удочки одновременно с его уходом. Я сознаю, что поступаю себе во вред, засыпая его мольбами, но это сильнее меня. Я лихорадочно перебираю бусины на браслете, когда в окне второго этажа появляется голова Эммы.
– Агата, иди посмотри!
– Иду.
Я давлю окурок на земле – почти слышу, как ругается Мима, – и поднимаюсь в комнату к сестре. Она сидит перед телефоном. На экране маленькая девочка и кудрявый мальчуган.
– Дети, поздоровайтесь с вашей тетей.
– Здравствуй, тетечка!
Саша меня, наверное, совсем не помнит, ему было пять лет, когда мы виделись в последний раз. Алиса вообще знает меня только с чужих слов. Глядя на них, таких больших, я понимаю, как много времени прошло. Ну да, пять лет разлуки. Беременность, первые шаги, детский сад и начальная школа, разбитые коленки, рисунки на стенах, шатающиеся зубы, вечерние сказки, ботинки не на ту ногу, ярмарки, шепелявость. Много воспоминаний накапливается за пять лет.
Я перебрасываюсь с ними несколькими словами, они естественны, а я напряжена, слишком громко смеюсь – чтобы не подумали, что я растрогана.
На экране появляется Алекс.
– Привет, Агата! Рад тебя видеть.
– И я тебя!
С ним тоже случилось много всего за эти пять лет, в том числе он потерял половину волос.
– Когда ты к нам приедешь? – спрашивает он.
– Ой, да! – подхватывает Саша. – Приезжай к нам в гости!
– Она прямо сейчас приедет? – спрашивает Алиса.
Я опять смеюсь.
– Нет, детка, но я приеду в другой раз. Обещаю!
Телефон слегка вздрагивает. Я вынимаю его из руки сестры и прислоняю к стопке одежды на этажерке. Я задаю вопросы детям, узнаю, как поживает зять, я вижу Эмму в роли матери, жены, я-то больше знаю ее в роли сестры, а потом Алекс объявляет, что уже поздно, детям пора в кровать, экран гаснет, сестра говорит, ей тоже пора спать, целует меня, и дверь закрывается. Я возвращаюсь в гамак, к сигарете и браслету из бусин, думая, что, хотя между нами был экран и вся страна, то, к чему я ненадолго приобщилась, очень похоже на семью.
Тогда
Июнь, 1990
Эмма – 10 лет
Дорогой журнал «Микки Маус»,
Я увидела, что можно тебе написать и задать вопросы, и у меня есть вопрос. Я посмотрела «Голубую бездну» и мечтаю работать с дельфинами. Я хочу знать, где и чему мне надо учиться. Очень надеюсь получить ответ (я написала в «Стар Клаб», они не ответили).
Эмма
P. S. Я не очень люблю Дональда, он всегда сердится.
Сейчас
6 августа
Эмма
7:10
Я уже не сплю. Такое часто бывает в последнее время. Черные мысли вырывают меня из сна, и, чтобы избавиться от них, приходится вставать.
Раньше это была прерогатива Агаты. Тревожность – ее территория. Моей был прагматизм. Эмма умеет справляться с трудными ситуациями. Эмма все разрулит. Эмма такая зрелая. Всю жизнь я носила костюм, который на меня надели, не спросив, впору ли он мне. В сорок два года я обнаруживаю, что он мне тесен.
Я слышу, как за стенкой посапывает Агата. Она легла поздно. В два часа ночи повернулась ручка входной двери. Я одеваюсь и спускаюсь по лестнице, не наступив на скрипучую ступеньку. Едва проснувшееся солнце просачивается в щели ставней. Я открываю их, утренняя прохлада наполняет гостиную, и я опускаюсь в кресло.
Это место Мимы. Шестьдесят два года она сидела в нем каждое утро. Она прочла в нем сотни книг, связала кучу свитеров, писала стихи, проверяла домашние задания своих учеников, чистила картошку, качала сыновей, оплакивала одного из них, расчесывала мои волосы. На круглом столике возле подлокотника я узнаю тетрадь, в которую она записывала все свои рецепты. Большинство достались ей от матери, а той в свою очередь от ее матери, и тетрадь была предназначена нам. Мима принадлежала той эпохе, когда готовили только женщины, ей бы и в голову не пришло передать тетрадь нашим кузенам. Я листаю страницы, некоторые со следами жира или глазури, и каждый рецепт несет с собой воспоминание. Спагетти с фрикадельками, кускус, польпеттоне, ушки, тирамису, миас, равиоли с рикоттой, фарфалле с кабачками, лазаньи, кампанаре, мороженое с киви, апельсиновый торт – я так и вижу ее с повязанным вокруг талии передником в маленькой кухоньке без столешницы. Мне было лет шестнадцать, когда она вбила себе в голову научить меня готовить ньокки. Мне больше хотелось пойти на пляж с соседкой, но я чувствовала, как ей важно передать мне свой опыт. Я великодушно согласилась уделить время, сказав подружке, что скоро приду, в полной уверенности, что мы управимся максимум за час. Через четыре часа, когда блюдо наконец приготовилось, Мима была довольна, сестра голодна, а мне хотелось вскрыть себе вены луковой кожурой. Бабушка вонзила вилку в ньокки и положила клецку мне в рот, прежде чем я успела отстраниться. Я прожевала, закатив глаза, и постановила, что нет, собственно, никакой разницы с ньокками из супермаркета.
Последняя страница тетради исписана дрожащим почерком, так непохожим на уверенный и прямой почерк первых рецептов. От этого контраста у меня щемит сердце. Для меня, маленькой девочки, бабушка всегда была старой. Я только недавно поняла, что, когда я родилась, ей не было пятидесяти. Мои дети, наверное, сейчас видят меня такой, какой я видела ее тогда. Она состарилась без меня. Я пропустила ее последние годы. Мы регулярно созванивались, я отправляла ей фотографии, но не приезжала. Думала, время еще есть, просто не представляла, что она может на самом деле однажды уйти. Она единственная никогда нас не подводила. Она была надежной, была незыблемым ориентиром. В моем бегстве бабушка стала побочным ущербом.
Мне надо проветриться.
Я беру сумку, ключи от машины и выхожу из дома.
7:42
Не знаю, как я здесь оказалась. Я ехала без цели, ведомая воспоминаниями о былых летних днях. У моих ног океан, вода лижет мне пальцы. Он сегодня спокоен. Солнце припекает спину, я задираю платье и делаю несколько шагов. Пляж почти пуст. К воде идет старик в сопровождении тучи чаек. На нем купальные шорты, седые волосы падают на плечи. Я узнаю его, он давно стал частью баскского пейзажа. Каждое утро, в дождь, в ветер или в снег, он приходит кормить птиц. Запускает руку в сумку, и начинается спектакль: он бросает в воду корм, чайки ныряют за едой, самая проворная хватает ее и улетает с обедом в клюве, а остальные кружат вокруг человека. Говорят, он любит только животных и бранит любого, кто с ним заговорит. Я и не собираюсь с ним говорить, молча наблюдаю.
Вода мне уже выше колена. Вдали образуется большая волна. Я поворачиваюсь, отступаю, пытаюсь бежать, но течение держит меня, получается бег на месте, я не даю себя свалить, помогаю себе руками, борюсь, напрягаюсь и падаю лицом вниз.
Старик обернулся и смотрит на меня. Я, улыбаясь, машу ему рукой.
– Да пошла ты! – кричит он мне от души.
На горизонте волн больше нет. Мое тело скользит по поверхности, я раскидываю руки. Уши в воде, и я слышу только оглушительную тишину. Солнце пригревает лицо. Волны океана укачивают меня и тотчас успокаивают. Я делаю глубокий вдох и глубокий выдох, несколько раз, и выхожу из воды, пока снова не накатили большие волны.
Я остаюсь на берегу минут десять, наблюдая за дамой, выгуливающей собаку, и молодым человеком с доской для серфинга. Волосы быстро сохнут, вот почему мне так нравится короткая стрижка. Я подбираю сумку и туфли и направляюсь к стоянке. Мокрое платье весит тонну и липнет к ногам. Старик все еще стоит на песке, хотя чайки, получив все, чего ждали, улетели.
– Хорошего дня, месье!
Он смотрит на меня так, будто я его глубоко оскорбила, и отвечает тем же тоном, что раньше:
– Заткни пасть, мешок с дерьмом!
Тогда
Декабрь, 1991
Агата – 6 лет
Я первая ученица в классе. Я уже была первой в прошлом месяце, а что сейчас – не думала, ведь Селина пишет большие буквы лучше меня. Учитель дает мне выбрать картинку из коробки. У меня уже все есть, это картинки, которые кладут в коробки с какао, но я ничего не говорю, отдам ее Селине.
Папа и мама будут рады, а Эмма отдаст мне свой плеер, она обещала. Он ей больше не нужен, на Рождество ей подарят магнитофон. Она сказала, что отдаст мне еще и диск Рока Вуазина, я знаю слова его песен наизусть. Мама тоже его обожает, но больше любит Патрика Брюэля.
В класс входит директриса и вызывает меня. Все смотрят на меня, я ничего не понимаю, надеюсь, что вручат еще какую-нибудь награду. Я иду за ней, мне немножко страшно, и я вижу во дворе маму. На ней зеленое пальто, а глаза у нее красные, и она плачет, глядя на меня. Может быть, она так рада. Она пытается что-то сказать, но не может, и тогда директриса говорит мне, что папа попал в аварию.
Тогда
Декабрь, 1991
Эмма – 11 лет
Мама не знала, стоит ли нам идти на похороны, но Мима сказала, что это важно.
Народу собралось совсем немного. Похороны я видела всего лишь раз, по телевизору, когда хоронили Колюша, людей было гораздо больше. А ведь мой папа тоже был хороший.
Мима все время гладит нас по волосам. Дедуля держит ее под руку, она чуть не упала, входя в церковь. Кюре перепутал имена и назвал папу Аленом, а его зовут Мишель. Это рассмешило кузена Лорана, он не мог остановиться, и тете Женевьеве пришлось вывести его на улицу.
Все так долго, надо вставать, садиться, вставать, садиться, кюре все время говорит про Иисуса, хотя умер-то папа.
Мама много плачет, наверное, она его еще любила.
Мартина сидит в дальнем углу церкви с Давидом. Я не решилась с ней поздороваться, маме и так плохо.
Есть время подумать о папе, но мне вспоминается только прошлое воскресенье. Мы смотрели «Спасателей Малибу», и Митч Бьюкеннон сказал, что в лодке блеснуло очко. Папа засмеялся, я не поняла почему, он мне объяснил, и мы смеялись вместе. Агата хотела, чтобы ей тоже сказали, но папа не стал, потому что она еще маленькая. Он велел не рассказывать маме, я обещала, но все равно проговорилась, и она сказала, что он дурак.
Все выходят из церкви, и какие-то дяди выносят гроб. Мы идем на кладбище, оно совсем рядом. Небо оранжевое, солнце садится, и в первый раз мне от этого грустно. У меня мерзнет правая рука. В левой, с тех пор как умер папа, я держу руку сестренки.
Сейчас
6 августа
Агата
9:00
Я слишком долго сплю. Это часто бывает в последнее время. Сон отвлекает меня от черных мыслей; чтобы избавиться от них, надо снова заснуть. Только во сне тревога и грусть оставляют меня в покое.
От звонка будильника на телефоне я вздрагиваю. Приоткрываю один глаз, прицеливаюсь и нажимаю на кнопку, которая позволит мне поспать еще девять минут.
9:09
Надо вставать.
Мне так хорошо в постели.
Ну еще чуточку.
9:18
Девять минут ничего не решат.
9:27
Последний раз.
Обещаю.
9:36
Самый последний раз.
Самый последний раз, самый-самый последний раз, самый-самый-самый последний раз.
Черт, это так и крутится в голове.
9:45
Соберись, Агата.
Со
бе
рись.
9:54
Эмма врывается в комнату и распахивает ставни.
– Эй, там, подъем! Скоро десять, а у нас насыщенная программа.
Ворча, я натягиваю простыню на лицо.
– Какая программа?
– Нам надо на Ла Рюн.
Я сажусь в постели:
– На поезде?
– Ничего подобного. Сколько мы собирались пойти туда пешком, сейчас самое время.
Я снова ложусь.
– Спокойной ночи, Эмма.
Она, смеясь, выходит из комнаты.
– Давай одевайся, и чтобы обувь была правильная. Жду тебя внизу!
Ла Рюн – пиренейская вершина, которую видно из Англета. Мима не раз возила нас туда на легендарном поезде по зубчатой железной дороге 1920-х годов. Сверху открывается изумительный вид на Страну Басков и побережье, но с моим спортивным уровнем не лучше кувалды не исключено, что я прибуду туда на носилках.
11:52
Не знаю, откуда у нее эта сила. Ей всегда удается меня уговорить. Было решено и подписано, что я поднимусь на Ла Рюн пешком. И вот пожалуйста: я в самых удобных кроссовках и с фляжкой в руке ступаю на походную тропу.
– Как ты? – спрашивает она.
– Супер. Это лучший день в моей жизни.
– Не беспокойся, мы будем двигаться в твоем темпе.
– Тогда придем нескоро, мой темп черепаший.
Эмма смеется. Она всегда была более спортивной. Начала заниматься гимнастикой еще в начальной школе и участвовала в соревнованиях до старших классов. Я перепробовала дзюдо, танцы, легкую атлетику, гандбол и плавание, и итог этого исчерпывающего эксперимента однозначен: спорт не для меня.
11:58
Еще жива. СТОП.
12:11
В конце концов, это довольно приятно. Мы идем медленно, что позволяет любоваться пейзажем. Остановились на минутку погладить баскских пони. И мне пришлось первой двинуться в путь, иначе мы бы до сих пор там стояли.
12:18
Происходит странная вещь: мои часы утверждают, что мы идем двадцать шесть минут, но мои ноги вопят, что прошло двадцать шесть часов. Кто-то из них врет, и я склонна доверять моему телу.
12:22
Часы сестры говорят то же самое, что мои. Или существует солидарность часов, или они говорят правду.
12:30
Чем сильнее хочешь, чтобы время шло побыстрей, тем медленнее оно тянется. В нем живет дух противоречия. Я уверена, что время – Скорпион по знаку зодиака.
12:31
Нас обогнала группа пенсионеров с палками. Они поздоровались с нами, и я едва сдержалась, чтобы не сделать из них шашлык.
12:32
Эмма предложила остановиться на привал. Из чего я делаю вывод, что у меня вид умирающего лебедя, но возмутиться нет сил. Мы садимся на камень в стороне от тропы.
– Если хочешь, спустимся на поезде, – великодушно предлагает она.
– Или так, или на скорой, как скажешь.
– Признаюсь, я не ожидала, что это будет так утомительно.
Я кладу руку ей на плечо:
– И правда, это, наверное, нелегко в твоем возрасте.
Она делает вид, будто обиделась:
– Смотри, ты меня догоняешь, тебе тоже скоро сороковник!
– И не говори. Я рассчитываю на тебя, возьми надо мной шефство. Должен же кто-то помочь мне выбрать подгузники и кашки.
Она смеется:
– Язва!
– Вот видишь, ты уже соскакиваешь с катушек.
12:45
Старушка мстит, она ускорила шаг.
13:00
– Хочешь, сделаем еще привал? – предлагает Эмма. – Я взяла с собой бутерброды.
Мы устраиваемся в тени под елью, и я должна признать, что панорама отсюда симпатичнее, чем вид из моей кухни. Страна Басков пестреет всеми оттенками зеленого, там и сям плывут облака, в нескольких метрах от нас пасутся не такие уж и дикие коровки. Что поражает больше всего, так это тишина. Кроме шагов туристов и позвякивания колокольчиков на шеях коров, ни звука. Только когда больше не слышишь шума, замечаешь, что он все время есть. Даже гул в моей голове приглушается.
Эмма протягивает мне бутерброд.
– Местная ветчина, – объявляет она.
– Я по-прежнему вегетарианка.
– Шучу! Я приготовила для тебя с рокфором и орехами.
Ненавижу рокфор. Я вообще ненавижу острые сыры, но рокфор особенно. Я знаю, что вкус ему придает плесень, и от одного этого меня может вывернуть. Она, наверное, забыла. Однако, тронутая ее жестом, я кусаю бутерброд (стараясь прихватить побольше хлеба) и делаю вид, что мне очень вкусно.
13:23
Я ищу повод идти дальше, с тех пор как проглотила единственный кусок бутерброда, который смогла в себя запихнуть. Эмма решила, что мне не нравится, я возразила, что съеденная перед уходом слойка с шоколадом перебила мне аппетит. Она закрывает рюкзак и закидывает его на спину:
– Знаешь, что сказала бы Мима?
– Что твои идеи дерьмо.
– Перестань, я уверена, что ты специально настраиваешься на негатив, а на самом деле тебе очень нравится это восхождение.
– Ты видишь меня насквозь, – отвечаю я мрачно. – Так что же сказала бы Мима?
– Что после еды физическая активность противопоказана.
Я смотрю на нее, не решаясь поверить услышанному, а она довершает свою мысль:
– И потом, слишком жарко для подобных глупостей.
Я готова броситься ей на шею, но чувство вины удерживает меня.
– Эмма, я с ног валюсь, но ты меня знаешь: я всегда преувеличиваю. Не хочу, чтобы ты обделяла себя ради меня.
Она уверяет меня, что все в порядке, я уверяю ее, что я готова, она настаивает, она вполне может обойтись, я настаиваю, я вполне могу дойти, все становится с ног на голову, и, когда я почти готова умолять ее подняться на эту проклятую вершину, побеждает опять она, и мы поворачиваем назад.
Тогда
Апрель, 1992
Агата – 7 лет
Сегодня мне исполнилось семь лет. Я получила конверт от Мимы, как каждый год. В нем бусина, я убрала ее к остальным, и стихотворение, написанное на открытке с лошадками.
Мама сказала, что у меня теперь сознательный возраст и надо хорошо себя вести.
Мне разрешили пригласить в гости пять подружек: Каролину, Оливию, Азизу, Маржори и Селину, но потом я отменила Селину, потому что у нее отметка за диктант лучше, чем у меня.
Маржори подарила мне набор игрушек Полли Покет, она моя новая лучшая подруга.
У нас больше нет сада, я слышала, что мама не могла больше платить за дом, вот почему теперь мы живем в квартире на четвертом этаже. Наверное, поэтому она не захотела взять Снупи, когда умер папа, и отдала его обратно в приют.
Мои подружки хотели поиграть на парковке внизу, но мама не разрешила, она сказала, что нечего болтаться на улице, там злые дядьки, которые обижают детей.
Она разрешила нам пользоваться мини-проигрывателем, дала свои шарфики и туфли на каблуках и даже накрасила нам губы. Мы нарядились и танцевали, Эмма поставила свою любимую музыку («Rhythm Is a Danser»[5] группы Snap!) и показала, как надо под нее двигаться, это было здорово.
Мама забыла купить торт, я расстроилась, плакала, и она отругала меня, сказала, что я плохо себя веду, что она имеет право на ошибку, а я всегда всем недовольна. Это неправда, иногда я очень даже довольна. Потом она сама пришла поцеловать меня и испекла блинчики. Я никогда не ела таких вкусных, она сказала, что это благодаря секретному ингредиенту (не знаю, как он называется, но мама все время пьет его из бутылки).
В общем, день рождения был классный, вот только без папы.
Тогда
Ноябрь, 1992
Эмма – 12 лет
Я слышу, как Агата плачет. Сначала я думала, что это соседская кошка, она всегда мяукает по ночам, но я уверена – это Агата. Я раздумываю, пойти к ней или не пойти, завтра меня спросят по биологии, и мне надо получить хорошую отметку. В прошлый раз мне поставили ноль, потому что я не смогла разрезать лягушку. Вместо этого меня вырвало прямо на туфли мадам Рабо, и ей это очень не понравилось. Мама сказала, что, если у меня будут плохие отметки за вторую четверть, я не поеду летом к Миме и дедуле, а это просто невозможно.
Как же все-таки она горько плачет.
Я встаю и иду на цыпочках, мама смотрит ток-шоу по телевизору, нельзя, чтобы она меня услышала. Я ориентируюсь благодаря свету фонарей с улицы. С некоторых пор я больше не закрываю ставни.
Агата прижимает к себе своего светлячка, голова светится (светлячка, не Агаты).
– Что с тобой? – шепотом спрашиваю я.
– Не могу уснуть.
– Ничего страшного! Не переживай.
Я собираюсь уйти, но она говорит, что ей страшно.
– Чего ты боишься?
– Землетрясения.
Я смеюсь, но она плачет еще сильнее. Я сажусь на кровать и объясняю, что в Ангулеме не бывает землетрясений.
– А вулканы есть?
– И вулканов нет, Гагата.
Она говорит, что учительница рассказала им про деревню, где все жители умерли под лавой, оттого что вулкан извергся в одну ночь.
– Я не хочу умирать, Эмма, я еще маленькая!
– Лежи тихо, я сейчас вернусь.
На цыпочках я иду в свою комнату и возвращаюсь с атласом. Там есть страница про вулканы, я читаю сестре, и она немного успокаивается. Потом я читаю страницу про землетрясения, и под конец она уже совсем не плачет. Я еще немного сижу с ней, а потом ухожу спать, потому что завтра меня спросят по биологии.
Сейчас
6 августа
Агата
16:49
– Хотела бы я знать, куда девался кот.
Эмма пожимает плечами, погруженная в чтение Миминой тетради со стихами. Она не знала Роберта Редфорда, которого бабушка взяла года три-четыре назад.
Она нашла его лежащим на тротуаре, когда шла на рынок Кентау. Его явно сбил кто-то, не давший себе труда остановиться. Бедняга был совсем плох. Она положила его в корзину и отнесла к местному ветеринару, который сказал, что у котенка нет блох, но нет и чипа, и, если нет официальных хозяев, за консультацию и лечение платить придется ей. Мима колебалась: ее любовь к чужим животным была ограничена ее банковским счетом, который был в еще более плачевном состоянии, чем кот. Но взгляд бедолаги убедил ее. Она даже не пошла на рынок. Коту сделали рентген и анализ крови, которые не показали ничего серьезного, но ему пришлось ампутировать часть хвоста и наложить швы на подушечки лап и на голову. Ветеринар согласился на оплату в три приема, но все равно от ее учительской пенсии мало что осталось. Кот выздоравливал у нее дома, она развесила объявления на всех окрестных магазинчиках, а через несколько дней, когда гипотетический хозяин так и не объявился, решила назвать кота Робертом Редфордом. «Он меня разорил, но быть хозяйкой Роберта Редфорда – какое-никакое утешение».
– Давно он исчез? – спрашивает Эмма.
– Когда Миму положили в больницу. Я приходила каждый день побыть с ним и покормить, он выбегал, услышав мой скутер, а потом однажды не появился.
– Ты его искала?
– Немного поискала в округе, но Мима умерла, и я не могла думать ни о чем другом. Я хотела бы его найти и взять к себе. Мне больно думать, что его бросили. Она его очень любила, нянчила, как ребенка.
– Догадываюсь, я видела корзинки во всех комнатах и огромное дерево-когтеточку! – говорит сестра.
– И это далеко не все.
Я рассказываю, на какие уловки приходилось идти бабушке, чтобы Роберт Редфорд не выходил из дома по ночам, как она тревожилась, когда слышала кошачьи драки, как вычесывала его щеткой каждый вечер и ночью не вставала в туалет, потому что месье мирно спал у нее на животе.
– Надо его отыскать! – решает Эмма.
17:30
Мы позвонили во все окрестные приюты, в службу потерянных животных и в мэрию. Все очень удивлялись, что мы ищем питомца через три месяца после его исчезновения, и нигде не нашлось кота, соответствующего нашему описанию. Его легко было узнать: он весь черный с белыми лапками, как будто в носочках.