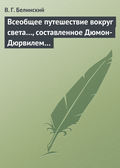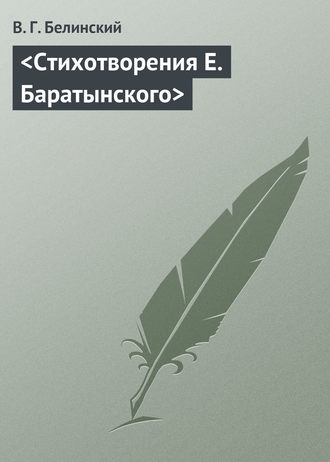
В. Г. Белинский
Стихотворения Е. Баратынского
Примечания
«Отечественные записки», 1842, т. XXV, № 12, отд. V, стр. 49–70 (ценз. разр. около 30 ноября 1842). Без подписи.
Е. А. Баратынский вошел в историю русской литературы как крупнейший поэт пушкинской «плеяды». Поэт высокой интеллектуальной культуры, «поэт мысли» – такова была общепризнанная репутация Баратынского у современников.
Статья Белинского была первой серьезной попыткой разобраться во всем творчестве Баратынского и определить его место в истории русской литературы. До этого Белинский вскользь говорил о Баратынском в «Литературных мечтаниях» (1834) и более обстоятельно – в рецензии 1835 г. (см. т. I наст. изд.).
Поводом к настоящей статье явился сборник стихотворений Баратынского «Сумерки» (1842). Это была последняя книга стихов поэта, по существу завершившая весь его творческий путь. Таким образом, эта статья Белинского оказалась итоговой в характеристике всего творчества Баратынского.
Определяя историческое место Баратынского в русской поэзии, Белинский отмечает в нем «яркий, замечательный талант», и ставит его на «первое место» среди поэтов, вошедших в литературу вместе с Пушкиным. В качестве положительной черты критик отмечает преобладание в поэзии Баратынского мысли, которая «вышла не из праздно мечтающей головы, а из глубоко истерзанного сердца».
Казалось, в Баратынском есть все, чего так не хватало и Майкову, и Полежаеву. Все же поэзия Баратынского во многом не удовлетворяет Белинского.
Белинский указывает, что элегический характер поэзии Баратынского происходит от думы, «от взгляда на жизнь». Дело, однако, в том, что «дума» Баратынского ложна. В ее основе лежит убеждение в гибельности для искусства просвещения, науки, прогресса, человеческого разума. Отсюда – глубокая безысходность элегического чувства в поэзии Баратынского, вступающего в трагический конфликт с разумом. Белинский сопоставляет Баратынского с Пушкиным, которому было также свойственно ощущение трагического противоречия между разумом и чувством. Но «Демон» у Пушкина – лишь эпизод; все же его творчество проникнуто жизнеутверждающим пафосом, радостным чувством, мощной и светлой верой в победу человеческого разума. Баратынский же, столкнувшись с противоречиями действительности, проникся сознанием бесцельности жизни, верой в бесплодность и тщету разума. Беда Баратынского состоит в том, что он был лишен «веры в идею». Таким образом, поэзия Баратынского, сделавшись «органом ложного направления», лишилась «той силы, которую мог бы сообщить ей талант поэта». Таков вывод Белинского.
Настоящая статья имеет большое значение для понимания общего характера умонастроения Белинского в 1842 году. Критик пришел к выводу, что действительность – это «осуществление вечных законов разума». Но бывают периоды в истории народа, когда свет разума временно затмевается, этот период непродолжителен, так же как затмение солнца. Зато после него наступает еще более яркое торжество разума. Идея отрицания приводит Белинского к убеждению в неуклонном поступательном движении человеческой истории, ибо на смену отжившему и гнилому неизбежно должно притти новое и живое. И Белинский формулирует важный итог: «Надо уметь отличать разумную действительность, которая одна действительна, от неразумной действительности, которая призрачна и преходяща». В переводе на политический язык этот вывод означал окончательное осознание Белинским, что ненавистная ему «расейская действительность» «призрачна и преходяща». Этот вывод был озарен страстной революционной верой Белинского в неизбежное торжество разума на земле. Но какими же путями человечество придет к этому торжеству? В подцензурной статье Белинский не мог, разумеется, даже поставить такой вопрос. Но в его письмах этого периода мы находим ответы весьма недвусмысленные (см., например, знаменитое письмо к Боткину – «Письма», т. II, стр. 305).
Статья о Баратынском – замечательный пример того, как мысль Белинского из сферы, казалось, отвлеченно эстетической настойчиво рвалась на простор широких социальных обобщений, как на материале искусства Белинский ставил важнейшую политическую проблему современности.
Не случайно он придавал такое большое значение этой статье.
В письме к Боткину от 23 ноября 1842 года он сообщает, что обещал Краевскому написать о Баратынском «с поллистика», но, «забывшись, хватил слишком листик, а статья все-таки вышла сжата и отрывочна до бестолковщины» («Письма», т. II, стр. 319). Белинский мучительно испытывал на себе гнет цензуры. «Забывшись» он далеко вышел за пределы частной темы статьи и вторгся в область, в которой ему неминуемо угрожал беспощадный нож цензора. Поэтому приходилось обрывать себя на полуслове, говорить сжато, намеками, комкать самое важное, главное. В этом смысле Белинский был недоволен статьей. Он полагал, что она могла бы быть еще более острой. Но две недели спустя Белинский снова напоминает Боткину об этой статье. В письме от 9 декабря 1842 года он спрашивает Боткина: «Как понравилась тебе моя статья о Баратынском? Она скомкана, свалена, а кажется, чуть ли не из лучших моих мараний» («Письма», т. II, стр. 328).
Следует сказать, что эта статья вызвала резкие отклики в некоторых кругах реакционной и либерально-буржуазной критики конца XIX века. Ее расценивали как попытку Белинского чуть ли не вычеркнуть Баратынского из истории русской литературы, как пример грубой эстетической ошибки великого критика (С. Андреевский, В. Саводник и др.). Нет нужды доказывать здесь вздорность подобных утверждений. Белинский отнюдь не обесценил значение творчества Баратынского. Например, он очень высоко отзывался о таланте поэта. Но в своем анализе Белинский вскрыл внутреннюю противоречивость и ограниченность мировоззрения Баратынского, мешавшие ему создать произведения, которые соответствовали бы возможностям его «яркого, замечательного таланта».
В последующие годы Белинский не раз возвращался к имени Баратынского. Наиболее значительные отзывы см. в статьях «Русская литература в 1842 году» и «Русская литература в 1844 году».