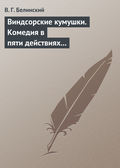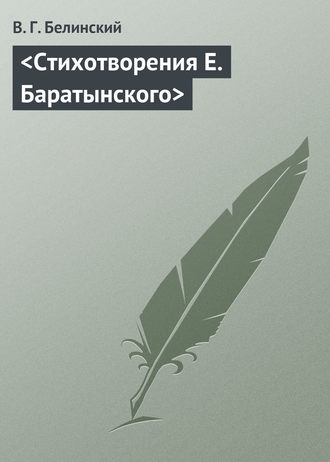
В. Г. Белинский
Стихотворения Е. Баратынского
Две горленки укажут
Тебе мой хладный прах,
Воркуя томно, скажут:
«Он умер во слезах!»{2}
Нравственность при всем этом не забывалась и шла своим путем. Для доказательства этого стоит только упомянуть о стократы-знаменитой песне: «Всех цветочков боле», которая оканчивается следующею сентенциею:
Хлоя, как ужасен
Этот нам урок!
Сколь, увы, опасен
Для красы порок!{3}
В этом чувствительном периоде русской литературы есть, конечно, своя смешная сторона, и над нею довольно посмеялись последовавшие затем периоды, воспроизводя его в «Эрастах чертополоховых» и тому подобных более или менее остроумных, более или менее плоских сатирах, как он сам в «Чужом толке» зло подтрунил над предшествовавшим ему торжественным периодом. Это круговая порука: в том и состоит жизненность развития, что последующему поколению есть что отрицать в предшествовавшем. Но это отрицание было бы пустым, мертвым и бесплодным актом, если б оно состояло только в уничтожении старого. Последующее поколение, всегда бросаясь в противоположную крайность, одним уже этим показывает и заслугу предшествовавшего поколения, и свою от него зависимость, и свою с ним кровную связь, ибо жизненная движимость развития состоит в крайностях, и только крайность вызывает противоположную себе крайность. Результатом сшибки двух крайностей бывает истина; однакож эта истина никогда не бывает уделом ни одного из поколений, выразивших собою ту или другую крайность, но всегда бывает уделом третьего поколения, которое, часто даже смеясь над предшествовавшими ему торжественными и чувствительными поколениями, бессознательно пользуется плодом их развития, истинною стороною выраженной ими крайности; а иногда, думая продолжать их дело, творит новое, свое собственное, которое само по себе опять может быть крайностию, но которое тем выше и превосходнее кажется, чем больше воспользовалось истинною стороною труда предшествовавших поколений. Так, Жуковский – этот литературный Коломб Руси, открывший ей Америку романтизма в поэзии, повидимому, действовал, как продолжатель дела Карамзина, как его сподвижник, тогда как в самом деле он создал свой период литературы, который ничего не имел общего с карамзинским.{4} Правда, в своих прозаических переводах, в своих оригинальных прозаических статьях и большей части своих оригинальных стихотворений Жуковский был не больше, как даровитый ученик Карамзина, шагнувший дальше своего учителя; но истинная, великая и бессмертная заслуга Жуковского русской литературе состоит в его стихотворных переводах из немецких и английских поэтов и в подражаниях немецким и английским поэтам. Жуковский внес романтический элемент в русскую поэзию: вот его великое дело, его великий подвиг, который так несправедливо нашими аристархами был приписываем Пушкину. Но Жуковский, нисколько не зависимый от предшествовавших ему поэтов в своем самобытном деле введения романтизма в русскую поэзию, не мог не зависеть от них в других отношениях: на него не могла не действовать крепость и полетистость поэзии Державина, и ему не могла не помочь реформа в языке, совершенная Карамзиным. Карамзин вывел юный русский язык на большую ровную дорогу из дебрей, тундр и избитых проселочных дорог славянизма, схоластизма и педантизма; он возвратил ему свободу, естественность, сблизил его с обществом. Но связь Карамзина и его школы (в которой после него первое и почетное место должен занимать Дмитриев) с Жуковским заключается не в одном языке: пробудив и воспитав в молодом и потому еще грубом обществе чувствительность, как ощущение (sensation), Карамзин, через это самое, приготовил это общество к чувству (sentiment), которое пробудил и воспитал в нем Жуковский. Как ни бесконечно неизмеримо пространство, отделяющее «Бедную Лизу», «Остров Борнгольм» Карамзина, его же и Дмитриева нежные и чувствительные песни и романсы от «Эоловой арфы», «Кассандры», «Ахилла», «Не узнавай, куда я путь склонила», «Орлеанской девы» Жуковского; но общество не поняло бы последних, если б не перешло через первые. И этот переход был тем естественнее, что у самого Жуковского были пьесы посредствующие для такого перехода, как-то: «Людмила», «Светлана», «Двенадцать спящих дев», «Пустынник», «Алина и Альсим» и т. п. Новый элемент, внесенный Жуковским в русскую литературу, был так глубоко знаменателен, что не мог ни быть скоро понят, ни произвести скорых результатов на литературу, и потому Жуковского величали балладником, певцом могил и привидений, – а подражатели его наводняли и книги и журналы чудовищными кладбищными балладами, – в чем и заключается смешное этого периода русской литературы. Впрочем, Жуковский так же виноват в смешном этого периода, как Шекспир в уродливых и нелепых немецких трагедиях Грильпарцера, Раупаха, Шенка и подобных им. Кроме того, надо заметить, что смысл поэзии Жуковского обозначился для общества позднее, уже при Пушкине, а до тех пор, особенно при начале поприща Жуковского, литература русская представляла собою смешение разных элементов, новое и старое, дружно действовавшее: Капнист допевал свои длинные элегические рассуждения в стихах; Озеров сделал из французской трагедии все, что можно было сделать из нее для России, и в лице его французский псевдоклассицизм совершил на Руси полный свой цикл, так что Озеров был у нас последним даровитым его представителем; Крылов продолжал создание народной басни; Пушкин (Василий) считался одним из знаменитейших поэтов; Батюшков, как талант сильный и самобытный, был неподражаемым творцом своей особенной поэзии на Руси; князь Вяземский был творцом особенной, так называемой светской поэзии и по справедливости почитался лучшим критиком своего времени, блестящим, живым и не связанным классическою схоластикою, которая так много повредила критическому влиянию Мерзлякова на общество. С появлением Пушкина все изменилось, и новое поколение резче чем когда-либо отделилось от старого. Между прочими элементами начал проникать в русскую литературу элемент исторический и сатирический, в котором выразилось стремление общества к самосознанию. Пользуясь этим направлением времени, некоторые ловкие литературщики с успехом пустили в ход разные нравоописательные, нравственно-сатирические и исправительно-исторические романы и повести, которые будто бы изображали Русь, но в которых русского было – одни собственные имена разных совестдралов и резонеров.{5} Но тут были и достойные уважения исключения, из которых самое яркое – романы и повести талантливого, но не развившегося Нарежного. В Гоголе это направление нашло себе вполне достойного и могучего представителя.