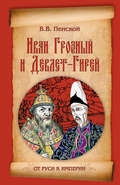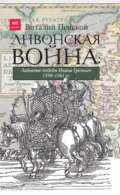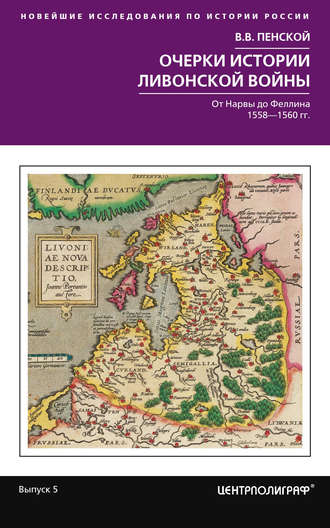
Виталий Пенской
Очерки истории Ливонской войны. От Нарвы до Феллина. 1558—1561 гг.
© Пенской В.В., 2017
© «Центрполиграф», 2017
* * *
От автора
Идея написать эту книгу родилась случайно и на первых порах не входила в наши планы. Занимаясь изучением истории русского военного дела в «классический» «московский» его период (2-я половина XV – начало XVII в.), в первую очередь мы интересовались историей русско-крымских конфликтов, поскольку с середины XVI в. на несколько десятилетий именно Крым становится если не самым главным, то, во всяком случае, наиболее опасным врагом Русского государства. Да и то сказать – даже на пике своих успехов Стефан Баторий, король молодой Речи Посполитой, мог только мечтать о походе на Москву и ее разорении, тогда как крымский хан Девлет-Гирей дважды подступал к Москве, в 1571 и 1572 гг., и даже спалил ее в мае 1571 г. Ливония же была для Ивана Грозного и его бояр даже не второстепенным неприятелем, и уж точно не рассматривалась как объект приложения основных внешнеполитических и военных усилий. Однако в 2012 г., случайно заинтересовавшись историей Ливонской войны (благодаря А. Томсинову, за что мы ему признательны), мы обратили внимание, что при всем том внимании, которое уделялось и уделяется истории этого конфликта в отечственной исторической и околоисторической литературе, именно военный аспект его практически не разработан. В лучшем случае в книгах можно отыскать лишь самый общий абрис военных усилий России в этой войне (отметим сразу, что мы исходим из того, что Ливонская война – это прежде всего конфликт между Русским государством и Ливонской конфедерацией в 1558–1561 гг., которая, в свою очередь, выступала частью более крупного конфликта, в который так или иначе оказались втянуты не только Россия и Ливония, но Великое княжество Литовское и Польша, в 1569 г. объединившиеся в новое государство, известное под названием Речь Посполитая, а также Дания, Швеция и Ганзейский союз).
В итоге мы решили для начала хотя бы для себя разобраться в военных перипетиях именно Ливонской войны как важнейшего военного конфликта на начальном этапе Войны за ливонское наследство (так, по нашему мнению, было бы правильнее назвать серию войн на Балтике и прилегающих к ней землях Северо-Восточной Европы в 1555–1595 гг.). Как результат, на свет появилась серия статей об отдельных эпизодах этой войны, которые затем (благодаря любезному предложению К. Козюренка и К. Нагорного) превратились в краткий популярный очерк истории этой войны, опубликованный в одном из выпусков сетевого военно-исторического журнала «История военного дела: исследования и источники». А затем при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 14-41-93017) этот краткий очерк был существенно переработан, дополнен и расширен, в результате чего на свет и появилась эта книга.
Безусловно, автор прекрасно понимает, что для того, чтобы закрыть эту тему, усилий одного исследователя недостаточно – множество участников конфликта, втянутых в него или непосредственно (как Россия или Польша), или косвенно (та же Священная Римская империя или Англия), колоссальный объем отложившихся документов и иных материалов, включая дипломатическую переписку, воспоминания участников, исторические хроники и прочая, и прочая, и прочая, делает эту работу совершенно неподъемной. Здесь не обойтись без создания международной исследовательской группы, в которую вошли бы историки стран, так или иначе связанных с этой войной. Однако это дело далекого будущего, но автор полагает, что его скромный вклад в разработку этой проблемы не останется незамеченнысм и будет способствовать (вместе с исследованиями А. Филюшкина) росту интереса к этой и связанной с нею проблеме (и если это произойдет, то автор будет считать свою первостепенную задачу выполненной). И кто знает, может быть, полная и всеобъемлющая история и Ливонской войны, и Войны за ливонское наследство все же будет написана, и случится это скорее, чем можно надеяться.
В завершение, прежде чем предложить читателям перевернуть эту страницу и начать чтение истории Ливонской войны, хотелось бы отметить, что, работая над ней, мы постарались по максимуму использовать опубликованные материалы и источники как с русской, так и с другой, в первую очередь ливонской и польско-литовской, стороны. Это стало возможным благодаря проделанной кампанией Google колоссальной работе по оцифровке и размещению в свободном доступе огромного массива литературы, прежде всего сборников документов, по заинтересовавшей нас теме. Отдельно мы выражаем признательность А. Баранову, который оказал нам помощь и содействие в поиске опубликованных и размещенных в Сети материалов по истории конфликта. И конечно же мы не можем искренне не поблагодарить нашу супругу, Т. Пенскую, неизменно поддерживавшую и поддерживающую нас в наших научных изысканиях и обеспечивающую нам надежный тыл.
Пролог
1. Главная война Ивана Васильевича?
Странный вопрос – скажете вы, уважаемый читатель, это же ясно как божий день! Речь дальше пойдет о Ливонской войне, которая, как известно всем со школьной скамьи, длилась четверть века – с 1558 г., когда полки Ивана Грозного вторглись в Ливонию, и до 1583 г., когда было подписано Плюсское перемирие между Россией и Швецией.
Этот военный конфликт считается одним из ключевых событий русской истории как оказавший огромное воздействие на развитие и Русского государства, и русского общества. И в этом, на первый взгляд, нет никакого преувеличения. «Правление Ивана (Грозного. – В. П.) раскрыло в драматической и даже страшной форме всю парадоксальность попыток создать мировую империю на незащищенной и неблагодатной земле северо-востока Европейской равнины. В военном плане Московия становилась ведущей державой. В экономическом – была весьма многообещающей благодаря своим богатым людским и территориальным ресурсам (хотя это утверждение по отношению к России XVI и даже XVII вв. довольно сомнительно. – В. П.). Однако уровень ее технического развития оказался слишком примитивен для мобилизации всех этих ресурсов, а расслаивающаяся, ограниченная и патримониальная природа унаследованной Русью социальной структуры препятствовала объединению ее сил…» – писал британский историк Дж. Хоскинг[1]. С этим утверждением можно поспорить, однако представляется, что главное подмечено им достаточно точно – молодое Московское царство надорвалось в попытке поднять оказавшийся неподъемным для себя имперский груз. Борьба за ливонское наследство, в которую втянулся Иван Грозный в 1558 г., ускорила возобновление застарелого, начатого еще дедом Ивана, тоже Иваном, но Иваном III, конфликта с Великим княжеством Литовским, которое рассматривало Ливонию как сферу исключительно своих интересов. И все это происходило на фоне резко обострившегося в начале 50-х гг. противостояния с Крымским ханством как составной части борьбы на этот раз уже за ордынское наследство. В итоге многолетняя война на несколько фронтов ускорила наступление в России всеобъемлющего политического, социального и экономического кризиса[2]. Его последствия полностью преодолеть так и не удалось, и в начале XVII в. произошел взрыв, поставивший страну на грань гибели.
Казалось бы, при таком раскладе история Ливонской войны должна была стать предметом пристального внимания историков, и не только российских. Однако, увы, есть все основания согласиться с мнением петербургского историка А.И. Филюшкина, который с горечью писал, что «среди войн, которые вела России на протяжении своего существования», выделяется тем, что она, как это ни парадоксально, «одна из самых незнаменитых»[3]. Полноценного исследования по истории Ливонской войны в отечественной, да и в зарубежной историографии, по существу, нет до сих пор. Исследованию подвергались отдельные страницы ее истории[4], но попыток составить отдельные фрагменты мозаики в целостное повествование, в котором тщательному разбору и анализу были бы подвергнуты если и не все, то хотя бы самые важные аспекты этого события, практически не было. Если вести речь об отечественной исторической науке, то единственной отечественной работой, в которой была сделана такая попытка, является вышедшая более полустолетия назад книга В.Л. Королюка «Ливонская война» (и то она, к сожалению, является скорее научно-популярной, нежели сугубо научной, академической работой). Образно говоря, титаническая фигура Ивана Грозного вобрала в себя все внимание историков, не оставив им ни времени, ни сил для столь же основательного изучения других сюжетов из истории той эпохи (хотя даже опубликованных источников, как русских, так и зарубежных, достаточно для того, чтобы подготовить обзорную работу по той же военной истории конфликта в Ливонии). Добавив к этому определенный «консерватизм» исторической мысли[5] и «шаблонность» мышления историков[6], и на выходе мы получим то, что имеем, – общее невнимание (как это ни парадоксально звучит) историков к Ливонской войне (в особенности к военной составляющей ее истории) и набор «образов», или, если хотите, мифов, причем весьма устойчивых, определяющих ее образ в массовом историческом сознании, но при этом имеющих весьма опосредованное отношение к минувшей исторической реальности.
Прежде всего, коснемся первого из этих устойчивых «образов» – собственно самой Ливонской войны 1558–1583 гг. По нашему глубокому убеждению, под этим общепринятым термином скрывается целая цепочка военных конфликтов, которые хотя и были связаны друг с другом, тем не менее четко различались современниками и лишь позднее уже потомками были объединены под одним именем[7]. Причины, вызвавшие к жизни эту войну, охарактеризовал уже упоминавшийся нами выше А.И. Филюшкин, один из немногих современных отечественных историков, серьезно занимающихся историей войны за Ливонию. Он отмечал, что «в середине XVI века сошлись несколько факторов, из-за которых передел балтийского мира стал неизбежен». Это и упадок немецких рыцарских орденов, обосновавшихся за несколько столетий до этого в Прибалтике и Пруссии; и стремительное ослабление некогда могущественного союза северогерманских городов – Ганзы; и освобождение из-под власти Дании Швеции с Норвегией; и стремление объединенных личной унией Польши и Литвы распространить свою власть и влияние на орденские владения и получить выход к морю; и желание России поставить под свой контроль отлаженную веками систему посреднической торговли, которую вели прибалтийские города, обеспечив тем самым себе беспрепятственный доступ на рынки Северной Европы и к западноевропейским технологиям (и к военным, и, как это принято сегодня говорить, «двойного назначения»). «Все эти желания и чаяния всех стран Балтийского региона предполагали одно и то же: Ливонский орден должен прекратить существование и послужить во благо других государств своими территориями, городами, деньгами и прочими ресурсами и богатствами», – завершал свою мысль историк[8]. Одним словом, речь шла о том, кто наложит руку на ливонское наследство и заполнит тот политический вакуум, который неизбежно должен был образоваться в результате смерти, не важно, естественной или насильственной, Ливонской конфедерации (назовем ее так, поскольку, помимо ордена, здесь важную роль играл рижский архиепископ и епископ Дерпта). А в том, что эта смерть рано или поздно должна была наступить, вряд ли стоило сомневаться. К середине XVI в. ослабевшая, раздираемая внутренними противоречиями и смутой Ливония, этот «больной человек Северо-Восточной Европы», уже не могла противостоять желанию более могущественных соседей полакомиться ею и была обречена. Но интересы держав, которым предстояло сойтись в смертельной схватке, имели разную направленность. Главным следствием упадка Ливонии стало то, что в северовосточной части Европы во весь рост встали два вопроса, которые вскоре станут причиной неоднократных войн в этом регионе, – «балтийский» и «ливонский». Соглашаясь в этом с мнением, высказанным А.И. Филюшкиным, все же отметим, что при всей тесной взаимосвязи этих вопросов они имели свою специфику. «Балтийский» вопрос имел «морской» характер и затрагивал в первую очередь интересы Дании и Швеции (а также союза северогерманских торговых городов, Ганзы[9], имевшей на Балтике свой интерес), которые боролись за право установить собственный контроль за Балтийским морем и в полной мере использовать полученную монополию на владение Mare Balticum для реализации своих великодержавных планов. «Ливонской» же вопрос был преимущественно «континентальным» и касался в первую очередь Русского государства и Великого княжества Литовского. При этом создается впечатление, что последнего даже в большей степени, нежели первого – король Польши и великий князь Литовский Сигизмунд II пытался за счет поглощения Ливонии возместить убытки от окончательно заглохнувшей к тому времени попытки развить экспансию в южном направлении, в сторону Черного моря. Ивану же Грозному и его боярам в 1-й половине 1550-х гг. было не до Ливонии, ибо на волне послеказанской эйфории они были захвачены идеей окончательного разрешения татарского вопроса посредством подчинения Крыма воле Москвы. И схватка между Москвой и Вильно из-за Ливонии по большому счету стала продолжением начавшейся еще при Иване III и Казимире IV 200-летней русско-польско-литовской войны, победитель в которой получал поистине царский приз – доминирование в Восточной Европе. Потому-то и ставки в этой борьбе для русского и литовского монархов выше, нежели чем для датского и шведского, равно как и значимость русско-литовской борьба за Ливонию представляется для судеб Восточной и Северо-Восточной Европы более весомой, чем последствия датско-шведской морской войны (так называемой Семилетней, 1563–1570 гг.)[10].
В свете всего сказанного выше нам представляется, что логичным было бы расширить рамки привычной нам Ливонской войны, определив началом ее 1555 г., когда вспыхнул скоротечный военный конфликт между Русским государством и Швецией, а концом – опять-таки Русско-шведскую войну 1591–1595 гг. И поскольку боевые действия на море занимали во всех этих конфликтах в целом не самое главное место, то предложенное для них А.И. Филюшкиным название «Балтийские войны»[11] представляется не совсем точно отражающим их подлинную сущность. «Балтийская», «морская» составляющая разгоревшегося во 2-й половине XVI в. в Северо-Восточной Европе конфликта все же уступала по своей значимости «сухопутной», «ливонской» ее компоненте. И потому, на наш взгляд, термин «Война за ливонское наследство» подходит для характеристики этой серии войн как нельзя лучше. Более того, цепочка войн, растянувшаяся на 40 лет (с 1555 по 1595 г.), по существу, стала лишь первым этапом борьбы за это наследство, растянувшейся в итоге на без малого два с половиною столетия (если считать, что итог ее был подведен Третьим разделом Речи Посполитой и окончательным переходом Курляндского герцогства под власть Российской империи в 1795 г.). И при таком раскладе выходит, что собственно Ливонской войной можно смело назвать боевые действия в Ливонии в 1558–1561 гг. В эти четыре года Москва сокрушила Ливонскую конфедерацию и недвусмысленно заявила о своих претензиях на немалую часть ливонского наследства.
По своему размаху, по количеству вовлеченных в нее сил и средств Ливонская война 1558–1561 гг., третья (после Русско-шведской войны и войны коадъюторов[12]) в ходе Войны за ливонское наследство), отнюдь не впечатляет. Этого не скажешь о ее последствиях, которые повлекли за собой коренное изменение ситуации в СевероВосточной Европе.
Эти-то последствия (о них будет сказано подробнее впоследствии) вкупе с послезнанием о том, как развивались события после решения Ивана Грозного отправить свои войска вразумить неразумных ливонцев и породили другой историографический «образ» о том, что именно Ливонская война (конечно, в ее прежнем смысле) была главной войной Ивана Васильевича. Но так ли это на самом деле? Для ответа на этот вопрос необходимо сделать довольно далекий экскурс в историю внешней политики Русского государства, начав со времен Ивана III, когда, говоря словами немодного ныне классика, «изумленная Европа, в начале правления Ивана едва знавшая о существовании Московии, стиснутой между татарами и литовцами, была ошеломлена внезапным появлением на ее восточных границах огромной империи, и сам султан Баязид, перед которым Европа трепетала, впервые услышал высокомерную речь московита»[13]. Именно тогда, при Иване III, были завязаны те узелки, которые попытался саблей разрубить его внук. И узелки эти – татарский и литовский (с которым, как оказалось, самым теснейшим образом был связан и ливонский вопрос).
Сам Иван III, заручившись поддержкой крымского хана Менгли-Гирея I, фактического основателя Крымского ханства, и подчинив своей воле ханство Казанское (не последнюю роль в этом сыграло то обстоятельство, что среди самих татарских «юртов», возникших на месте распавшейся Золотой Орды, не было единства – и Крым, и Казань с подозрением взирали на попытки Большой Орды восстановить прежнее единство, и московский великий князь умело этими распрями воспользовался), сосредоточил свои основные внешнеполитические усилия на расширении своих владений за счет земель, ранее вошедших в состав Великого княжества Литовского. Действуя напористо и вместе с тем хитро и изобретательно, применяя, где было возможно, дипломатию, а где нужно – то и прямое насилие, к концу своего правления он сумел отобрать у Ягеллонов немалый кусок прежних приобретений великих литовских князей[14]. Его сын и преемник Василий III попытался было продолжить политику своего отца и отвоевал в ходе начавшейся в 1512 г. 1-й Смоленской войны Смоленск (город пал после третьей подряд осады летом 1514 г.). Однако этот успех оказался для него на этом, западном направлении экспансии и последним. Война закончилась в 1522 г. перемирием, Василий сумел удержать за собой Смоленск, ставший камнем преткновения во всех последующих попытках окончательного русско-литовского урегулирования, но добиться большего не смог. И не последнюю роль в этом сыграла позиция крымских Гиреев.
Почему распался русско-крымский союз, казавшийся столь прочным? Увы, он покоился на довольно шатких основаниях. И Менгли-Гирей, и его преемники, вынашивая идею объединить под своею рукою все татарские юрты и самим воссесть на опустевший было золотоордынский трон, с большой опаской наблюдали за тем, как растет могущество Москвы. И как только отпал мотив, объединявший Крым и Москву (а мотив этот – совместное отражение угрозы со стороны Большой Орды), то и русско-крымский союз прекратил свое существование. Крымские Гиреи сочли для себя более выгодным выступить в роли «третьей силы» в русско-литовском противостоянии, ловить рыбку в мутной воде и, открыв «крымский аукцион», разменивать свою благосклонность и готовность поддержать то одну, то другую сторону в обмен на щедрые «поминки» с той или другой стороны. Гордые и год от года наращивавшие свою мощь московиты не отличались особой щедростью. Так, Иван Грозный отписывал по этому поводу своему «партнеру», крымскому «царю», что он «дружбы у царя не выкупает, а похочет с ним царь миритися по любви, и царь и великий князь с ним миру хочет по прежним обычаем…»[15]. Этого не скажешь о Ягеллонах. Московский «доброхот» Аппак-мурза еще в 1519 г. жаловался Василию III, что ему трудно отстаивать его, великого князя, интересы, поскольку «от короля (Сигизмунда I. – В. П.) черленое золото, белое серебро льется» рекой (и потому хорошо бы прислать в Крым «доброго своего боярина» с «добрыми поминками с прибавкою», чтобы можно было подкупить татарских вельмож)[16]. В результате на протяжении большей части XVI столетия Крым явно или неявно поддерживал Вильно.
Понятно, что воевать с Литвой столь же успешно, как это делал Иван III, его преемники, вынужденные постоянно оглядываться налево, в крымскую сторону, уже не могли. Как-никак, а шагать столь же широко, как прежде, имея на ногах многопудовое крымское ядро, стало невозможно. Игнорировать же татарскую угрозу, как показали события 1521 г., было невозможно – попытавшись переинтриговать Мухаммед-Гирея I, сына и преемника Менгли-Гирея, Василий III дождался хана на Оке под Коломной. В скоротечной битве татары разгромили государевы полки и опустошили окрестности русской столицы. Отдельные крымские разъезды подошли к самой Москве и «в Воробьеве (а село Воробьево находилось всего лишь в 7 км от Кремля, на Воробьевых горах, в районе нынешнего МГУ. – В. П.), в великого князя селе, были и мед на погребех великого князя пили»[17]. Растерявшийся и упавший духом Василий III бежал из Москвы, а оставленный «на хозяйстве» в столице его зять, крещеный татарский царевич Петр, был вынужден дать Мухаммед-Гирею грамоту. Согласно этой грамоте московский государь обязывался стать данником крымского «царя». И пусть грамота эта была вскоре утеряна, об этом успехе никогда не забывали и в Крыму, и преемники Мухаммед-Гирея на крымском троне не раз пытались повторить его.
И если бы только ханы! В 1523 г. Мухаммед-Гирей, захвативший было Астрахань, был убит там ногаями. После этого ногаи устроили погром в Крыму, и ханство надолго погрузилось в пучину анархии и политического хаоса. И все бы ничего – разве плохо, если твой недоброжелатель озабочен своими внутренними проблемами и ему не до того, чтобы вставлять тебе палки в колеса? Однако эта затянувшаяся крымская «замятня» привела к тому, что в определенном смысле повторилась ситуация времен великой ордынской «замятни», когда политическая нестабильность внутри Орды спровоцировала рост нестабильности и на русско-ордынском пограничье. Так и сейчас – несдерживаемые больше из Кыркора, многочисленные крымские «царевичи, и сеиты, и уланы, и князья», кликнув не менее многочисленных татарских «казаков», на свой страх и риск отправлялись «за зипунами» на государеву украину. Началась практически непрерывная «малая» война. И эта пограничная, «украинная» «малая» война с летучими отрядами крымцев, которые, по выражению английского дипломата Дж. Флетчера, «кружась около границы подобно тому, как летают дикие гуси, захватывая по дороге все и стремясь туда, где видят добычу…»[18], не прекращалась на протяжении многих последующих десятилетий. Для нескольких поколений русских служилых людей «береговая» служба стала столь же неизбежной, как и восход или заход Солнца. Каждый год ранней весной сотни и тысячи детей боярских с послужильцами заступали на государеву службу «на берегу», вдоль Оки (а с конца века за Окой), для противодействия возможным набегам татарских людоловов, и оставались там до поздней осени. В этой татарской, по словам русского философа Г.П. Федотова, «школе» «выковался особый тип русского человека – московский тип, исторически самый крепкий и устойчивый из всех сменяющихся образов русского национального лица… Что поражает в нем прежде всего… это его крепость, выносливость, необычайная сила сопротивляемости…»[19].
Урегулировать отношения с Крымом, добиться от преемников Менгли-Гирея если не восстановления прежнего союза, то хотя бы благожелательного нейтралитета и избавиться от этого бремени, ложившегося все более и более тяжким грузом на плечи и служилых людей, и кресть ян, и посадских, оказалось фактически невозможно. С одной стороны, у Москвы долгое время не было возможности надавить на крымских ханов чем-то большим, чем просто словами. Дикое Поле, поистине безбрежная степь оказалась для крымских татар крепостью понадежнее, чем самые мощные валы и стены. Если государева рать могла относительно легко достичь Казани и Астрахани по рекам, перебросив под их стены водой артиллерию, пехоту и все необходимые припасы – как писал американский историк У. Мак-Нил, «московские цари устанавливали свою власть повсюду, куда судоходные реки позволяли доставить тяжелые пушки…»[20], то с Крымом такой вариант не проходил. В итоге в борьбе с крымскими татарами русские не могли реализовать с таким же успехом, как в случаях с двумя другими татарскими юртами, Казанью и Астраханью, свое технологическое и техническое превосходство «пороховой империи»[21].
С другой стороны, крымская элита (по крайней мере, достаточно сильная и влиятельная часть ее) не была заинтересована в сохранении долговременных мирных отношений с Русским государством в силу отсутствия (в отличие, к примеру, от Казани или Ногайской Орды) прочных экономических связей с Москвой. Можно, конечно, было взять на содержание часть татарских «солтанов и вланов, князеи и полковых князеи, и их братью, и их детеи мурз», но содержание «московской партии» при ханском дворе стоило дорого, очень дорого. К тому же, как уже отмечалось выше, в скуповатой Москве к вопросам престижа относились очень щепетильно, не желая давать регулярной выплатой богатых «поминков» повод крымским «царям» полагать русских государей своими данниками (а именно так и ставили вопрос татарские династы[22]).
Наконец, великодержавные претензии ханов по-прежнему не находили понимания в Москве. Как, к примеру, должны были реагировать в русской столице на послание хана Сахиб-Гирея I, брата Мухаммед-Гирея? Недовольный промедлением «московского» в сношениях с ним, «Великие орды великим царем силы находцем и победителем», он писал юному Ивану IV в мае 1538 г., что вот-вот выступит из Крыма с войском в поход на Москву. И если великий князь хочет спасти себя и свою страну от разорения, продолжал крымский «царь», то пускай немедленно «своего большего посла с своею казною наборзе бы еси его к Путивлю послал. А перед ним бы еси часа того послал к нам сказати, чтоб в малых днех у нас были». «И будеш по моему слову, – продолжал хан, – ино вельми добро, и мы с тобою, по тебе посмотря, мир учиним». Ну а если Иван, не прислушавшись к голосу разума, по-прежнему будет упорствовать, то тогда, грозил Сахиб-Гирей, «и ты посмотрит, что мы тебе учиним… более ста тысяч рати у меня есть и возму, шед, из твоей земли по одной голове, сколько твоей земле убытка будет и сколько моей казне прибытка будет, и сколько мне поминков посылаешь, смети того, убыток свои которой более будет, то ли что своею волею пошлеш казну и что сколько войною такою возмут, гораздо собе о том помысли. И только твою землю и твое государство возму, ино все мои люди сыти будут»[23].
К счастью для Москвы, Сахиб-Гирей, который, с его воинственностью и угрозами мог бы стать для Москвы серьезной головной болью (тем более что ему удалось навести порядок в Крыму и восстановить тамошнюю «вертикаль власти»), ею не стал. Судя по всему, московское направление крымской политики для него не являлось первостепенным. Увлеченный, как и его брат Мухаммед, внешнеполитическими прожектами, Сахиб-Гирей упустил из виду пробуждение московского медведя.
В Москве же тем временем произошли серьезные перемены. Со смертью воинственного Мухаммед-Гирея угроза нового разрушительного «крымского смерча» стала не столь актуальной – крымским царевичам было не под силу поднять на Русскую землю весь крымский юрт[24]. «Малая» же война при всей ее болезненности не носила для Москвы фатального характера, и Василий III вместе с боярами решил все же не менять ориентиры во внешней политике. Западное, «литовское» направление оставалось главным, а восточное и южное, «татарские», по отношению к первому второстепенными. Действия Москвы здесь были продиктованы стремлением не допустить формирования под крымской эгидой единого татарского «фронта» с антимосковской направленностью. Если бы такая коалиция возникла, то Василию пришлось бы отказаться от своих планов продолжить экспансию на западе (между тем, как полагает М.М. Кром, в начале 1530-х гг. Россия и Литва находились на грани войны, и действия Василия III в эти годы как будто подтверждают эту версию[25]). Потому-то все усилия Москвы были нацелены на то, чтобы не допустить возникновения такого союза. Для этого она активно вмешивалась в крымскую «замятню», поддерживая Саадет-Гирея, преемника Мухаммед-Гирея, но одновременно не забывая «прикармливать» и его соперника Ислам-Гирея. Одновременно русские дипломаты искусно играли на противоречиях между «московской» и «крымской» «партиями» в Казани (и не останавливаясь перед военными демонстрациями, которые должны были привести на казанский стол «московского» хана), привечали ногайских мирз (памятуя о старинной вражде ногаев и крымцев), сколачивая и здесь «московскую» «партию». Таким образом, можно с достаточно высокой степенью уверенности говорить о том, что в целом московская стратегия на этом направлении оставалась оборонительной, и глобальных задач по окончательному решению татарского вопроса в Москве не ставили – но до поры до времени. Эта пора наступила в начале 40-х гг. XVI в. Бурные политические пертурбации и скоротечные перемены на московском политическом Олимпе, последовавшие за безвременной кончиной матери Ивана IV Елены Глинской, железной рукой управлявшей государством за малолетнего сына, привели к смене внешнеполитического вектора. Сперва в январе 1542 г. в результате классического дворцового переворота пал могущественный боярин князь И.Ф. Бельский, а вместе с ним и его конфидент митрополит Иоасаф. Спустя пару месяцев, в марте того же года, на незанятую митрополичью кафедру был возведен новгородский архиепископ Макарий, а освободившуюся в связи с его поставлением на митрополию новгородскую кафедру занял игумен новгородского Хутынского монастыря Феодосий[26]. Затем, согласно разрядным записям, «лета 7051-го году в сентебре (т. е. осенью 1542 г. – В. П.) приговорил князь великий итить в козанские места из Мурома воеводам по полком»[27]. Правда, этот поход, по неясным причинам, не состоялся, но спустя два с половиною года, в апреле 1545 г., «послал князь великий Иван Васильевич всеа Русии впервые х Козани в судех полою водою воевод своих по полком князя Семена Ивановича Пункова Микулинского с товарыщи из Нижнева Новагорода по полком»[28]. Этой экспедицией было положено начало долгой, растянувшейся на семь с лишним лет очередной, которой уже по счету, Казанской войне. Закончилась она в октябре 1552 г. кровавым взятием Казани и покорением Казанского юрта (не сразу «подрайская землица» признала власть московского государя и его наместников, не сразу – только лишь после долгого и упорного сопротивления). Но вот что любопытно во всей этой «казанской истории» – митрополит Макарий и новгородский архиепископ Феодосий играют в ней далеко не последнюю роль. Именно они выступают (в особенности Макарий[29]) апологетами наступательной войны против казанских татар и всячески поддерживают воинственные настроения молодого Ивана IV и его воинов, изрядно приунывших после двух первых безуспешных крупномасштабных походов на Казань[30]. Впору говорить о том, что Макарий и второе после него лицо в русской церковной иерархии (Феодосий Новгородский) – лидеры «партии войны» при московском дворе, одни из главных закоперщиков и инициаторов наступления на Казань!