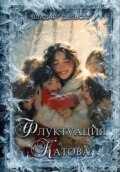Владарг Дельсат
Две жизни
Сирота
Обычный летний день. Деревня у самого города живёт своей жизнью, мы, юные пионеры, стоим лагерем почти за околицей. Слышно, как перекликаются женщины, мычат коровы, блеют козы. Пионерский лагерь у нас похож на настоящий – с палатками, импровизированной кухней, кострищем. Сегодня моя очередь завтрак готовить, поэтому я поднимаюсь пораньше. Ну не только я, Васька ещё Сазонов, доброволец по разжиганию огня, потому что на нашу ораву готовить не так просто.
Мы сироты, поэтому умеем многое. Кто-то изначально из детского дома и не помнит другой жизни, кто-то, как я, были выловлены на улице. В детдоме лучше, чем в подворотне, – и поесть дают, и бьют меньше. Ну и одежда по погоде, а не «как повезёт». Мне не везло, поэтому, когда меня нашли, я уже и жить не хотела.
А в детдоме хорошо – тепло, кормят. Не так, чтобы прямо досыта, но еда всегда есть. И надеть есть что ещё, а как в пионерки вступила, так и еды стало больше, и одежда получше, и отношение… Вот сейчас я в платье с галстуком занимаюсь большим котлом, в который сначала воду налить надо – за ней в деревню переться, а потом и перловку засыпать. К работе я привычна, уяснила уже: чтобы кормили, надо работать, но в любом случае это не пытаться хлеб украсть или побираться.
Взяв ведро, иду в сторону деревни. Тут нас уже знают, поэтому враждебно не реагируют, понимают, что выбор места лагеря от нас никак не зависит. Язык, на котором говорят вокруг, – помесь белорусского и польского, но по мне хоть китайский, я его всё равно не понимаю, ну или через пень-колоду. Жарко сегодня, даже слишком жарко, да ещё и самолёты разлетались, непонятно с чего. Я провожаю взглядом проплывающие в вышине птицы, отчего-то летящие на восток. Значит, не война. Что бы в войну самолётам на востоке делать?
– Дзень добрый! – здороваюсь я с тётей Анной.
– Здравствуй, Маруся, – с мягким акцентом, но по-русски, отвечает мне эта женщина.
Пани Анна выглядит тощей кочергой в платье синего цвета; она так-то не злая, но сейчас говорит ласково, что меня пугает, конечно. Не любят они детей, да и русских в принципе, поэтому ласка в её голосе – это очень странно. Впрочем, со мной, наверное, ничего случиться не может. Для того, о чём все мужики думают, я маленькая ещё, так что не боюсь ничего.
Родилась я, по слухам, в тридцатом году, сейчас мне, значит, одиннадцать, хоть и выгляжу на девять максимум – очень голодное детство у меня было. Мамку я ещё как-то помню, а батю нет. Был ли он у меня? Трудно сказать… Мамку мусора повязали и на «чёрном вороне» увезли навсегда, а я сбежать сумела. Говорили тогда, врагом народа оказалась мамка, а меня бы сразу в лагерь законопатили, несмотря на мои тогдашние семь лет. Страшно было – просто жуть как! У энкаведе, говорят, лагеря для детей малых страшные: бьют каждый день, голодом морят и заставляют без всего ходить. Просто отнимают одежду, и всё. Страшно от таких рассказов… Потому я сбежала, а когда ловили, чужой фамилией называлась, оттого я остаюсь Марусей, но фамилия у меня Найдёнова, так директор детдома записал.
С трудом вытаскиваю из колодца ведро с водой, заливаю её в принесённое с собой. Надо бы с двумя вёдрами ходить, да не унесу я, потому плетусь с одним. Надо будет Ваську со вторым послать… Или самой сходить? Потом решу.
Места здесь очень красивые, несмотря на то что военных много в округе – до границы километров сто, может, и все двести, я не интересовалась. Военных действительно много, особенно в последнее время, и далеко не все по-русски говорят. Вона вчера слышала, как говорили совсем не по-нашенски, я даже к милиционеру подошла в деревне, а он говорит, что кино снимают.
Вот и наша поляна. Огонь Васька разжёг и делся уже куда-то, придётся всё самой делать. Я заливаю воду в котёл, тянусь за перловкой. Ещё, наверное, можно тушёнкой кашу сдобрить, но за тушёнкой к вожатому идти нужно, а он меня не любит, всё ударить норовит, но я же беспризорница, я и не таких видала. Так что он на меня замахивается и выпороть обещает, я ему в ответ мелкие пакости. Так и живём…
Посолить надо не забыть, а то, если невкусно будет, тумаков надают. Ребята, даже несмотря на пионерские правила, вполне могут, это я уже проходила. И бьют, бывает, так, что не пожалуешься, потому что только хуже будет. А ещё могут под подол крапивы насовать… В общем, лучше посолить вовремя. Солю воду, пробую – вроде бы нормально, потом ещё добавлю, наверное.
Издали доносится треск какой-то, я просто пожимаю плечами – мне-то что? У меня вон каша подходит, скоро вожатый поднимет всех, будет на зарядку строить. Потом умываться, вода-то в рукомойниках с вечера стоит, так что есть чем. Ну а там и завтрак, вот к завтраку должно быть всё готово, а не то мало мне не покажется. Ну да не в первый раз, да и каша себя хорошо ведёт, правда, мешать её мне трудно – маленькая я. Авось не подгорит…
Мамку когда забрали, я убежала. Далеко убежала, так что и не нашли, а там на поезде товарном уехала аж в Белоруссию. Года два скиталась, а там меня и выловили, аккурат в Жлобине… Только так я и узнала, как местность-то зовётся. Платье моё тряпицей стало к тому времени, а бельё… ладно, прошло и прошло. Не заболела же, значит, всё хорошо. Особенно хорошо, что не знают о мамке.
Вот и каша готова, можно будить, но вожатый чего-то разоспался, надо бы глянуть… Или камнем ему в палатку запустить? Пойду, загляну, чего он спит, когда вставать пора.
Я подхожу к вожатской палатке и тут понимаю, чего он разоспался. Уговорил-таки Машку, ну или заставил. И то, и другое быть может, но я теперь туда не полезу. Поймёт, что я знаю, – бежать придётся, так что иду обратно к котлу, меня тут не было. Машка-то уже взрослая, но дурная, ничего, кроме треска по мотивам газет, не знает. Так что её проблема.
Я пробую кашу, вспоминая, что надо опять идти за водой – для чая. Вздыхаю, гашу огонь и берусь за ведро. Надо топать в деревню. Почему-то мне кажется, военные опять чего-то творят… или гроза идёт? Смотрю на небо – ни облачка. Значит, точно не гроза, а что тогда? Может, полез немец и наши по ним как раз могучим ударом? Ну полез и полез, мне-то что.
***
В обед я снова иду за водой, потому что дежурная. Вот что странно: девчата обычно парами дежурят, а я одна. Получается, вожатый меня прямо так сильно не любит? Ну да бог ему судья, или энкаведе, что ближе. Я захожу в деревню, сразу замечая, жители изменились. Некоторые смотрят на меня со злостью, некоторые с каким-то предвкушением, от которого страшно становится, а пани Анна…
– Маруся, иди сюда! – зовёт она меня к себе в дом.
Это очень странно, потому что местные жители нас недолюбливают, но я иду – терять мне нечего, максимум побьют, так не в первый раз уже. Пани Анна заводит меня в дом, усаживает на стул, и всё это молча. Комната у неё большая, светлая, образа в красном углу висят, и ещё тарелка репродуктора имеется. Стол застелен ажурной скатертью, чуть поодаль виднеется кровать с ходиками над ней. Они сейчас полдень с чем-то показывают.
– Передали, что будет важное сообщение, – показывает на репродуктор пани Анна. – Послушай, а потом поговорим.
Она произносит слова совсем без акцента, отчего я удивляюсь, но несильно. Кто её знает, отчего так? Я, например, не знаю и особо знать не хочу. Меньше знаешь… В общем, понятно… В этот самый момент пани Анна, подойдя к стене, чем-то щёлкает, и из репродуктора доносится сигнал «Слушайте все». Хорошо я этот сигнал знаю, он каждое утро у нас вместо будильника. И вот сразу после сигнала начинается речь, которую я не сразу даже понимаю.
– …Сегодня, в четыре часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбёжке со своих самолётов наши города1… – говорит спокойный, уверенный голос, но мне отчего-то становится зябко.
Я слушаю эту речь, стараясь вернуть уверенность в том, что наши быстро прогонят врага, но при этом вспоминаю взгляды жителей деревни, осознавая, что они ждут немцев, значит, могут предать. Вопрос только в одном: мне-то что делать? Надо нашим рассказать, обязательно надо, потому что в город же возвращаться придётся.
– Немец силён, – когда заканчивается речь, говорит мне пани Анна. – Очень силён, потому вам уходить надо, кто знает…
– Да, – тихо отвечаю ей. – Но мне могут не поверить…
– Тогда уходи сама, – качает она головой. – Я бы взяла тебя, но это опасно именно для тебя, поэтому просто иди на восток, поняла меня?
– Поняла, – киваю я, тяжело вздохнув.
Я осознаю очень хорошо: мне могут не поверить, особенно этот, вожатый, но что-то сделать я должна. Вспоминаются мои скитания, что неожиданно успокаивает. Я размышляю: возможно, придётся именно убегать, а это значит, надо хлеба с собой взять, колбасы, сыра… Небольшая котомка у меня есть, сама сшила, когда готовилась к побегу из детдома.
Я возвращаюсь обратно с водой, решив сначала собрать котомку, а потом уже говорить о войне. Очень уж пани Анна обеспокоенной выглядит, наверное, знает что-то такое, что мне неведомо. Что же, бережёного и бог бережёт. Лесом меня не напугать, дорогами тоже, значит, буду пробираться на восток. Глядишь, и доберусь. Ну это если не поверят, а если поверят, то хлеб лишним в пути не будет.
Закончив с приготовлением обеда, ухожу в палатку, чтобы собраться в дорогу. Сменной одежды у меня немного, но есть, а весь рюкзак таскать будет неудобно, это я просто знаю, потому что опыт есть. Ну вот, пока тихий час, я и собираюсь, лишь затем задумавшись: если взять котомку сразу с собой, то догадаются, а если не брать… Кто знает, поэтому я решаю припрятать её в лесу недалече.
Я понимаю, конечно, что уже настроена на побег, и другого варианта не рассматриваю. Наверное, это предчувствие или ещё что-то в таком роде, но задумываться я не люблю, поэтому действую по плану. Лесок у нас с севера. Он не сильно густой, но он есть. Вот тут я и прячу свои припасы меж корней дерева какого-то. Не знаю, какого, не разбираюсь я в них; знаю, какие ягоды можно, а какие нельзя, а вот в деревьях…
И вот я подхожу к о чём-то задумавшемуся вожатому, смолящему папиросу. Дым мне, конечно, неприятен, но сейчас проблема совсем в другом. Я не хочу, чтобы остальные услышали, запаниковать же могут, потому подхожу до окончания тихого часа. Зря я так, конечно, ведь знала же, как он ко мне относится.
– Чего тебе, Найдёнова? – интересуется он, раздражённо глядя на меня.
– Я в деревне радио слышала, – сообщаю ему. – Немцы напали. Сказали, что Отечественная война началась.
Я не успеваю даже договорить, как меня сбивает с ног сильная оплеуха. Я падаю на землю, да так, что у меня перед глазами темнеет.
– Ты лжёшь! – выкрикивает вожатый. – Лжёшь! Провокаторша! Паникёрша! – он бьёт меня ногой, потом что-то свистит, заставляя меня кричать от боли. – Молчать, сволочь! Вражина!
Он бьёт меня, а я откатываюсь в сторону, а потом… наверное, я убегаю, потому что обнаруживаю себя у самого леса. Оглянувшись, вижу, как ребята запрыгивают на обезумевшего вожатого, а он машет ремнём во все стороны. Вот, оказывается, чем он меня… Гад проклятый… Я всхлипываю от боли, потому что со всей силы же бил, а потом… Потом решаю не возвращаться.
Вот и опять я беспризорница. Взяв котомку, ухожу в сторону, чтобы найти место, где переночевать можно. Неожиданно недалеко нахожу что-то походящее на старую берлогу, куда натаскиваю лапника, чтобы помягче спалось. Ночи нынче тёплые, а лето жаркое, потому замёрзнуть не боюсь. Я слышу зовущие меня голоса, но не откликаюсь, а сворачиваюсь в клубочек, чтобы поплакать.
За что он меня так побил, за что? Я будто становлюсь той маленькой Маруськой, что скиталась по городам в надежде выжить. Снова я одна, и снова меня предали свои. Взяли и просто предали, ещё и избив напоследок. Потому что такие злые слова – это предательство. Вся левая сторона лица отекла, в голове гудит, а тело ноет и пульсирует от этой боли. Гадёныш наш вожатый, просто гадский гад, как говорил один босяк.
Я закрываю глаза, прислушиваясь к отчётливо слышимым сейчас бахам и бумам. За что со мной так? Ну за что? Правильно я убежала, потому что ещё неизвестно, как ребята отреагировали бы. Вполне могли тумаков надавать так, что я бы и не встала. Не верю я им больше, совсем просто не верю. Пожалуй, случившееся стало последней каплей. С этой мыслью я и засыпаю.
Дядя Гриша
Будит меня какой-то очень громкий «бах», отчего я подскакиваю на своей лежанке. Взглянув наверх, понимаю, что разоспалась – солнце уже высоко. Не полдень, но и не раннее утро. Где-то в стороне дороги бахает, значит, туда нельзя, хоть и любопытно, что происходит. Надо будет одним глазком посмотреть, всё равно же идти надо на восток.
Нельзя попадаться милиции здесь, надо подальше отойти, тогда, может быть, найдётся другой детдом, особенно если фамилию чужую сказать. А то боюсь. Меня этот вожатый вообще забьёт. Набитые со вчера места ноют, и плакать ещё хочется, всё-таки давненько меня не били именно так. Вздохнув, раскрываю котомку, надо сыр в первую очередь съесть, он испортиться может, жалко будет.
Ещё бы умыться, но это можно и потом. Интересно, послышался мне какой-то очень отчаянный крик или нет? Скорее всего, послышался, нет же никого в округе. Нужно собираться и идти, хотя до вечера времени много, наверное, но я маленькая, идти будет непросто. Не было бы у меня опыта, точно в беду попала бы, это я понимаю, из кустов наблюдая за дорогой. А по ней движутся незнакомые машины, точно не наши, потому что кресты нарисованы. И движутся они к городу, а не от него. То есть это немцы? Почему наши не прогнали их прочь? Не захотели? А мне что делать?
Не знаю, чего от них ожидать, поэтому не пойду на дорогу. Тяжело вздохнув, возвращаюсь обратно к лесу, понимая, что лёгкой прогулки не получится. Обидно, конечно, но ничего не поделаешь. Иду дальше по тропинке примерно в направлении города, а там указатели же будут, хотя восток по деревьям определить можно. Уж этому-то меня научили.
Я иду час, наверное, потом ещё один, бахи и бухи удаляются куда-то вперёд, а я не понимаю, где же наши? Ведь даже в песне было о могучем ударе, где он? Ощущаю себя какой-то потерянной, потому что за весь день, пока иду, не видела ни одного нашего. Разве такое может быть? Не верю и потому выхожу поближе к дороге, чтобы посмотреть, но там только с крестами машины и даже, кажется, танки, а больше ничего и никого нет. А нет, вон кто-то лежит, но я туда не пойду. Это дорогу переходить надо, а по ней машины носятся.
Переваливает за полдень, судя по солнцу, я останавливаюсь, чтобы поесть, и тут опять слышу крики. Вот кажутся они мне знакомыми, но кого я тут знать могу? А от лагеря я уже далеко отошла, да и вряд ли девчонки будут так ссориться, что окрест слышно. Наверное, птица какая так кричит, а я одна совсем, вот и кажется мне. Слыхала, что такое бывает, когда совсем одна… Эх… теперь мне долго одной быть придётся, боязно мне к людям идти.
Вот так я иду, рассматривая кусты, деревья, прислушиваясь, хотя, кажется, уже далеко бахает что-то. Наверное, город надо обойти, кстати. И вот тут я выхожу на поляну, которая совсем возле дороги находится. Заметно, что тут ездили, потому что трава примята, а на ней… Я даже сразу не понимаю, что вижу – тела белеют. Испугавшись, медленно подхожу поближе, замирая.
В скитаниях я много чего видела, потому знаю, для чего у нас срамное место используют, но вот вид истерзанных девочек заставляет меня сесть на корточки и заплакать. Это наши девочки из детдома, те, кто постарше, и они не дышат. Я сразу это вижу, когда медленно приближаюсь. Хочется визжать, но очень страшно, поэтому закрываю себе рот руками, увидев… И тут раздаётся тяжёлый стон. Я буквально прыгаю в ту сторону, чтобы увидеть Машку. Она вся в крови, не знаю, что с ней делали.
– Маша! Маша! – тормошу я её. – Что случилось, Маша?!
– Бе-ги… – с трудом произносит она. – Это не-лю-ди…
С большим трудом совершенно недвижимая Машка рассказывает мне, что произошло. Я слушаю её, понимая, от немцев надо держаться подальше. Они похватали девчат, что постарше, а младших убили, и мальчишек всех убили. А вожатый, оказывается, ночью сбежал. Потом привезли сюда и… случилось то, что я вижу. Машка только как-то выжила, а других они толпой целой, вот и померли девочки. Не закончив рассказа, она начинает дёргаться, как-то выгибается и замирает. Я понимаю: Машка умерла.
Получается, немцы – точно черти, ну батюшка как-то рассказывал. Его, правда, потом убили, но он очень складно о чертях рассказывал и об ангелах. А раз хотят убивать девочек, значит, получается, черти. Именно это заставляет меня уйти поглубже в лес. Страшно мне очень, просто невозможно страшно, потому что останься я в лагере… уберёг меня боженька, как есть уберёг.
Похоронить бы девочек, да нечем мне яму копать, так и оставляю их на той страшной полянке и вся в слезах ухожу дальше на восток. Как же наши дозволили такому непотребству случиться? А может, немцы убили всех наших и теперь защиты нет? От этой мысли становится как-то очень холодно, в глазах темнеет, что заставляет меня остановиться. Ведь если наших уже нет, то и защиты нет, а вот так, как Машка, я умирать не хочу! Я вообще не хочу умирать, но вот как Машка – это очень страшно, ведь она рассказала, что именно с ней сделали.
Я всё иду, а солнце уже склоняется к закату, завершая второй день войны. Как ни странно, но в лесу никого нет, кажется, что все вымерли, включая зверей диких да птиц певчих. Или их тоже немец побил? Страшно очень, так страшно, что хоть плачь, но плакать тут некому, и легче не становится. Надо идти дальше, потому что выбора же нет. Может быть, получится убежать от такого страшного немца?
Когда совсем становится темно, я ищу место, где можно поспать. Я же в лесу, поэтому мне надо только, чтобы не видно было, потому что кто ж знать может, что случится, пока я сплю? Вот нахожу прогалину, ем немножко хлеба и колбасы да спать укладываюсь. Устала я очень, просто жуть как устала, но заснуть сразу не выходит. Перед глазами моими виденное сегодня встаёт, ну и девочки, конечно, тоже.
Что, если действительно враги убили всех наших и теперь защиты от немцев нет? Тогда, если поймают, точно замучают так же, как девочек. Я живая, получается, только пока не поймали. А как только – то о смерти молить буду. Значит, нельзя, чтобы меня ловили, потому что очень страшными немцы оказались. А если хоть кто-нибудь из наших выжил, он же меня защитит?
Хотя кому я нужна… Нам всем это очень хорошо объяснили уже: не нужны мы никому, только самим себе, а немцам – и вообще только для одного, и то ненадолго. Я тихо всхлипываю, проваливаясь в тяжёлый сон.
***
К дороге идти было плохой идеей, я это теперь-то уже понимаю. Я вылезла осмотреться, но была замечена немцами. Они засмеялись и что-то кинули в меня. Теперь голова болит, и кровь ещё есть, поэтому я замываю её у ручья. Звери какие-то, что я им сделала? Страшные какие-то враги… Нельзя к дороге ходить.
Голова кружится, поэтому этот день я просто лежу. Когда идти трудно, надо полежать, тем более что хлеб пока есть. Водичку я тоже набрала и место себе устроила. Есть чем поплакать, и о чём тоже. Страшно мне так, как не было даже, когда мамку замели. Жутко просто, но нужно идти. Вот завтра, если полегче станет, хоть ползком, но пойду. Что происходит, я не понимаю.
Просыпаюсь, когда уже темно, от криков. Кто-то кричит, потом слышится «та-та-та», после чего становится тихо. Страшно… Но никуда я по темени, конечно, не иду, а стараюсь уснуть, что у меня не получается. Значит, надо дальше идти. Голова ещё побаливает и совсем чуточку кружится, но умирать я пока не хочу, поэтому небыстро иду, ориентируясь по деревьям. Нужно же с пути не сбиться ещё. Прохожу совсем рядом с дорогой, видя, кто кричал ночью. Лежат тела… По-моему, всю семью убили и ограбили, потому что нет у них почти ничего. Кажется, я скоро к этому привыкну. Мёртвые солдаты тоже встречаются.
Я иду… Иду, иду, при этом не происходит совсем, кажется, ничего. Шелестит ветвями лес, в синей высоте проплывают облака, ярко светит солнышко, и кажется, нет никакого врага вокруг, но рычит моторами недалёкая дорога, отчего мне просто очень страшно.
Дойдя до города, я всё же решаюсь зайти в него. Иду вдоль стеночек, как когда-то давно, потому что попадаться мне нельзя. Моя цель – станция, там поезда ходят, вдруг смогут меня хоть куда отвезти. На улицах мёртвые люди валяются, и город как будто вымерший, что меня пугает ещё сильнее, и я поворачиваю назад.
Я наблюдаю за происходящим в округе, не спеша выходить к людям. Просто-напросто не знаю, кому можно доверять, а кому нет. Выходит, что пока совсем никому доверять нельзя. Это странно, конечно, но возможно. Помню, и выдавали из «лучших побуждений», и били непонятно за что, так что сейчас, скорее всего, то же самое, только не бьют, а убивают. Уже несколько раз видела лежащих тётенек и дяденек. А быть на их месте я не хочу, поэтому и пробираюсь по лесу, случайно наткнувшись на него.
Военный лежит и тихо стонет, а ноги у него в крови все. Будто что-то толкает меня – я осторожно приближаюсь к нему и пою из фляги, найденной на мёртвом военном ещё в первый день, кажется. Глаза у него открываются, военный точно пытается понять, что происходит, а я пока пытаюсь ему ноги перебинтовать чистой тряпицей, ну, как умею. Незадолго перед войной девочек начали учить первой помощи и показывали, как бинтовать нужно, а я на что угодно согласна была, лишь бы в спальне пореже бывать. Он тихо стонет, а я вздыхаю только.
– Потерпите, дяденька, – прошу я его. – У меня и тряпок нет…
– Индпакет, – шепчет он так, что я едва слышу.
Поднимаю голову, а он на карман свой показывает. Осторожно залезаю и вынимаю оттуда аж целых три индивидуальных пакета! Это большое везение, о чём я и сообщаю дяденьке, начав его бинтовать. Наверное, это наш, тогда его нельзя никому видеть, а то убьют, как всех остальных наших. Я делаю перевязку, рассказывая ему, что на дороге только немцы, значит, наших всех убили ещё, а ещё что сделали с девочками и про вожатого тоже. Он первый, с кем я просто поговорить могу, поэтому и выбалтываю всё.
– Меня Гришей зовут, – представляется он. – Григорий, значит. Ты зря думаешь, что всех убили, мы ещё поборемся…
Оказывается, немцы называются «фашисты» и «гитлеровцы» ещё. Они очень плохие люди, поэтому хотят всех убить. Значит, надо их убивать, потому что иначе нельзя. А ещё всех наших убить невозможно, поэтому, даже если он умрёт, ничего для фашистов хорошего всё равно не будет.
Я с трудом оттаскиваю его в прогалину, чтобы не заметили случайно, и даже хлебом делюсь, потому что наш же. Хлеб всё равно рано или поздно закончится, и надо будет искать, как выжить. Дядя Гриша рассказывает мне о том, что фашисты просто хотят нас всех убить, и всё, а мы против же, чтобы нас убивали? И он начинает меня учить, как выжить в лесу. Оказывается, у него папа в лесу работает, поэтому Гриша много знает. Вот и рассказывает мне.
Мы никого не волнуем, и это хорошо, потому что голова у меня всё-таки иногда кружится. Смогу ли я быстро убежать, даже и не знаю. Наверное, это неважно… Важно, чтобы дядя Гриша выжил и мог опять врагов убивать. Они же рано или поздно закончатся, и тогда будет мир. Много хлеба будет и молока тоже. Я люблю молоко, когда оно тёплое, но в детдоме нам редко доставалось, разве что младшим…
– В мирное время я бы тебя в сестрёнки взял, – вздыхает дядя Гриша, а я от этих его слов просто замираю. Такого мне ещё никогда не говорили.
Он учит меня пользоваться винтовкой, не знаю, зачем, а я помогаю ему с туалетом, с едой ещё. Оказывается, у него в вещмешке есть целая буханка хлеба и консерва какая-то. Поэтому еды у нас пока хватает, можно дождаться, пока ноги заживут. Дядя Гриша меня к тому же учит, какие ягоды съедобные, а какие нет, поэтому я временами отхожу от него, чтобы ягод принести. Они и кисленькие, и сладкие, но и обмануться легко, поэтому я каждый раз показываю дяде Грише, что нашла.
А ещё он меня гладит. Ласково так по голове гладит, отчего мне как-то очень тепло на душе становится. Я думаю о том, что будет, когда дядя Гриша выздоровеет. Возьмёт ли он меня с собой, чтобы убивать фашистов, или бросит опять одну? Не знаю, а спрашивать боюсь. Не хочу, чтобы он мне врал, просто совсем не хочу, потому что я тогда в нём разочаруюсь…
Ну а пока что он мне рассказывает очень много всего о лесе, о том, как себя звери ведут, ну, кроме двуногих, конечно. И учит целиться, прижимать приклад к плечу и щёлкать курком, потому что стрелять мы не рискуем – патронов почитай что нет, да и услышать могут. А нам обоим совсем не надо, чтобы фашисты услышали, потому что тогда они придут нас убивать.
Мой страх почти исчезает, потому что меня защищает дядя Гриша, а с ним мне совсем-пресовсем не страшно, вот я и не боюсь. Засыпая, мечтаю о том времени, когда закончится война и меня возьмут в сёстры… а лучше – в дочки.