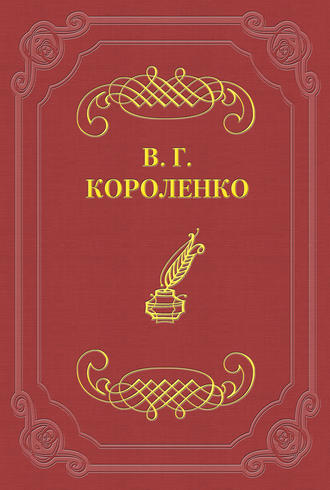
Владимир Короленко
Софрон Иванович
V
Войдя в общую каюту, я увидел здесь немецкую пару супругов с болонкой, какого-то долговязого англичанина, еще несколько фигур, не оставивших во мне определенного впечатления, и мою незнакомку. Она опять сидела одна, и лицо у нее было бледное и страдающее.
Теперь я разглядел ее хорошо. Она не была красива, только глаза, черные и глубокие, были очень выразительны; вероятно поэтому в гостинице, когда я видел только ее глаза в приоткрытую дверь, она показалась мне красавицей. Впрочем, черты лица ее были тонки и, пожалуй, изящны, только щеки слегка впали, как у людей, расположенных к грудным заболеваниям. Какое-то особенное выражение замкнутой и нетерпеливой печали лежало на всем лице, и во взглядах, которые она кидала на остальных пассажиров, было что-то недружелюбное, почти враждебное. Она походила на человека, которому не нравится все окружающее и который мирится со всем этим против своей воли…
Пароход раскачивался все сильнее. Деревянные стены рубки как-то особенно потрескивали, потолок, качаясь, как будто растягивался, электрическая лампа, висевшая над столом, описывала в воздухе странные дуги, как будто усиленно и безуспешно стараясь найти потерянное вертикальное направление… Она точно нацеливалась куда-то и вдруг, будто сознав ошибку, кидалась в сторону и судорожно искала новой точки тяготения. А в это время стена каюты с темными окнами подымалась кверху и, казалось, хотела стать на место потолка…
Все это вызывало во мне какое-то особенное чувство неуверенности и тоски. Я тоже, как эта лампа и эти темные окна, не находил здесь своего места, и что-то во мне колебалось, тосковало и искало нормального положения в этом колеблющемся, неустойчивом мире.
Пассажиры понемногу расходились. Первые, поддерживая друг друга, сошли немецкие супруги с болонкой, которая вдруг очнулась на руках у хозяина и как-то жалобно заныла. Потом один за другим снимались с места остальные; покачиваясь и хватаясь за мебель, они подходили к винтовой лестнице и исчезали в люке… Скоро остался только долговязый джентльмен, я и моя незнакомка. На долговязого джентльмена качка, по-видимому, не действовала. Он тянул глотками из стакана какой-то смешанный напиток, который составлял из содержимого двух бутылок. Это занятие поглощало его совершенно, так как было довольно трудно удержать на столе обе бутылки, а жидкость в стакане плескалась и проливалась на скатерть. Все это он выполнял, впрочем, довольно успешно, с серьезной сосредоточенностью, – и, по-видимому, эта процедура его очень занимала.
Моя незнакомка, видимо, сильно страдала, но преодолевала себя из досады или упрямства… Наконец она поднялась, глядя перед собой совершенно растерянными глазами, но тотчас же опять опустилась на скамейку. Я подошел к ней и по-французски предложил ей помочь сойти в каюту. Она сказала «merci» и приняла мою руку с таким видом, как будто я наношу ей оскорбление, которого она не в силах избегнуть. Я помог ей сойти вниз и проводил до двери каюты… Каюта опять оказалась рядом с моею…
Голова моя кружилась, и вид тесного коридора с рядом дверей и боковых проходов, как-то бестолково раскачивавшихся в тесном пространстве, еще усиливал неприятно сосущее ощущение растерянности и тоски… Мне показалось, что на свежем воздухе будет легче, и я вышел опять наверх.
Небо было темно, громады туч, бесформенных, как тяжелые сновидения, продвигались в темноте с какою-то угрожающею сознательностью. Огромная черная труба парохода качалась в вышине, как будто среди самых туч, и за нею мотался густой хвост дыма… Труба как будто напрасно старалась сбросить присосавшееся к ней чудовище и для этого совершала свои гигантские молчаливые размахи… Но чудовище держалось крепко, следуя за ее качаниями… В одном месте на небе среди бесформенной мглы слегка просветлело; это луна старалась пробиться сквозь туманы, чтобы взглянуть на этот хаос. На несколько секунд это ей удалось, тучи раздвинули свои мохнатые очертания, и несколько рассеянных синеватых лучей упало на колыхающиеся волны… Но скоро мгла опять сдвинулась плотнее, луна скрылась, кипящее море погасло, и из сгустившейся тьмы огромная волна кинулась на пароход. Брызги гигантским фонтаном перелетели через палубу, с шипением ударяясь в стенки и окна… На мостике обрисовался в темноте силуэт помощника капитана. Он наклонился, держась за перила, и что-то крикнул невидимому вахтенному. Тот ответил откуда-то из мрака, и вскоре на палубе зачернела вереница людей в кожаных плащах. Одни полезли на ванты[8], другие тянули откуда-то канаты, переносили и крепили тюки… И протяжная песня, разбиваемая ветром, что-то вроде нашей «Дубинушки», послышалась сквозь плеск волны и свист ветра в снастях… В воздухе вдруг затрепал косой парус, пароход наклонился, казалось вот-вот ляжет совсем горизонтально и уже не встанет. Но в это время он только изменил направление и пошел под парусом несколько ровнее… Было что-то удивительно захватывающее и успокаивающее в этой работе людей, управляющихся в темноте на своей скорлупке, окруженной разбушевавшимся хаосом…
Мне стало значительно легче… Казалось, что я, наконец, нашел какую-то точку опоры среди ударов ветра, волн и непонятных колебаний парохода. Я еще постоял на палубе, глядя на высокое темное небо и следя за тем, как в одном месте то загорается в тучах мутное, как будто маслянистое пятно лунного света, то опять гаснет…
В это время мимо меня, слегка покачиваясь, но довольно, как мне казалось, свободно прошла темная фигура, в которой я узнал седого господина. Он появился со стороны кормы, по-видимому из эмигрантского отделения, и шел к рубке первого класса… Остановившись около матросов, он обменялся с ними несколькими словами, которых я не расслышал за шумом ветра, и двинулся дальше, пробираясь между тюками и канатами. Невдалеке от моего убежища он повстречался с другой фигурой. Это капитан, немного отдохнувший и, вероятно, заметивший перемену курса парохода, шел опять на вахту.
– Frisch wind, sir? – шутливо сказал мой незнакомец.
– Oh, yes, frisch, frisch wind, – ответил капитан благодушно, пожимая руку популярному пассажиру, и тотчас же полез по узкой лесенке на свой мостик. А мой незнакомец постоял еще некоторое время, глядя на море и мутное небо и насвистывая какой-то мотив. Потом он прошел мимо меня. Заметив мою одинокую фигуру в укромном уголке, он вдруг остановился, как бы с любопытством наблюдая за мною, а затем круто повернулся и вошел в рубку. Я видел, как он оглядел освещенную каюту. Там сидел один только англичанин со своими бутылками. Незнакомец направился к лестнице и исчез в люке.
И опять его беззаботность подействовала на меня как-то ободряюще. Мне стало значительно легче, особенно после того, как некоторое время я глядел только кверху на медленно передвигавшиеся тучи, и я тоже спустился вниз, лег на свое качающееся ложе и успел заснуть, прежде чем в моей груди исчезло ощущение холодной свежести моря.
Проснулся я среди глубокой ночи. В моей каюте было темно, кругом за стенами стоял все тот же плеск и грохот, пароход все так же раскачивался, сухо потрескивая перегородками, по иллюминатору стекала вода и, казалось, журчала где-то в самой каюте. Было как-то жутко вспомнить, что наша скорлупка-пароход несется, качаясь, таким образом по темному разбушевавшемуся и враждебному простору.
В моей перегородке справа тонкой щелочкой пробивался откуда-то луч света. В соседней каюте слышались тихие стоны, и кто-то говорил… Прислушавшись, я ясно разобрал слова. Говорил мужчина и говорил… по-русски.
– Ах, Женя, Женя… И все отчего? Оттого, что… прости меня, но у тебя именно нет веры…
В ответ на это раздался женский стон, слабый, но очень выразительный…
– Да, положительно! – продолжал мужской голос. – С верой Петр пошел вот в этакую же погоду по волнам и не утонул… А ты вот… Жаль положительно, что я не взял тебя в эмигрантское отделение. Посмотрела бы ты, что там делается… и тогда… я уверен – тебе было бы стыдно поддаваться этому малодушию. А еще лучше, если бы мы прямо поехали с ними… Стоит лишь уступить… Ну, вот… видишь, Женя… Ах, боже мой… Ну, можно ли так?
На время все смолкло, потом налетела новая волна, и ее грохот промчался наискось от носа к корме. Когда несколько стихло, мужской голос продолжал уже другим тоном:
– Знаешь что, Женя. Я вот стоял там на палубе… там матросы заняты работой… И я долго смотрел на небо и на море… И у меня явилась еще новая теория, которую я положительно вставлю в свою книгу. Я думал о том, что такое, в сущности, морская болезнь. И понял. Это, видишь ли… как бы сказать… потеря центра тяготения… Все кругом колеблется, меняет место, дрожит, сотрясается, и человек не может понять закона этих колебаний. Ясно тебе? Нет? Ну, постой, я тебе это скажу яснее… Ах, Женя, да ты лучше слушай… Слышишь, что ли?
Ответа, по-видимому, не было, но говоривший, очевидно, увлеченный ходом собственной мысли, продолжал громко и с возрастающим оживлением:
– Представь себе как можно яснее… Темнота, хаос… В этом хаосе игрушкой стихий несется наше суденышко… настоящий микрокосм… И на нашей «Ботнии», как и во всем нашем мире, – одним слишком тесно, другим, как вот нам, – слишком просторно. Одни вот работают там, в бурю и ветер, другие лежат и ничего не делают… Вон наверху – англичанин один занимает теперь всю рубку, в которую можно было бы пустить половину эмигрантов… И все, понимаешь, Женя, потеряли центр тяготения… И оттого-то… Ну, вот… ты, например… Положительно, – ты именно потеряла центр тяготения… И все тоже потеряли… Одни страдают в тесноте, от недостатка воздуха и простора, другие – страдают не менее среди удобств… Параллель, понимаешь ли, Женя, полнейшая… Ведь и мир, как наша «Ботния», тоже несется среди бесконечного хаоса. И в мире, когда потеряются обычные центры общего тяготения… у всех начинается своего рода морская болезнь… Люди называют это разными там вельт-шмерцами, разочарованием, тоской по идеалам, а в действительности они просто потеряли центр тяготения, и их… ха-ха-ха… просто укачивает на этой скорлупке, которую они называют землей и которая несется в океане эфира… Положительно, – гениальная параллель… А вывод?.. Угадываешь ты, Женя, вывод?..
Он замолчал, как мне казалось с некоторым лукавством, собираясь приятно удивить свою слушательницу, которая по-прежнему только слабо стонала, и затем сказал с выражением торжества и удовлетворения:
– Еще одно доказательство в пользу веры… Нужно искать центр тяготения… положительно! Непременно! И притом центр, бесконечно отдаленный, незыблемый, лежащий, так сказать, за пределами… Ну, одним словом, в вечности… и только тогда среди всех треволнений и жизненной качки можно почувствовать некоторый общий закон… И тогда все становится понятно и стройно… И качка уже не действует… Вот сейчас, когда я думал об этом, там, наверху… вижу, стоит какой-то господин… и представь: именно смотрит кверху… Понимаешь: бессознательное подтверждение верности, так сказать, моей теории… Слышишь, Женя? Ах, боже мой… Да ты, кажется, вовсе не слушаешь, – закончил он с досадой…
В ответ на это послышался стон, и притом такой выразительный, что оратор сразу смолк, как-то растерянно крякнул, сказал не то укоризненно, не то сконфуженно: «э-эх…» И я услышал, как он прошел по шатающемуся полу каюты, потом по коридорчику, и затем под его шагами затрещали ступени лестницы. Он ушел, очевидно, дополнять свою теорию, оставив свою слушательницу во власти мучительного недуга.
К сожалению, я почувствовал вскоре, что и я тоже совершенно теряю «центр тяготения»…
VI
Переезд через Немецкое море до берегов Британии потребовал около тридцати часов. Первая половина пути была очень мучительна, но на следующий день ветер значительно упал.
Правда, волны все еще бежали грядами, как будто расколыхавшись за ночь, море не могло сразу успокоиться, но ветер изменился и как будто старался усмирить волнение… Он налетал навстречу волнам, заворачивал их пенистые гребни и разбивал в мелкие брызги… В этой борьбе было что-то, до такой степени сознательное и драматическое, что я невольно вспомнил классические олицетворения ветра в лице Эола и его сыновей… Море понемногу подчинялось… Пароход шел ровнее, и пассажиры выползали из кают на свежий воздух.
Зная теперь, что в лице моих соседей судьба мне послала соотечественников, я представился седому господину. Он встретил меня с какой-то радушной рассеянностью и назвал свою фамилию:
– Софрон Иванович Череванов. Это вы вчера стояли ночью на палубе и смотрели на небо?
– Да, это я…
– Самое лучшее средство… положительно… А вот это Евгения Семеновна, моя жена. Вот, Женя, наш соотечественник.
– И сосед по каюте, – прибавил я, но тотчас пожалел: Евгения Семеновна посмотрела на меня и потупилась… В ее нервном лице опять проступило выражение нерасположения и как будто гнева…
Впрочем, это скоро сгладилось… Пароход шел все ровнее, как будто успокаиваясь на ходу, и это, видимо, отражалось на расположении духа Евгении Семеновны. Ее черные глаза опять внимательно и как-то жадно следовали всюду за фигурой ее подвижного супруга, и в них я уловил несколько раз выражение как будто застенчивой просьбы о прощении.
«Это она, вероятно, стыдится вчерашнего «недостатка веры», – подумал я, невольно улыбаясь…
Вдали, еще совсем неясная, задернутая туманом, скорее почудилась, чем завиднелась, полоска земли…
– Англия, – сказал, проходя, капитан… Все мы стали смотреть на дальнюю полоску…
Она прорезалась чуть видным, почти мечтательным призраком земли, в ярком просвете заката, между небом и морем… Небо все было обложено тяжелыми тучами, которые от преломленных лучей отливали снизу какими-то грустно-зловещими, рыжими просветами. Под тяжелыми массами облаков такое же тяжелое протянулось море с грядами рыжевато-бурых волн… Косой парус, как крыло птицы, белел вдали…
Все было как-то особенно задумчиво, сумрачно и печально, и все напоминало что-то, как будто пережитое в отдаленном тяжелом сне… Берег определялся, выступал, – пустынный, обрывистый, задернутый задумчивой мглою, угрюмый…
Евгения Семеновна, которая тоже долго глядела в морскую даль, вдруг повернулась к мужу и сказала тихо:
– Точно… у Виктора Гюго…
– Что такое?.. – спросил тот.
– Первые главы… из «L'homme qui rit»[9].
Софрон Иванович оглянулся и сказал:
– Пожалуй, да… положительно…
Мне это воспоминание показалось чрезвычайно метким. Конечно, эти волны бежали из Ламанша, где еще недавно омывали берега, описанные великим поэтом… И в моем воображении живо встала поразительная картина, которую я позволю себе напомнить читателю, так как, странным образом, ей суждено было стать рамкой для небольшого последующего эпизода…
Это было в 1689 году… В бурный, кажется осенний вечер разбойничье суденышко «Матутина» оставило пустынные берега Портленда. Спасаясь от преследования властей, шайка бродяг-компрачикосов[10] покинула на угрюмом берегу беспомощного ребенка. Ребенок долго смотрел на море, по которому, утопая в сумраке, светился трепетный огонек, прыгая по гребням волн… Это «Матутина» уходила в глубь темной и беспокойной ночи навстречу своей судьбе…
На палубе разбойничьего судна находился странный человек, которого называли доктором и одни считали мудрецом, другие – сумасшедшим. Доктор Гергардус Гестемунде олицетворял совесть корабля, оставившего за собой преступление и шедшего навстречу буре… Он стоял на носу корабля, всматривался в надвигающуюся бурную тьму и читал намерения бури, точно в открытой книге… «Слишком мало звезд, и слишком много ветра…» Повернувшись к капитану судна, доктор спросил:
– Который рейс ты совершаешь по Ламаншу?
– Первый, – ответил капитан.
– Он будет и последним… Слушай… Если в эту ночь, когда мы будем в море, ты услышишь звуки колокола, – знай: мы погибли… Пришло время обмыть черные души…
«Сумасшедший!» – подумал капитан, отходя, и продолжал вести судно в сгущающуюся темноту, на восток, вопреки совету доктора Гергардуса…
Всякий, кто читал это произведение Виктора Гюго, помнит замечательные главы, посвященные поэтом священному ужасу ночи и моря. Nix et nox[11]. Не стало ни протяжения, ни пространства. Была только ночь и бездна… Ночь – это присутствие. Чье?.. Таинственного начала природы, которое в этом уединении говорит с душой человека… В бесконечном пространстве раздавался только рев бури… Это были крики, в которых бездна перекликалась с бездной… Они неслись от воды к воздуху, от ветра к волнам, будя какую-то таинственную связь между глубинами природы и глубиной человеческой совести…
Экипаж «Матутины» еще не понимал скрытого значения этих голосов. Бандиты радовались только свободе от человеческого преследования, пока среди шума и криков не раздался торжественный голос доктора Гергардуса Гестемунде:
– Слушайте.
Все притихли… И тогда всем ясно послышались в густой тьме бурной ночи размеренные удары колокола…
– Колокол! – крикнул капитан. – У нас земля за штирбортом.
– Нет у вас земли за штирбортом, – ответил доктор, – это… звонит море.
Тогда дрожь прошла по спинам моряков, а доктор продолжал:
– Среди моря укреплен на якоре буек цепями ко дну, на буйке помещен колокол. В сильную бурю, когда волны значительно раскачивают буек, колокол звонит… Если бы мы шли правильным курсом, ветер отнес бы звуки в сторону от нас, и мы бы не слышали звона. Слышать его – значит идти на смерть… Это буря звонит нам панихиду над водяной бездной.
И, пока говорил доктор Гергардус Гестемунде, колокол звонил, удар за ударом, и этот размеренный звон, казалось, подтверждал слова старика. Бездна звонила над покойниками…
Вся эта картина ярко встала в моей памяти в этот предвечерний час на Немецком море, когда наша «Ботния» неслась по темно-рыжим волнам, грядами выбегавшим из Ламанша…
– Теперь уже так не пишут, – сказал Софрон Иванович, очевидно занятый теми же мыслями.
– Да, – подумал и я, – теперь уже так не пишут, может быть потому, что наши отношения к природе меняются. Свистки пароходов разогнали «священный ужас», залегавший целыми тысячелетиями над морями. Одиссей целые годы скитался на своем плоту, чтобы доплыть от Трои до Итаки. Он видел священный ужас много раз лицом к лицу, осязал его, говорил и боролся с ним, и, по пути в Итаку, был вынужден спускаться в преисподнюю и советоваться с духами умерших… Теперь дрянной греческий пароходишко проходит это расстояние в несколько дней, и вы испытаете в пути разве одно неудобство – от излишнего обилия оливкового масла в греческой кухне.







