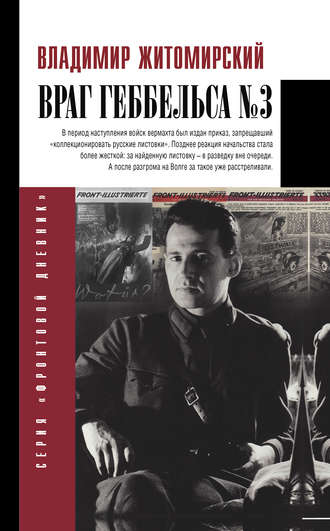
Владимир Житомирский
Враг Геббельса № 3
Еще он показал мне большого попугая с ярким оперением. Он сидел на жердочке, на ноге кольцо. Раньше к кольцу была пристегнута цепочка двухметровая, птица в течение нескольких лет передвигалась в радиусе двух метров. Потом дрессировщик убрал цепочку, оставив кольцо. Попугай по-прежнему передвигается в пределах двух метров: чувствует цепочку. Это самовнушение, сказал Дуров.
Он увлекался гипнозом, был уверен, что это материальные волны. На моих глазах отдавал приказание собаке в соседнюю комнату, сквозь стену, и та выполняла их. Потом ставили свинцовую плиту, и волны гипноза к животному не доходили. К гипнозу я отнесся несколько скептически, и он предложил загипнотизировать меня. Маленький хилый старик со светлыми голубыми глазами, седыми волосами, в восточном халате с торчащим меховым воротником, он встал передо мной и произнес, делая упор на некоторых словах: «Вот вы стоите напротив меня, молодой, но слабый человек, а я, старый, но сильный, сдвину вас одним пальцем, как бумажный лист…» Уперся мне в грудь пальцем. Я пошатнулся, подумал: «Ну и силен старик!». Он снова заговорил: «Теперь я скажу иначе: вы стоите передо мной, молодой сильный, как каменная стена, и как бы я ни наваливался на вас, я, старый и слабый, не смогу вас сдвинуть». Он уперся в меня двумя руками, плечом – я не пошелохнулся.
Потом рассказал, что до него во всей Европе дрессировка была болевая. Он в корне изменил это. Его система – ласка и добро.
Мы спустились на первый этаж, пошли вдоль клеток. Все животные и птицы приветствовали Дурова как друга. Появилась его жена, высокая, властная, несимпатичная женщина с крашеными черными волосами. Она что-то сказала ему, и у него начался сердечный приступ. Прибежал ассистент, капал в рюмку валерьянку. Давал воду…
В памяти моей остался добрый голубоглазый человек, во всем ищущий новые дороги».
Свою любовь к цирку отец постарался передать и мне. В семейном альбоме есть фото: я с родителями в цирке, среди зрителей. И дата – 1945 год. Восторг от диковинных – и таких умных – животных, которых до того видел лишь в книжках, сменялся страхом за гимнастов, кувыркавшихся под самым куполом. И такими смешными и глупыми выглядели клоуны, над которыми только и оставалось, что потешаться. А самый главный в цирке, как я понял, был человек в черном фраке, произнесший огорчительную фразу: «представление окончено». «Это шпрехшталмейстер Буше», – объяснили мне. Несмотря на досадное вмешательство важного начальника для меня это был праздник. Только много позже я понял, что цирк и праздник – это, по сути, синонимы. В том смысле, что цирк это всегда праздник. И еще – игра. Немыслимые вещи делаются с такой легкостью, что и ты вдруг ощущаешь в себе невероятные возможности – ведь все это так просто!.. Позднее, уже в своей журналистской жизни, бывая в командировках, я старался по вечерам заглянуть в местный цирк и, если получалось, зайти за кулисы, посмотреть на зверей, подышать непередаваемым ароматом. Так было в Иванове, Харькове, в Новосибирске я даже остановился в гостинице цирка. На Украине посчастливилось познакомиться с Владимиром Григорьевичем Дуровым, внуком одного из двух основателей прославленной цирковой династии – Анатолия Дурова. Было это году в 70-м. Пожилой грузный человек еще в цирковом белом обтягивающем атласном одеянии с жабо устало сидел в кресле. Он был в гриме, и на лице посверкивали мелкие блестки. Дуров только что отработал длинный номер, и я понимал, что ему не до долгих бесед. Но нельзя же вообще не задать никакого вопроса великому артисту… «Наверное, при переезде из города в город труднее всего перевозить слона?» – спросил я. Дрессировщик слегка улыбнулся: «Ну что вы – слониха хоть идет сама. А вот с бегемотихой сложнее, идти не может, приходится в ящик заколачивать и таким макаром перевозить. Да и вообще тупая она у меня, – продолжал он. – Единственное, чему удалось ее обучить, так это открывать свою пасть, когда я ногтями у себя за спиной щелкаю, – знает, что я ей буханку белого хлеба в эту пасть положу…». У меня, впрочем, и раньше были подозрения, что бегемоты туповаты. А если уж сам Дуров об этом говорит…
Когда после института меня послали работать в Индию, туда с гастролями приехал советский цирк. В те времена в Дели и телевидения-то не было, выбор развлечений был крайне ограничен. Для работавших там совграждан приезд родного цирка стал громадным событием. Огромный шатер, в котором шло представление, был забит до отказа. Индийцам нравилось все, но особым успехом пользовались дрессированные медведи («настоящие русские медведи!») и две великолепные воздушные гимнастки – прекрасно сложенные белокурые сестры Светлана и Марта Авдеевы, наследницы славы знаменитых сестер Кох. Местные мужчины аж подпрыгивали на месте, хлопая им растопыренными ладонями. Ревниво поглядывая на мужей, женщины, позвякивая бесчисленными браслетами, тоже аплодировали, но более сдержанно. «Вообще-то мы Адамсон, – сказала мне Светлана в антракте, – а “Авдеевы” – наш псевдоним, звучит, вроде, более благозвучно». Я познакомился со многими артистами, торчал за кулисами, видел, как служители больше всего опасаются медведей, стремительно утаскивая их после выступления на манеже в клетки. «У тигров хоть реакция заранее видна, а эти такие коварные – вроде смотрят мирно в сторону, а чуть отвернешься – раз тебе по спине своей когтистой лапой», – говорила мне смотрительница. Вдыхая аромат циркового закулисья, наблюдал систему отношений между бесстрашными и талантливыми обитателями этого удивительного мира, видел, что очень популярны всевозможные подначки и подколы. И я тоже решил принять участие в околоцирковой игре. В выходные дни показывал артистам Дели, делился тем, что знал об этом экзотическом городе. Как-то с большой группой артистов решили пойти в кино. Шутки ради (в нее были посвящены только две сестры-гимнастки) я стал переводить фильм с неизвестного мне языка хинди на русский. Поначалу помогали задор и в высшей степени примитивные диалоги, но к концу третьего часа (к нам индийские фильмы попадали в виде двухсерийных) я попросту изнемог и уже не чаял, когда же заиграют традиционный гимн в конце сеанса. Артисты внимательно слушали, и когда я признался, что на хинди знаю только «здравствуйте», большинство посмеялось вместе со мной. Кое-кто реагировал довольно холодно, в том числе, как мне показалось, и иллюзионист. Одно дело самому разыграть, другое – когда тебя разыграли. Оправданием мне могло служить то, что происходило это первого апреля.
Много лет спустя я тоже стал объектом цирковой шутки, когда мы с женой впервые повели дочку в здание на Цветном бульваре. В цирковом варианте шел «Золотой ключик». В какой-то момент во время представления я ощутил щекотание на зарождавшейся лысине. Обернувшись, увидел подкравшегося сзади Карабаса, который щекотал меня чудовищной полуметровой бородой. «Ну что, испугался?!» – заорал он на весь цирк, как мне показалось, отвратительным голосом. Думаю, в глазах пятилетней дочери либо упал авторитет папы, который мог испугаться Карабаса, либо поднялся авторитет Карабаса, способного испугать даже папу. Но похоже, все же удалось передать дочке по наследству любовь к цирковым представлениям. А теперь она вместе с мужем увлекли этим внучку Полю. Отец был бы только доволен и, может быть, простил бы мне этот долгий экскурс в собственные воспоминания…
И еще о живой природе:
«Я всегда любил животных, и они мне платили тем же. В детстве я бесстрашно входил во дворы, где на цепи сидели злые мохнатые сторожа. Они на меня не лаяли. Память мне сохранила всех моих друзей-собак.
Фокса Нелли ела виноград. Это был мой первый друг. Когда она сбесилась и ее пришлось пристрелить, горе мое было безграничным. Потом была Лёпи. Потом был гордон Фатран. Он ходил с нами купаться на Дон. В нашей компании мальчишек он был нам ровней. И потом, этот мохнатый черный скотч-терьер, похожий на кактус, – Никки. Старушки, завидя его, крестились, приговаривая: «Черт! Черт!». Бедный Никки! Говорят, его взял в оборот Карандаш.
И Тума – шоколадный доберман. Я ей кричал: «Тума, завтракать!», и она со всех ног неслась в мою комнату «завтракать». И – Джонька! Маленький Джонька-хулиган. Он летел за нашим поездом, когда мы уезжали в Москву.
Дуров мне сказал, что я не боюсь животных, потому что ощущаю себя с ними на равных, и животные идут ко мне как к равному».
Трогательная картина: выбившийся из сил Джонька видит, что поезд ему уже не догнать.
Но вернемся в ростовское детство и отрочество автора рукописной книги.
Улочка заштатного городка. Мощное дерево на переднем плане, а где-то внизу вьется проулок с приземистыми домишками в окружении палисадников. И – описание одного дня из детства Шуры, который оказался таким памятным:
«Я стоял на носу парохода, и ветер дул мне в лицо. Маленький колесный пароходик казался мне большим кораблем. Я воображал, что я бесстрашный капитан, ветер развевает мои волосы, мне ничто не страшно, и та красивая дама с мужем и ребенком, в которую я успел влюбиться, с интересом смотрит на меня.
Мне было десять лет. Мы возвращались из Азова. Отец собрал младшее поколение нашей семьи – Таню, меня и мою кузину Милю, и первым рейсом в ослепительный весенний день повез нас в Азов. Мы были на кладбище и навестили могилы бабушки и дедушки. Потом говорили со стареньким кладбищенским сторожем. Отец дал ему деньги. Отец хотел навестить еще чью-то могилу. Старик долго искал в своей книге ее адрес, но так и не нашел. Было тихо. Было солнце, и еще были большие деревья.
…Мне до сих пор иногда снится кривая уличка не знакомого мне небольшого провинциального городка. Маленькие покосившиеся деревянные дома и большие деревья, и я иду по этой улице, подымающейся слегка в гору. И каждый раз мне радостно.
Может быть, мне снится Азов?»
Он любил иногда вспомнить о том далеком времени. Вот его рассказ от первого лица:
…Мой отец, мать и все дети ехали отдыхать в Крым, в Евпаторию. Мне семь лет. На мне суконная курточка, которую во время пересадки в Синельниково повесили на спинку стула. Подали поезд, спешка, чемоданы, баулы… Курточка так и осталась на вокзале. Матушка написала открытку начальнику станции, но увы… По вечерам на террасе зажигали свечи в стеклянных пузырях с отверстиями на макушке. Прилетали огромные ночные бабочки. Мы их называли «мертвая голова», так как рисунок на их палевой спинке был похож на череп. На даче было много цветов, вечером благоухал табак. Мы ловили огромных жуков-носорогов и еще каких-то, с большими клешнями. На соседней даче жил мой новый дружок, Витя из Харькова. Мы придумывали с ним разные шкоды. Похитили как-то удочки у моего старшего брата и решили «удить» из чужого виноградника аппетитные черные гроздья. Естественно, и крючки, и грузила застряли в лозах, лески пришлось отрезать, а мы с удочками остались на террасе и с ужасом ждали возвращения брата… Помню, что вдоль пляжа стоял ряд крошечных лавочек, где татары продавали всякие морские находки. Недосягаемым чудом сияли большие красавицы-раковины, а вот оклеенные мелкими ракушками шкатулки нас не привлекали. Отец купил мне мешочек из марли красного цвета, полный красивых раковин удивительной формы. Мы всегда играли на даче у Вити, и эти раковины внесли в наши игры разнообразие. Как-то утром пришел к нему, но мне сказали, что вся семья уехала домой в Харьков. Витя со мной не попрощался и увез мой мешочек с раковинами, подарок отца. Так я впервые столкнулся с предательством… А однажды на дачу пришел фокусник-китаец с обезьяной. Китаец был с косой, в национальной одежде, смешно говорил по-русски. Его окружили кольцом мальчишки, девочки, женщины. У меня в руках палка от сачка. Китаец взял ее, обезьяна показывала с палкой забавные трюки. Потом китаец собрал медяки и собрался уходить. Обезьяна цепко держала мою палку. Я схватил конец палки, потянул к себе, та – к себе. Рванул палку, обезьяна ее выпустила, но вцепилась своими здоровенными зубами мне в руку повыше локтя. Было больно, но я не заплакал: было стыдно плакать при таком обществе. Почувствовал себя взрослым. Но обычно вел себя, конечно, как мальчишка. На лето задавали что-то читать, писать, зубрить. Удержать меня за столом было трудно, поэтому меня засадили в крайнюю комнату, а в проходной, через которую можно было уйти, сидела Сарочка, моя любимая старшая сестра, и читала книгу. Она меня сторожила. А я удирал через окно… Как самое сокровенное храню воспоминания о моем общении с отцом. Вот мы на шлюпке в море, брат на веслах, отец и я на корме. Нас стал настигать маленький пассажирский пароход. Отец сказал брату, что надо отвалить в сторону. Брат заупрямился, стал спорить, дескать, пароход отвернет, капитан не имеет права нас топить, его будут за это судить. Отец волновался, объяснял, что когда капитана будут судить, нам от этого легче не будет, мы уже утонем. Я чувствовал, что отец прав, и еще я понял опасность нелепого упрямства… В один из дней отец взял меня с собой, он хотел снять дачу на следующее лето. Мы шли по тенистой улице, красивые деревья свешивались через беленые кирпичные заборы. Я очень любил, когда отец брал меня с собой. Мы вместе рассматривали огромного мохнатого паука-крестовика, отец говорил, что через год я буду совсем большим и мы сможем заплывать на шлюпке далеко-далеко в море… Было лето 1914 года, и вскоре началась война. Первая мировая война. Возник слух, что на горизонте появились два турецких эсминца. Среди отдыхающих вспыхнула паника, Евпатория опустела. Мой любимый отец никогда больше не увидел море. Он умер от сыпного тифа в 1920 году. Зашел подстричься в парикмахерскую. А до него стригся солдат, вернувшийся с фронта.
…Трое по-зимнему одетых пацанов, один из которых, конечно, Шура, наблюдают за чем-то интересным внизу. Лишнее напоминание: в ростовском детстве были отнюдь не только беззаботные солнечные дни. Была и тяжелая Гражданская война. Воспоминание, вроде, не из самых веселых, но все же уносит от сегодняшних реалий в далекие дни. Да и говорит, что Шура с друзьями были не робкого десятка.
«Таганрогский проспект круто спускается к Дону. Через лед и снежную целину за Доном наступает наша пехота на Батайск. Это редкая цепочка черточек. И когда черточки превращаются в точки, это означает, что бойцы залегли. Поперек их пути жидкий лесок. Слева и справа в лесу вспышки. Это бьет артиллерия белых – шрапнелью по нашим бойцам и снарядами по городу.
Мы стоим на вершине проспекта. Осколки взламывают штукатурку домов. Мы не понимаем опасности. Все это похоже на интересную игру. За нашей спиной раздается грохот колес и цокот копыт. Едва сдерживая орудия на скате, резко осадив лошадей, матюгались ездовые. Командир на взмыленной лошади, с лихо заломленной папахой, полоснул нас нагайкой: ”Брысь отсюда, пацаны!”. Оказалось, и мы, и наши артиллеристы облюбовали себе одну позицию. Пришлось уступить.
Но мы себе выбрали точку получше. Рядом стоял пятиэтажный дом, выгоревший до основания и обледеневший сверху донизу. Фактически это был остов дома. И вот, по кое-где уцелевшим лестницам, по скользким чугунным балкам, через провалы лестничных площадок, по карнизам мы карабкаемся все выше. Я вижу под ногами сначала пустоту и хаос трех этажей, потом четырех. Немного страшно, но зато как интересно. И вот мы наверху. Мы опять все видим!»
Спортивного сложения молодой человек в купальных трусах, подперев голову руками, лежит на берегу реки. Ветер поднимает волны на реке, старается потопить пароход, треплет волосы молодого человека. Он значительно старше того подростка, который много лет назад лежал здесь же, наслаждаясь порывами ветра и наблюдая за происходящим. Художник изобразил себя сегодняшнего – столь велико было желание вернуться в тот день, в то время.
«Ветер рвал ночь на части. Ветер сорвал и унес деревянный мост. Портовый катер догнал его только у станицы Цимлянской.
День был солнечный и жаркий, но ветер не утихал. Мы с трудом выгребли на ту сторону Дона. Кроме нас не было никого. Мы лежали в высокой траве. Мой друг целовался с Линой Васильевной. Она была вдвое старше него, и ему это, видимо, импонировало. Я слушал, как шумит трава. Песок хрустел на зубах, и неистово ревел, взывая о помощи, колесный пароход. Ветер выбросил его на мель.


