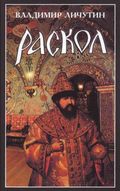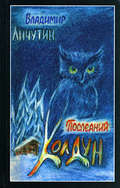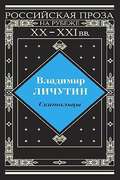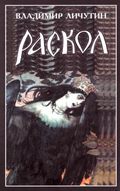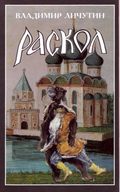Владимир Личутин
Груманланы
Бабы с дитешонками съездили на карбасе по Пые-реке на дальние болотистые ворги, куда мало кто бродит, и набрали туесье и ушаты зрелой морошки, истекающей соком; натомили в руссской печи молока на пятнадцать мужиков, наквасили несколько бочек молока с творогом, настояли спасительную от цинги «ставку», напекли хлебины, насушили сухарей, ведь жизнь их благоверных, а значит и судьба семьи, зависит от того, с каким усердием, безунывно потрудятся их жены.
…Вот и все вроде бы готово к походу, а что позабыто, то вспомнится опосля, когда станет прижимать взводенек и окатывать крохотное суденко студеной океанской волною, соленую водяную пыль, сорванную ветром с белого гребня, высевать в каждую расщелинку и пазушку судна…
И старый мезенский сказитель Проня из Нижи тоже в застолье: и хозяин промысла, верный дедовским обычаям, еще не забывший зимовки на Груманте и Матке, самолично ездил на оленях на Канин в деревню Нижу, что в двадцати верстах от устья Кулоя, где жил известный в поморье баюнок, былинщик, исполнитель старинных распевов, сказыватель всяких чудесных древних приключений Проня Шуваев из Нижи с молодой женою Фёклой Юрьевой из деревни Ручьи: у Прокопия Шуваева, когда сказитель еще жил в Большой слободе и не думал съезжать на Кулой, мезенцы учились выпевать старины: сказитель помогал на промыслах убивать долгую темную зимнюю ночь длиною в четыре месяца, когда солнце, запавшее в запад в октябре, никак не желает до Сретения вылезать на белый свет.
Изба Прокопия Шуваева в Ниже всегда полна проезжего и прохожего народу, дорога проходила под окнами его избы; ведь мезенцы весной, осенью и зимою все время проводили в путях. Кулояне и слобожане, «мезяне и пезяне» отправлялись с зимнего берега на тюлений вешний промысел бить зверя, попадали на остров Моржовец и западную сторону Канина. В иную пору сбивалось на вёшный путь до тысячи зверобоев, и в долгие зимние вечера, чтобы прокоротать время, поморы из ближних зимовий частенько сходились в избе Прокопия Шуваева и слушали его старины и былины. Чаще Проня пел былины вдвоем с братом Николаем, но мезенскую песню «со вчерашнего похмелья», или «когда цвет розы расцветает», или про «Ваську-пьяницу» затягивали человек десять. Молодые поморы подтягивали пожилым спевщикам, запоминали слова, музыку и позднее на Новой Земле и Груманте исполняли запомнившиеся сказания, легенды, были и сказки…
Собиратель фольклора А. Григорьев писал: «Благодаря пению старин во время путей, когда собирается много мужчин, у знатоков сказаний оказывается много учеников».
Распевы Прони Шуваева далеко разошлись от Канина Носа по всем беломорским берегам, на Онегу и Пинегу, тут невольно как бы сама собою создалась необыкновенная, единственная на Руси школа исполнителей русской старины, и многие ученики ее вошли навсегда в народную культуру, стали незабытны. И «записыватели с трубою» полтора века наезжали из Питера на Канин в деревню Нижу, чтобы снова убедиться, что редкостный богатый источник не заилился, не обмелился совсем, хотя к этому идет и видится уже дно…
Из школы Прокопия Шуваева, кроме его родичей, вышли Мардарий из Кузьмина Городка, Касьянов из Заонежья, Аграфена и Марфа Крюковы из Зимней Золотицы, П. Кузьмин с Печоры, пудожане: А. Пашкова и Н. Кигачев, М.Д. Кривополенова из Пинеги, П. Нечаев из Сояны…
И залучил его наш купец-молодец, насулив хорошего жалованья, завлек на промысел на Грумант, и вот, распустив на груди широкую, лопатой, сквозную бороду, сияя желтой плешкой, кулойский баюнок уже завладел отвальным столом, даже не отпив и глотка хереса из круговой братины, а рядом, прислонившись к боку мужа, с какой-то древнерусской душевной теплотою во взоре сидела молодая жена Фёкла, во все отвальное не проронив ни слова, но в голубенькие просторные глаза то и дело набегала влага и, не скатившись из слезницы к верхней пухлой губе, сразу просыхала в обочьях. Проня уходил в море и не вем, вернется ли домой, а Фёкле так хотелось быть вечно возле него и там, на Бурунах, чтобы при случае отогнать зловещую Старуху-Цингу. Фёкла любила петь с Проней вдвоем в долгие зимние вечера, и знала твердо, что лучше этого душевного счастия уже не случится на ее веку.
«Ну что притихла, радость моя? Может, хочешь спеть на прощание: «Старый муж, грозный муж, жги меня, режь меня»? …Проня поддел двумя ладонями снизу-вверх пушистую седую бороду, обнажил шершавое горло, и как-то игриво, по-молодецки, плеснул шелковистую шерсть в лицо жене.
«Проня, да ты почто этакое говоришь-то?» – распевно протянула Фёкла, отстранилась, приглядываясь к мужу, взаболь говорит или шутит, и легко пролилась слезами.
«Да будет тебе… эка ты, однако, курица мокрая! – засмеялся Проня. – Ну-ко, голуба моя, душенька зоревая, незакатная, лучше спой нам провожаньице, а женки подхватят…»
Фёкла промокнула утиральником губы, приотряхнулась, поправила на тощеватой груди темно-синий сарафан-костыч и потянула хрипловатым голосом зачин за невидимый тонкий хвостик, готовый вот-вот оборваться. Завсхлипывала, запристанывала, резко обрывая горловой звук…
…Станем ждать да дожидатися
Мы во чистыя поля во широкия,
Прираскинем свои-то очи ясныя
Далеким-далеко на все стороны…
Мы станем глядеть да углядывать,
Что не придут да наши ясные соколы.
Они – яблони, да кудреватыя,
По прежней поре да по времечку
На трудную работку на крестьянскую,
Будем век дожидаться и повеку…
Мальчишки-зуйки побежали звать на отвальный обед промышленников с женами и близких хозяину слобожан к назначенному часу, кланялись, приговаривая: «Звали пообедать – пожалуй-ко», – и мчались дальше по мезенским избам.
Слобожане не чванились, после третьей просьбы шли в назначенную избу с охотою, ибо отвальный обед, сытный и жирный, устраивал хозяин. Первым блюдом шла треска, плавающая в масле, политая яйцами, были суп из оленины, блины с жареной семгою, навага в молоке, – и вся еда под обилие водки, рома, хереса, привезенных от норвегов по летнему пути, когда мезенцы и слобожане возвращались с мурмана, с трескового промысла, и теперь в каждой избе жарилась свежина-треска и палтосина, на ледник были спущены корчаги рыбьего жира, добытого из рыбьей печени.
Тем временем вчерашние застольщики, одурев от обильной гоститвы, приходят в себя, слегка опохмелившись, кому нынче выступать в море, остальные мужики догуливают у разоренного стола и, приняв чарку рому, с песнями бродят по Мезени, приглядываясь к девкам-хваленкам, собирающим на мезенском угоре большой выход. Девицы перетряхают бабьи сундуки, роются по подволокам и вонным амбарам, по светлицам и горницам, примеряют материно и бабкино приданое, горько пахнущее затхлым, грустью и минувшими годами, когда нынешние старбени с запеченными в луковицу щеками прежде были грудасты и глазасты, русские красавицы с косою в отцов кулак, за которую и волочил порою батька, призывая к уму и чести… Женщины, прибравши со стола остатки обеда и обрядивши скотину, неторопко идут к Инькову ручью, где уже зажила приливная вода и потянулась из большого шара, качнув посудину, готовую к отплытию в океан…
В мое время река уже далеко отшатнулась от города Мезени, бывшее русло превратилось в поскотину, опушилось кормной травою и зарослями ивняка, но в начале XVIII века большой шар на приливах разливался раздольно, по нему ходили кочи и лодьи и в кофейного цвета бурной приливной воде в верхнем ее слое, мутном от «няши», спешили в верховья реки за шестьсот верст огромные стада семог, уже нагулявших в белом море розовое нежное мясо и пахучий жир в подчеревках. Это я еще помню в деталях, как мы, мальчишки, бабы и мужики забредали в большой шар на прибывающей мутной воде, пока не стапливало нас по горло, и кололи непуганых могучих рыб ножами, вилами, острогами, спицами, всяким домашним колющим и режущим орудьем, какой приводился на то время под руку.
Рыбы плыли по верхней воде, глинистая муть забивала жабры, глаза, глотку, но семга уже не могла вернуться в морскую стихию, впереди ждали сотни верст пути, родные заводи, перекаты и каменные переборы, сети, невода, рюжи, заборы и каленые крестьянские крюки, но в подбрюшье уже неукротимо подпирала вызревшая икра, истекала из паюсного мешка: поджимали сроки, надо было, не мешкая, освободиться от нее и дождаться семог с уже готовой молокой. Гнездовье нестерпимо звало к себе, не хватало уже сил терпеть, и семга, преодолевая страдания, не обращая внимания на крики людей, на тревожное мычание коров, переплывающих реку, на сутолоку в большой слободе упрямо тянулась в верховья на свои незабытные заводи у селища Козьмогородского, на корожистый берег, откуда бежал по мелкой гальке ледяной прозрачный родничок и торчали за поворотом гранитные валуны, обвитые со всех сторон шелковистой травой и упругими струями; там поджидал серебристое стадо глубокий омут, где можно передохнуть иль выкопать копь, если уже невтерпеж, и посеять икру, злобно глядя на стадо прожорливых харюзов и сигов…
Семга пехалась вверх до прозрачных речных вод возле дорогой горы, куда уже не доходил прилив: там можно было постоять на песчаном дне. Рыба плыла с упорством обреченного, кому некуда отвернуть и спрятать голову, шла верхним пером наружу, и серая хребтина была далеко видна всякому человеку, пришедшему на большой шар за добычей. Это была веселая увлекательная рыбалка, доступная всем слобожанам, и каждый, кто нынче хотел сообразить кулебяку со светлой рыбой, спешил к большому шару, забредал в глинистый мутный поток, в густую приливную воду и с размаху всаживал спицу, нож, или сенные вилы в семужью спину и, насадив на острие, торжествующе выбирался на угор и спешил в избу…
Я помню эти редкие минуты, когда мощное, красивое, серебристое создание упруго билось в ладонях, еще слабых моих ручонках, вызывая нетерпеливый охотничий трепет, когда детство вдруг отлетало прочь, и откуда-то изнутри прорастал мужик. А рыбина, на мое несчастье, вдруг выскальзывала из плена на свободу, и, забыв о грядущей опасности, снова упрямо шла вверх по Мезени, повинуясь зову жизни, спешила оплодиться, отикриться, вырыть хрящеватым рылом в песчаном дне тихой заводи за камнем-одинцом плодильню, устроиться возле на зимовку, поджидая молодь, охраняя икру от хищных харюзов, сигов и окунья…
И вот прилив покатил спористей, стеною, скоро завернул с большого шара в Иньков ручей, затопил травяные берега, подкрался с шипением и белой пеною до самых подклетей слободских изб, подтопил баньки, дворы и амбары. Морской коч качнуло на воде, выпрямило, мужики полезли на судно, крестясь на купол Богоявленья, священник пытался петь канон густым голосом, размашисто вскидывал кадило, раздувая в нем, как в утюге, душистые вкусные багровые уголья, но хозяин-старовер, родом из Семжи, не боясь государева гнева, велел мужикам гнать еретика прочь, пока царев попишко не навлек беды на отходящую артель. Взвыли женки, запели вопленницы, позванные на угор для провожаньица, бывалые староверки-келейщицы запричитали высоким с подголосками напором, обливаясь слезьми, будто провожали родных на погост. Мореходцы уходили так далеко, покидая родной дом так надолго, будто венчались со смертью, которую иным и случится принять на чужой стороне:
Уж и где же, братцы, будем день дневать,
ночь коротати?
Будем день дневать в чистом поле,
Ночь коротати во сыром бору,
Во темном лесу все под сосною,
Под кудрявою, под жаравою,
Нам постелюшка – мать сыра земля,
Одеялышко – ветры буйные,
Покрывалышко – снеги белые,
Обмываньице – чистый дождичек.
Утираньице – шелкова трава.
Родной батюшка наш – светел месяц,
Красно солнышко – родна матушка,
Заря белая – молода жена,
Изголовьице – зло кореньецо…
Прилив остановился, вода на мгновение окротела, замерла сама мать сыра земля, казалось, затихла вся вселенная, ожидая Христа и его отцовских наставлений, мир, прислушиваясь к урокам Господа, куда, в какую стороны двигаться старой Скифии от вечных льдов Гипербореи, чтобы отыскать свою дальнейшую судьбу, или хотя бы смиренно приобресть, никого не обижая, хлеб насущный по отцовым заповедям, «со своих ногтей»: и особливо не слушая староверческих начетчиков, все-таки не сбиться окончательно с родового пути. Такая минута и настигает поморянина, когда он разлучается с родимым прибегищем, отдаваясь на волю волн…
Вот этих дружественных и мужественных людей, извеку почитающих ледовитое море, как родной дом, и называли в XII–XIX веках груманланами как особую отрасль великого русского народа. В те годы не замирала Русь под спудом нищеты и смирения под окликом Бога, но ширилась во все стороны, принимая всей душою наставления царя Иоанна Васильевича Грозного, что хотя Христос и сын русского племени, но он и Отец, и Господь наш, и надо слушать и слышать каждое его слово, как последнюю истину…
Уже в XVI веке от берегов Белого моря пускались на промысел до семи с половиной тысяч русских судов, уходили в океан от родимых берегов свыше тридцати тысяч промышленников. Отсюда и присловье пошло: «Море – наше поле… кто в море не бывал, тот и Богу не маливался». Гиперборея – не слух, не сказочный миф, не место на карте – это вековечное гнездо русского народа и трудная пашенка его – весь Ледовитый океан под Полярной звездою…
В. Капнист написал в XVIII веке работу, где доказывал, что гипербореане живут за Уралом, и там родина Аполлона. По Страбону же гипербореане – одна из трех групп скифов (еще аримаспы и сарматы). Промышленники, ходившие в XII–XIX веках на Грумант, называли себя груманланами.
Впервые название Шпицберген появляется на карте мира в 1612 году. Норвеги и шведы живут напротив Шпицбергена, но туда не ездят через море из-за бурных ветров и льда. «Над страною высятся горы, – писал Гербертштейн, – покрытые вечным льдом и снегом. Некоторые лица отважились отправиться туда, и хотя они наполовину погибли от кораблекрушения, а оставшиеся дерзнули поехать в эту страну, но, кроме одного, погибли все во льду и снегу».
* * *
Завыли мезенские вопленницы, хрипло, с усталостью житейской в голосе запели старбени, окликая минувшую жизнь, запричитывали бабки-вековухи, вскричали жалобно молодые слободские женки, утирая безудержную слезу – каждое слово выкликалось ясно, пронзительно. Да и как было не плакать мезенским вдовам, если еще толком не отпели сорок мужиков, в прошлом годе не вернувшихся с моря, еще не вернулись с Матки в Мезень их лодьи и кочи. А мужики-то пропали не простые, а бывалые, вековечные ходоки, кормщики и морские уставщики, известные мореходцы, почитаемые на весь север… Вот так круто распорядился Господь со своими детьми, возлюбившими бога и Скифское море… Один из артели покрутчиков попросил хозяина по заведенному обычаю: «Хозяин, благослови путь!» – «Святые отцы благословляют», – ответил хозяин. «Праведные Бога молят», – добавил кормщик. Затем вся артель запела «Отче наш» в сторону Соловецкого монастыря…
С Большого Шара робко потянуло теплым обедником. «Пора трогаться», – приказал кормщик и взялся за правило, звякнул у казенки колокол кимженского литья, мужики кинулись разбирать холстинные паруса, вытянули лебедкой якорь, иные взялись за греби, одели на кочеты весла, четверо покрутчиков уперлись пехальными шестами в няшу, слободские мужики-провожальщики, кто вчера пировал отвальное, забрели в бахилах в Иньков ручей и помогли спихнуть тяжело груженное судно на глубь…
6
Мы приняли Нестора-летописца за создателя русской истории и при всяком удобном случае непременно сверяемся с трудами черноризца и как бы уже не видим других мнений, взглядов, открытий, или считаем уловками чужебесов, покушающихся на великого монаха. И не принимаем возражений, что от летописца минула тысяча лет и сколько всего необычного пришло к нам из прошлого, вроде бы безвозвратно утерянного, какая драгоценная историческая скрыня приоткрылась, и нас вдруг опахнули сказочные страницы древней Руси, когда о Христе еще никто и не вспоминал, а русское племя молилось иным правоверным богам и пророкам. А Нестор много всего напутал, присочинил, из тусклого окна убогой келеицы худо видя безбрежной просторы святой Руси, по своей монашеской простоте сотворил свою Россию крохотной и убогой, но не умышленно придумал, не по злобе, не с дурной затеей, чтобы напроказить и унизить (как то позднее накудесил историк Карамзин), но из-за скудного знания земель и народов их населявших. Это был вид из волокового оконца, из-за слюдяной шибки и заплесневелого от дождей паюса, прикрывавшего дыру монашеской кельи… Такова обычная судьба всех летописей, когда потомки и их властители выправляют, выскребают, подчищают, убирают страницы минувшего по приказу великого государя, переписывают, сочиняют небывшее, сдвигают даты и числа, пишут по слухам, легендам и сказкам…
Братцы мои, оказывается, русский народ-то и прежде жил с ясным сознанием бесконечности бытия, труждался на пашне, рóстил детей, ходил на промыслы в свое море, которое называлось Русским морем, пока нас не вынудили съехать «кобыльники» с южных палестин: и мы, вечные скитальцы, погрузились на свои лодьи, поднялись вверх по Днепру, волоками перетянулись на Белоозеро, на озеро Лаче, оттуда по Онеге сплыли к Ледовитому морю и признали его своей пашенкой. Освоили, обжили Скифский океан, и стал он для сварожичей новой родиной, а Гиперборею назвали домом русских скифов. И еще многие и не знали, слыхом не слыхали в долгом пути к ледяному морю, что Андрей Первозванный отправился по напутствию Спасителя крестить Русь, поразился безбрежности русской равнины, целомудрию и нравственной чистоте божьего народа и на днепровской круче возле стен киевского острожка поставил каменный крест, в дальнейшем трудном пути привлек к Иисусу Христу жителей Смоленска, Полоцка, Словенска, волхвов Валаама, Литвы, венов, венетов, балтов, рутенов, рогов и ругов-сварожичей (южных варягов-варов) и там тоже поставил каменный крест, которому ныне более двух тысяч лет… Обогнув Европу, апостол вернулся на родину в Грецию, где его и распяли на косом кресте…
Иоанн Грозный, великий русский царь и первый император, гордился тем, что его дальних предков крестил сам апостол Андрей Первозванный, спосланный на севера Спасителем.
И вот прижало нынче, стали колотить-бросать каменьем из-за каждого угла, вдруг ставшего враждебным, и бить в потылицу, дескать, вы тут лишние, дескать, похитили чужую землю, присвоили себе и черпаете ковшами безразмерную золотую казну; вот и от победы над немцем понуждают отречься, отказаться от пространств, которые с такими тягостными трудами осваивали пятьсот лет поморы-землепроходцы, выстраивая в Сибирях острожки и города, и те, оказалось, кто вбивал первые пограничные колья будущих зимовий, были выходцами из Мезени. Братцы мои, разве это не чудо, что когда-то по этим улицам ходили Окладниковы, Ружниковы, Откупщиковы, Личутины, Коткины – настоящая легенда Мезени, которую наезжий бытописатель Максимов, не проникшись прошлым этого героического края. вдруг издевательски обозвал мерзенью, дескать, хуже этого местечка он не видал во всей России, куда бы ни заносили его путешествия…
Зарубежные летописчики прописали русских в ледовитом океане лишь концом XVI века, дескать, ранее севернее устья Двины русских мореходцев и не бывало, дескать, приплыл Баренц и привел «географию» в полный иностранный порядок, дал свои названия, воткнул свои флаги. И эту заведомую ложку дегтя на русскую историю охотно плеснули доморощенные русофобы и кобыльники, та отвратительная «ученая» отрасль человечества, та изворотливая и наглая капиталистическая порода, что, по определению Маркса, ради даровых тысячи долларов готовы задушить собственную мать. и все уверяли с глумлением, дескать, русский – вечно пьяный дурак и лентяй, душою раб и пресмыкатель, ни на что доброе не гож, но только вредить ближнему и помыкать слабым. И этим клеветам у нас в России охотно верили и верят нынче, и готовы сбежаться в стаю, чтобы лай стал гуще и зловоннее.
Хотя русские изучили капризы Ледовитого океана и северных морей и за тысячи лет, когда пришли в Лукоморье с берегов Дуная как русские скифы, создали науку вождения судов, изобрели удивительный корабль-коч, равного которому не было во всем мире, и заключив нравственный союз с Ледовитым морем, стали неторопливо обживать его, сделали своею пашней, другом и кормильцем. А плавание в северных водах не идет ни в какое сравнение с попугайно-пальмовыми жаркими морями, ибо сами арктические условия требуют жертвенных «сильных» мужественных людей, готовых на страдания и смерть. Плавания на северах редко кому даются, а кто сладил с Ледовитым океаном, уже не захочет с ним расстаться до последних земных дней.
Когда после четырех месяцев жуткой ночи вдруг на горизонте на одно мгновение вспыхивает солнце, то зверобои, оставшиеся в живых, вырвавшиеся из объятий груманланской Старухи-Цинги, после радостных объятий не промедлив отправляются в море на карбасах длиною в две сажени бить моржа: уходят в море вдвоем, гребец и рулевой, нередко верст за пятьдесят от берега в поисках зверя. В конце февраля это не самое ласковое время, да если еще заподдувает сиверик или хивус со снежными зарядами, и начинают мужики замерзать. И, чтобы отогреться, лихорадочно гребут к берегу, насколько хватает сил. Они не боятся, что затрет льдами, перевернет ветром, потопит буря… «не та спина у груманланов, и все они братия приборная», – говорят они про себя, похваляясь молодеческой силою.
Нередко близ Груманта находят карбаса с трупами закоченевших зимовщиков. «Тела роют в воду, а карбаса забирают». Так все лето стреляют моржей, морских зайцев, нерп, белух…
* * *
Очень трудные для работы и коварные большие и малые бруны не всякому встречному-поперечному распахнутся навстречу. Коварные корги и потаенные песчаные мели, поливухи, баклыши и бакланы, плывуны, виски, гранитные лбы, каменистые и няшистые лайды, осоты прибрежные, каменные переборы в устьях рек и железные ворота, которые открываются кочу с невыносимым стоном, лязгом и громом, готовые заловить судно и потопить на входе в реку, песчаные мели, постоянно меняющие свое место от приливов и отливов, шары и шарки, курьи, виски, сулои и сувои, донные течения, вихри, водовороты, при которых меняется характер морского пути и возникают множество коварных препятствий, да к тому же десятки ветров со всех направлений, внезапные штормы и затяжные штили, при которых невозможно двигаться, метели и бури, ураганы и штормы, коварные шхеры, губы, заливы, куда рискованно войти, чтобы не остаться там взаперти. А сколько всяких льдов встретит моряка, если застанет внезапно поздняя осень и со всех сторон навалятся невесть откуда взявшиеся торосы и станут терзать несчастное судно, испытывая на крепость, которое из красавца, изукрашенного мифическими аллегориями, вдруг становится крохотным, беззащитным и жалким.
Стивен Барроу, шедший Ледовитым океаном в Китай за пряностями, полагая, что «Теплое море» находится сразу за Обью, закончил свое путешествие возле Кулоя, откуда спускались рекою в мезенскую губу множество кочей, чтобы пройти в устье Мезени, а оттуда, обогнув Канин нос, податься на Новую Землю иль на Грумант промышлять моржа. Барроу даже не довел экспедицию до Мезени и, утопив три корабля, был вынужден вернуться обратно в Англию. А в устье капризной Мезени его встретила бы изменчивая Мезенская губа с самыми высокими в мире приливами и разбойный ветер. Без русского кормщика в реку нет ходу, и даже в ХХ веке стояла в Кузнецовой слободе лоцманская служба, пока совсем не прекратилось судоходство.
Если нет в летописях о русском судоходстве, о мастерстве кормщиков и строителях кораблей, о дальних походах еще во времена древнего Новгорода и много ранее, если не расписано, как Андрей Первозванный крестил Полоцк, Словенск и Валаам – это не значит, что подобного не было и не могло случиться, как рассуждают нынешние ученые с усмешливым блеском в глазах: дескать, мели, Емеля – твоя неделя… носи в себе свою дурь, но не выноси на люди, засмеют.
Капитан Стивен Барроу писал в отчете о той экспедиции 1556 года на восток: «Поморы-промышленники согласились сопровождать экспедицию на восток, сообщили, что они знают дорогу на реку Обь. В ходе плавания я убедился, что все они прекрасные мореходы, а их лодьи быстроходны и гораздо более приспособлены к плаванию в Арктике, чем английские корабли».
Англичане побывали у южных берегов Новой Земли и встретили здесь несколько русских людей во главе с помором по имени Лошак. От них получили сведения о деятельности русских поморов не только в южной части новой земли, но и в районе Маточкина Шара.
Знаменитый сотрудник пушкинского дома М.И. Белов, собравший в Поморье единственную в мире коллекцию старинных письменных книг, поморских рукописей и древних актов, изучая поморские суда XV–XVI веков, отметил, что «коч как первое морское арктическое судно по своей конструкции и ледовым качествам не имело ничего равного в тогдашней мировой практике судостроения. Строили не только большие кочи. Для прибрежных недальних походов, для пересечения губ и перехода по волокам строились «малые кочи», поднимавшие от 700 до 800 пудов. «По удобству преодоления волоков и плавания в мелких морских губах таким судам не было равных».
Именно на кочах была освоена поморами огромная Сибирь, на этих «неказистых» собою суденках вышли русские на Алеутские острова, Северную Америку, открыли северный пролив в Тихий океан, на Сахалин, Камчатку и сделали Русь великою державою. Но даже помор Михайло Ломоносов не сразу уловил дерзость северного судостроителя-самоучки, не знавшего чертежей и специальных регламентов при создании морского коча, ибо был обманут внешней картинкой зарубежных кораблей, их надменной красотой, обводами, огневой мощью, парусами, такелажем и экипажем, оснащением эллингов, удобством управления, знанием морской науки, намного превосходящих неказистую, «уродливую» мезенскую посудинку, вышедшую от топора помора-плотника, одетого в оленью шкуру и смазные долгие бахилы по рассохи…
Да и пример императора Петра, резво «шагнувшего» из крохотного шутейного ботика на английские стапеля с топоришком под царскую руку от детской забавы, наивно взявшийся за крестьянское рукомесло, решив обтесать шпангоут брига (кокору), не знавший, куда и как применить свои царские ладони, не знавшие трудовых мозолей, но лишь детские забавы. Эта видовая масонская картинка с царем Петром на стапелях сбила мужика Ломоносова с толку, но, возвратившись из Германии в Россию, освободившись от европейского угара, Ломоносов довольно быстро вернулся в природный скептический ум, дарованный господом и так необходимый в науке: холмогорский мужик, плававший с отцом к берегам матки, скинул прельстительные юзы чарующей шоколадной обертки, британской и свейской обманки, решительно шагнул в русскую природную культуру, которая к тому времени насчитывала уже тысячи лет, а европейская была молода и наивна; как истинные протестанты, запад в каждом новоделе ценил искус, красоту внешнего, не внутреннее содержание, но форму, чтобы внешним обвести покупателя вокруг пальца, завлечь под тайный умысел и тем ловко «снять навар» (прибыток). Но Ледовитый океан не поддался иноземным уловкам и заставил смириться с его суровым величием и особенной скифской красотою. Подружившись с Ледовитым морем, русские поморы подтвердили воочию: они русские скифы…
Неизвестно точно, когда поморы пошли в голомень, оторвались от родных берегов, но с изобретением «коча», способного плавать во льдах, поморяне заглубились в Скифский океан и открыли Шпицберген. Угорские же племена, пришедшие с Алтая, моржей не били, занимались таежной охотой и водили оленей. Норвеги, что живут напротив архипелага, с больших кораблей били из пушек китов и в то же лето возвращались в родные пристани, не зимуя на ледовых островах. Они удивлялись бесстрашию русских поморов, что охотились с кутилом и спицей на свирепого моржа, а с рогатиной – на белого медведя. Они считали Грумант русской землею: дескать, поморы не боятся зимовать на гранитных скалах в стужу и во мраке…
На карте Меркатора 1569 года севернее Скандинавии возле архипелага Шпицберген показаны семь островов под названием: святые русские… В 1576 году датский король Фридрих II сообщает в город Вардё своему наместнику, что в Коле живет русский кормщик Павел Нишец, который ежегодно около Варфоломеева дня (24 августа) плавает на Грумант. И он поможет провести датские корабли в Гренландию. А что тут удивительного, если в Коле и на Печенге к тому времени уже четыреста лет жили и промышляли выходцы с берегов Белого моря и бедовали монастырские иноки, пробавляясь семгой, треской и селедкой…
Поморы ходили на Гумант на промысел моржей, белухи, полярного медведя (ошкуя), охотились на голубого и белого песца, на оленя, которых водилось на архипелаге в изобилии. Основным промысловым судном в Х – XVII веках, на котором зверобои плавали в океан, был коч – деревянное двухмачтовое судно с грот- и фок-мачтами длиной до шестнадцати-семнадцати метров, шириной до четырех метров и с осадкою два метра. Коч хорош в плавании во льдах, строили посудину в короткое время в самых трудных обстоятельствах одним топоришком и напарьей в два-три месяца, крепили деревянными гвоздями и пришивали сосновые нашвы вересовым распаренным кореньем, паруса долгое время были ровдужные, кроились из выделанной оленьей шкуры, позднее перешли на холщовые полотнища. Коч был дешев в изготовлении, не боялся отмелей, подводных корг и корожек, луд и залудий, мог прижаться к берегу, бойко шел под парусами по ветру, артель в пятнадцать мужиков легко выгребала судно, когда наступала тишинка; если ветер дул в зубы и сбивал с курса, то роняли паруса на палубу и высаживались на берег, иль заходили в губу, или попутное становище, но супротив ветра паруса не работали. Это был, пожалуй, единственный недостаток промысловой посудины, порою досаждавший охотникам. Округлые борта коча и бескилевое днище «яйцом» позволяли судну плавать по морям во льдах и сибирским порожистым рекам, и когда разбойное море грозно торосилось с тяжким стоном и уханьем, угрожая артельщикам потопить их без отпевания, без прощания с близкими, поморы, почуяв безысходность минуты, но не теряя духа, не лия горестных слез, выкидывались на матерую льдину и «аньшпугами», которые были уже наготове, вываживали посудинку из пучины… хваткими добрыми мастерами в корабельной работе ценились мезенские плотники и были в почете по всей Сибири.
* * *
Как говорится: опыт – дело наживное, но приходит он с годами и веками. Поморы сидели вдоль океана на тысячу верст на двенадцати берегах и везде, в каждом селище, селе и погосте, вырабатывался свой уклад, манера плавания, обряды и обычаи, устройство дома и двора, деревенский мир, склонности и привычки; на каждом берегу были свои предания, легенды, история, жили все от моря, но от своего угла, берега, болотин и суглинков, лесов и озерин, от своих лайд, поскотин, заливов, губ и висок, путей и перевалок, – жизнь не сочинялась из головизны тысяцкого, или на потребу купчины пустоголового, волостного тиуна, губернского чиновника, наезжего барина, но сам сельский мир выбирал в столетиях свой устав и направление жизни, и каждый житель не ткал свою нить поведения, но диктовала деревенская община от рождения до смерти. Только казалось вольному поморянину, что он свободен жить сам по себе: но если нарушил вековечный обычай, пренебрег опытом старших, то, милый ухорез, – вон из селища, и там, «на чужой сторонушке», пользуйся своей волею, сумасброд окаянный, как тебе придет в голову, но не лезь к родным берегам со своим уставом. Вот тебе бог, а вот и порог, не думай, что в своей деревнюшке, пусть и с десяток изобок, можно выхаживаться перед людьми, атаманить, – живо приструнят, раскатают по лавке, растелешат и накидают плетей, отлупцуют, лежи опосля на печи и причитывай мстительно: «Ну, погодите, гужееды и кисерезы, покажу вам кузькину мать, небо с овчинку повидится»… А минет малое время, и будто несносимая обида куда-то источится, словно веком ее не бывало, и душа уже не ропщет, не рвется из постромков, а зовет в мир, в толпу, на родной угор, где толпятся мужики, те самые трескоеды и кофейники…