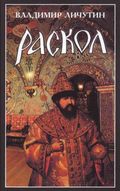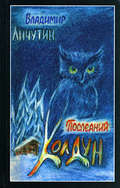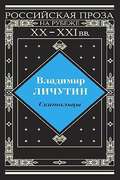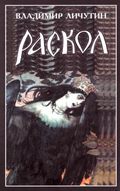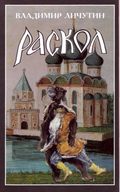Владимир Личутин
Груманланы
Как ни дерзновенны были молодые бессемейные мезенские казачата, в какие бы рисковые охоты ни пускались за тысячи верст от своего дома, но обычаи родовые, своего погоста, неугасимо, немеркнуще жили в груди, и мезенские промышленники возвращались на свою реку, к родовым истокам через много лет. И если по молодости ты кочевряжился возле мирской избы, кричал в хмельном угаре угрозы старшинке в приотдернутое волоковое окно: «Де, я тебе устрою кузькину мать, сучий потрох, небо с овчинку станет, сволочь такая…» Но отплыв за пределы родного печища, ты уже с какой-то тревогой и печалью вспоминаешь дорогие с детства пажити и не можешь выкинуть из ума все, оставленное вроде бы за ненадобностью: и вдруг оно-то и покажется единственно необходимым в жизни, за что можно и умереть.
Значит, что-то единило их всех, каждую деревнюшку, затаившуюся за горушкой, куда уже не доносился морской прибой и ледяной морок, – а собирали в груд, строили общую судьбу, земля, такая трудная для проживания, и Ледовитое русское море, куда бы ты ни бежал от него. Море лепило, шлифовало особенный характер русского колена, необычного поморского племени, сидящего на двенадцати берегах белого моря: это ледяной Скифский океан выкраивал и сшивал нерасторжимой вервью не только судьбу северного народа, но и дерзновенную русскую натуру…
Поморье было огромным государством в государстве Россия; берегом океана от Колы до Оби; если вглубь матеры – до Вологды, Выга, Перми, Вятки; это Каргополь и Архангельск, Мезень и Великий Устюг, Мурман, Онега, Соль Вычегодская, предгорья Урала, Кандалакша, Усть-Сысола, Пинежье и Печора – земли, превышающие любое европейское государство, а может, и всю Европу. Прежде на картах называли: Скифия, потом писали: Поморие. Если норвеги, даны, свеи и британы делали пиратские набеги на соседей, грабили богатых, взяли Париж и Рим, тем временем поморы, не вызывая в Европе своими деяниями особого шума и перетолков, проникли на кочах и, карбасах, оленях и собаках в самую сердцевину великой Сибири и поклонили под русского царя владения монгольского владыки. Так что поморский коч – это не игрушечный детский ботик царя Петра I, а национальное достояние, приведшее русский народ к славе и богатству.
7
Дул обедник, ветер с горы, уросливый и поперечный, сейчас теплый, шеки колонковой кистью гладит, и вдруг случается с погодою злая перемена, начинается бухтарма, туман завешивает всю округу, поднимается ветер с Бурунами и нагнетает волну с белыми гребнями, терзает морскую воду в пыль, и это сеево развешивает над морем непроницаемым покрывалом, так что ничего не видать в округе, и приходится плыть наугад лишь по компасу (матке).
…Но пока спускались по Мезени до устья на полном приливе, была тишь да гладь, – божья благодать. Шестеро мужиков сели за греби, четверо встали по бортам с шестами, мерять глубины, двое у лебедки с якорем, подкормщик у правила, еще двое принялись разбирать на палубе паруса и такелаж, кормщик Фрол Сазонтович Макалёв в носу, внук Петрухич забрался на марс, из бочки торчала соломенная его голова. Кормщик порою окрикивал внука, чтобы не дремал: «Петрованко, гляди пуще, осторонь не пяль глаза, ничего там не потерял. А на девок еще рановато пучиться, надрочишься, каковы твои годы», – миролюбиво снижал голос дед, переходя в последних словах на шепот, внимательно обводил взглядом сиреневый горизонт, высокий угор из бурого камня-арешника, на вершине которого выглядывают темные крыши рыбацкого выселка семжа в три избы. Мала деревнюшка, да славна мореходцами: гуляют своею волею во все концы света – прозеваешь, ворона, еще не поздно на берег ссадить». Отрок не отзывался, он впервые был в таком почете, вызнялся под облака, аж дух замирает. Море виделось во весь распах и при взгляде на голомень, откуда накатывала бесконечная гряда волн с белыми гривами, – охватывал мальчишку восторг: кружились над палубой, выпрашивая подачку, готовые выклевать у петрухи глаза, визгловатые чайки-моевки, убегали прочь глинистые кручи и травяные наволоки, вороха редеющего ивняка, промысловые изобки, возле которых трудились мужики с деревеньки пыи: вытрясали сети, чистили рыбу, готовили на полднище ушное. Cемги взлетали в воздух из-под судна серебряными коромыслами и с плеском возвращались в убывающую воду. Надо было спешить, и мужики дружно напирали на греби, шестовики ловили глуби и мели, чтобы не обсохнуть, не сесть на кошку. Не хотелось артели опростоволоситься в самом зачине дороги, когда вон, совсем будто рядом, за Кузнецовой слободою маревят обманчиво купола Богоявленской церкви. Едва отшатнулись от слободы; изба родная совсем рядом, а тут такая морока. И ты, кормщик, не у тещи в гостях, не считай ворон, не позорься, христовенький, не кисни под пазухой у Господа; а песчаные кошки гуляют по дну реки после каждого междуводья, угодишь на дьяволью обманку – и загорай полсуток на посмешку мещанам, жди нового прилива, когда прибудет вода и снимет посудину с мели…
«Дед – молодец, он промашки не даст. Сам же учил меня: коварная Мезенская губа не любит спесивых и трусливых», – думает Петруха, поглядывая из бочки за кормщиком.
…Братцы мои, кто бы знал: только сдвинулись с родного прибегища, а уже сколько картин приняло, хмелея, отроческое сердце…
* * *
Коварно мезенское русло, кочует с берега на берег, мели да перемелья, банки, корги с корожками, поливухи-валуны под тонким слоем прилива, бакланы, переборы и камни-одинцы; сколько всяких переград понаставил Сатана на пути к промыслу. Бог-то он Бог, да и сам-то не будь плох, вбирай в себя отцову науку, впитывай каждую зазубринку и прихоть ледяного моря, которое надо жаловать, почитать, но не падать ниц, стоять впоровенку, глаза в глаза, да почаще и с умом не забывай перелистывать «поморское правило», которое лежит у деда в казенке на столе и придавлено для надежности камнем-голышом.
(Еще в стародавние времена северные мореходцы создавали «уставы морские», «морские указы», «книги морского ходу», «морские урядники». В старой морской лоции говорилось о природе ветров, о распорядке приливов и отливов в Белом море, о том, как угадать погоду по цвету морской воды, по оттенку неба, по форме облаков. «Плавущий ледяной указ, или Устав о разводьях и разделах, како суды ходити и кормщику казати». «Морской устав новоземельских промышленников».
Опытный кормщик знал суточное время прохода меж льдов, ибо судоходные разводья во льдах регуляторы, поскольку регулярна череда суточных морских приливов и отливов. Многие рыбаки и зверобои вели свои записи или изустно передавали свои наблюдения. Так, мезенский промышленник Малыгин рассказывал: «В нашей местности на койденском берегу разное течение воды у прилива и отлива. Три часа идет в нашу сторону из полунощных (северо-восток), потом три часа идет в шелоник (юго-запад). Так ходит и прибылая и убылая вода. от берега в голомя, на оржовец вода компасит: два часа идет под полунощник, потом под восток идет три часа, потом под юг около трех часов, потом под запад идет четыре часа. Опытно знаем, по компасу сверено…
Я родом с Мезени, но и не слыхал о таких сложностях с движением вод. Мы думали, прибывает вода, кротеет и отливает, но никогда не задумывались о такой сложности поведения моря и зависимости от Луны.)
Фрол Созонтович вел корабль на западный берег Груманта, куда за недолгую жизнь шел на шестую зимовку. Полвека-то разменял, да много ли того времени еще осталось жить? Вот и тащил с собою Петрухича, чтобы внук сызмала входил в морскую науку. Мысленно перелистывал в памяти, не позабыл ли чего важное в слободе, хотя вспоминать-то уже поздно бы, но перебрать на уме надо и держать в голове наготове, чтобы опосля не кипеть натурою, не пылить напрасно, не ругать покрутчиков за забывчивость, не хвататься, как утопающий, за соломинку.
Вот, мезенские вдовы слезно просили, чтобы не забыл Фрол Созонтович просьбу, поспрашивал бы на станах, не оследился ли кто из потерявшихся мезенцев, не ходят ли на коле и Печенге слухи о разбойном шторме, когда десятки судов разом раскидало по океану, не разносят ли сказки о чужих в западной стороне людях…
Ведь не могло так статься, что погинули все, словно булыга в воду. Человек не камень, не земная бесплотная тень и какой-то следок всегда оставит по себе, если присмотреться к матери сырой земле. Созонтович обещал исполнить вдовью просьбу и даже чувствовал, как невольно омокают его глаза и проседает в жалости душа, когда прощался. Но сейчас, настрополившись всей натурою на промысел, невольно приотодвинул вдовью слезницу на зады памяти, стал суров и строг к себе и к артели, чтобы не превращать ватагу в труху.
Кормщик примерно знал, куда править коч, ведь новую промысловую избу решили не ставить, чтобы не входить в лишний расход; только нарубили четыре разволочных зимовейки для отходников и амбарушки для хранения промысла от ошкуев, что так и трутся, белые разбойники, возле разволочной зимовейки, выламывают дверь и оконницу, чуя человечий дух, запах ворвани и топленого моржового сала, заправленного в светильник, и оленьих копченых задков, – вот и рвутся, паразиты, на разбой. Коли повадится медведко ходить к зимовье, вырывать с корнем дверь, один тут выход – встречай на пороге пищалью, не робея, иль рогатиной, иль с ножом. Случалось и такое, придется искать становище в западной стороне Груманта: там вековечные разволочные кушни у мезенцев, свое ухожье, свои древлеотеческие образа старого письма и набитые за столетия охотничьи тропы.
…Места тюленьих и моржовых промыслов в Поморье никем не назначаются, не разыгрываются в жеребий, не отдаются в оброк, не продаются и не покупаются, а владеют ими те жители зимнего берега, кто первыми когда-то в прежние времена сели на угодье и стали промышлять. Занятие трудное, не всякая душа притерпится к этой кровавой работе, тяжелый хлеб насущный приходится отвоевывать мезенцу у ледовитого океана, и порою этот трудовой кусок застревает в глотке, и только память о жене и детишках понуждает мужика держаться за зверобойку из последнего, пока есть здоровье, и промысловые пути остаются за этим промышленником на долгие годы, а порою и сотни лет, переходя по наследству: так случилось со становищем старостина, где его род (выходцы из Великого Новгорода) занимались на Груманте охотою на моржа более четырехсот лет.
Таков обычай установился по берегу океана от Колы до Ямала, и никто из промышленников не нарушал устав сельского мира, да и власти не встревали. Обычно выбирались промышленные места невдали от дома, чтобы надолго не разлучаться с семьею, или садились на ухожья, ближайшие к селитьбе. Так мезенские мещане и крестьяне из Семжи, Долгой Щели, Нижи, Сояны, Лампожни, Койды занимались зверем в восточной части Белого моря на четырех путях: зимнеостровском, кедовском, устьинском и конушинском. Жители выселков, севших по речкам Вижас, Ома, Снопа, Пеша и Индига били зверя в Чешской губе; пустозерские охотники промышляют у островов Колгуев, Варандей, Долгий, Вайгач, в Югорском шаре и близ берегов Карского моря, на Шараповых Кошках. Но мезенские мещане хотя и чтили старинный устав и, не покушаясь на чужие ловы, настойчиво искали новые корги, богатые зверем, уловистые, рыбные и оленные; кочевого норова, мезенцы веками заезжали на самые дальние острова, а позднее двинулись и на восток, на сибирские реки.
Мезенские охотники имели решительную натуру, боевую, и считались в Поморье самыми опытными, любознательными, смелыми мореходами, охочими до перемены мест. Потому их брали во все русские экспедиции от Семена Дежнёва, адмирала Чичагова, Пахтусова, Цивольки до адмирала Колчака. Со временем вдруг обнаружилось, что в самых важных и трудных открытиях и государственных предприятиях обязательно участвовали мезенцы и пинежане, что жили в соседях в Кеврольской волости по реке Пинеге, крестьяне Кулоя и Выга, Вычегды и Белоозера охотно впрягались к слобожанам в покрут, не пугаясь смертельного исхода… Вот и на Груманте, и на Матке особенно добычливыми и азартными в охоте на зверя славились мезенцы с зимнего берега: со временем название реки Мезень (как фамилия) распространилось в Сибири, а позднее перекочевала в Московию. От мезенца пошли: Мезенцевы, Мезени, Мезеневы, Мезенины, Мезенкины, Меженины. Таежная река Мезень тянется от дальних пермяцких суземков между Северной Двиною и Печорой как межа, делившая Тайболу, – родину многих, уже забытых народов, населявших когда-то богатые вотчины (белоглазая чудь, скифы, сыртя, мегора, мотора, печора, мезяне, пезяне, золотичане, зыряне, суряне).
Через пятнадцать веков на их место пришли ижемцы, пермяки, остяки, манси, лопь, самодины. Мезенская слобода хоть и потеснилась временно на рубежах Руси Заволочской, но не уступила пришельцам с Алтая своей наследной божьей пашенки – Скифского ледяного океана.
Мы так привыкли к узаконенной географии, что придирчивый взгляд уже считается инакомыслием, предательством религиозных правил, и вообще слабоумием, которое надо бы лечить. Но так как сама-то церковь уже тысячу лет шатается на распутье, норовит упасть, блажит в ересях и плохо знает, куда брести, куда выторить, косоглазой, свою неповторимую дорогу, то и путливое мельтешенье по истории уже принято русской церковной властью за поиски истины. Однажды поддались уловкам «не наших» при царе Алексее Михайловиче, не разглядели хитрых скидок «ереси жидовствующих» и, лютуя на первого русского царя Иоанна Васильевича, сбились с заветного пути в лютеранскую сторону… Бояре, ища выгоду себе, создали в стране смуту, перекинулись под поляка и едва не потеряли свое государство и родину…
Пока наш коч, поднявши паруса, радуясь спутнему ветру-обеднику, мчит в север вдоль канского западного берега к завороту на Матку, а там к Максимкову становищу на западном берегу новой земли… а от нее уже отворот на Грумант. Дорога торная, хотя и не видимая простому знанию, но для кормщика, кто не раз хаживал этими местами, известна и расписана в «поморской лоции». Ведь не наобум правит свой коч мезенский кормщик, не спустя рукава, по народному присловью «сапоги дорогу знают». Нет, не сам от нечего делать схватился Созонтович за руль плавучей посудины, но весь род его исстари водил сальные промыслы, всю округу до Мангазеи исходил, до Тоболеска плавал по Оби, нанимаясь к купцу Ружникову, и ни разу не оступился, хотя у ледяного моря нехитро угодить в плен и в забвение, если не помирволил ты батюшке Скифскому океану и тем проявил свою спесь. Основа морской науки – сами пути, которые ты прошел, придирчиво вглядываясь и запоминая каждую извилинку трудной дороги, занося все необычное в рукописную памятку. Так и создавалась поморская школа для плавающих по ледяному океану… Но как ни отважен ты был, как ни сметлив – помни: помор в плавании ошибается лишь однажды, за ним следят пучина и «груманланский пес». На тот случай неотлучно держи господа в памяти, не попускай душу – растечется, а глаз блюди зорким и схватчивым, чтобы не промахнуться случаем…
И вот обогнули Канин, туго всхлопал парус, ветер-шелоник оказался в самую спину, и коч бойко потек к Югорскому Шару, а оттуда к Новой Земле, чтобы, пройдя Маточкин Шар, выйти на западный берег острова и взять путь на острова Медвежий и Малые Буруны.
Это был вековечный мезенский ход, ибо кола, печенга и двиняне плавали прямо на Грумант мимо кольского острога и управлялись с промыслом в одно лето, редко оставаясь в зиму: охотники с терского берега порою, насмелясь, ходили у Святого Носа, через самое гиблое место, рискуя потерять не только судно, но и саму жизнь: воды кишели морскими червями, тут сталкивались противные течения, свивались в крутой сувой, захватывали обреченное суденко в объятия, разбивали в лоскутья и забирали на дно. А студеный ветер с Груманта ломал мачты и частой рассыпчатой волною укладывал погибающий коч на борт, чтобы способнее было сувою подхватить посудинку в ледяные воды. Но поморы, трезвые умом и расчетливые характером, не совались в эту прорву, обходили страшное место верхом, вздымали лодью на гору и тащили по склизким замшелым бревенчатым кладям древнего волока до спуска в море, тем самым минуя беду.
А путь мезенцев хоть и был длиннее в два раза, но привычен, изучен за века морских скитаний, извилистый, скрытчивый, упрятанный от чужаков, желающих раскрыть русские пути на восток, но более спокойный; не надо уходить в Голомень, далеко отрываясь от берега, чтобы обойти многочисленные корожки, кошки, отмелые места, бакланы, обманчиво принакрытые нагонной водою, коих много понасыпано близ онежских скалистых угорьев и кольских гранитных круч.
Каждый поморский берег имел свои наследованные вековые пути, свои ветра, свои взводни и мирился с ними как с неизбежными спутниками жизни, не вступая в дрязги. Главное – не запоздать днями, подгадать время, подойти к мысу Черный и до Максимкова становища не позднее середины августа, пока губы и загубья новой земли не обложило льдами… А впереди еще тысяча верст ходу до Груманта, но уже по вольному океану.
* * *
…А пока стоит, наверное, порассуждать об Окладниковой слободе и мезенском народе, который с таким пренебрежением осудил писатель Сергей Максимов в своих путевых записках.
Мезенские мореходы – промышленники-зверобои, судовые строители, плотники – мастера топорной работы считались лучшими по всей России… И когда Петр, названный поморами «антихристом первым», безрассудно, забывши истинного Христа, взбулгачил Русь, поставил ее на дыбы и, туго зауздав, затеял строительство флота, наивно полагая, что до него не было на русской земле ничего приличного: и что дельного может справить дикий народишко в армяке и заячиной шапенке, по глаза обросший шерстью, с квашеной капустой, застрявшей в нечесаной бороде? А может лишь пить в кабаке, рыгать да булгачить, бурлачить по рекам, таская дощаники с солью и зерном, сшибая копейку на пропой. То надо эту смиреную скотину пускать в упряжь да кабалу, чтобы батрачил до конца дурацкой жизни за кусок хлеба насущного. Так рассуждал кремлевский очковтиратель, возвратившись из лютеранского запада, ретиво, на долгие двести лет впрягая Русь в крепостное ярмо.
Но Петр, возвеличенный до небес «ушибленными» людьми, отрекшийся от Христа и сронивший церковные колокола задолго до коммунистов, чтобы заглушить воинственный голос Спасителя, стоявшего за униженного человека, скоро запамятовал коренную заповедь Христову: что бог дает богатым деньги нищих ради. А Иоанн Грозный, первый русский царь, всегда чтил главное чувство русского крестьянина – нищелюбие… Петр не знал, да и с детских пор не любил православной святой Руси, что толклась под окнами его кремлевских хором: он не знал, да и брезговал ею, отравленный прельстительным ядом чужебесия до такой степени, что забыл самого себя; и ближним из его окружения долго не верилось, несмотря на дикие выходки мсковского властителя, что это их мальчонка император Петр, выросший на пшеничных папушниках и расстегаях с визигою: вернулся с запада в Россию совершенно другой человек в иностранном камзоле и в узких бархатных штанишонках, напоминающий царедворцам ощипанного злобного гусака, родной русский Петенька, хвативший иноземного сикера, очарованный дивными сновидениями, но забывший русского Христа, когда отдавал на смертоубийство сына Алексея. Это было начало долгой страшной игры по разрушению своей же русской империи. Царь Петр забыл наставления святых отцев: да не едим чужой еды, не носим чужого платья, ибо через них вступает в человека прельщение и начинает повиновать им…
Еще ребенком царевич Петр учился плавать на игрушечном ботике, воображая себя владыкою морским. И царь водяной поймал слабости мальчонки, ухватил его за кудерьки и утянул на омовение в чужую бесовскую пучину к своим богам. И никто этого не заметил. И новые соблазнительные молитвы золотой кукле, уловленные от британских масонов и немецких протестантов, перекроили русскую душу на иноземный лад. Вернулся Петр I в столицу Москву уже душевно истерзанным и духовно чужим…
За тысячу лет до Петра Россия уже обладала уникальным огромным флотом, русские суда плавали по сотням рек, перевозя водою грузы, продлевали отечеству жизнь на сотни лет, копили русскую нацию… На просторы русской земли ежедень выходили в путь конные обозы, сотни тысяч саврасок (миллионы) выправляли свою службу, и тут же в помощь конной тяге выплывали в ледяной океан, реки и озера тысячи судов.
Первые новоманерные корабли, гукоры, клиперы и бриги, для царя Петра строили мезенские плотники на архангельских верфях купца Баженина; и экипажи из молодых парней, бывавших на зверобойке на Матке и Груманте, по приказу императора набирались на Мезени и Пинеге числом восемьсот матросов возрастом от восемнадцати лет до двадцати четырех. И Петр, предавший полярных старобрядцев за их вольный дух, за десятилетнее восстание на соловках, неслыханным глумлениям, не остерегся детей старообрядцев зачислять на флот и с ними одерживать первые победы на Балтике.
В середине XVIII века, когда наш коч идет на Грумант за моржом, новоманерных судов в Поморье было мало, да они и не требовались, ибо плавать до Скандинавии хватало лодей и кочей и палубных морских карбасов, пока в теплые моря нашу «посуду» не пускали», да поморы и не особенно рвались в гости к янычарам, грекам, испанцам и латинам. Британы, даны, шведы и норвеги пытались освоить Ледовитый океан с XIV века, но восточнее Шараповых Кошек не могли посунуться, несмотря на грозный вид своих пушечных кораблей, о которых поначалу мечтал Михайло Ломоносов и даже обзавидовался их изящной красотою, способностью ходить под любым ветром, но, увидев английский флот в деле, крепко разочаровался: «англичанка» до XIX века не могла миновать даже остров Вайгач, шпионила, вела интриги, засылала в поморье лазутчиков, два столетия шведские экспедиции кружили возле Новой Земли, вынюхивая проходы, мечтая проникнуть на Обь, а оттуда на Иртыш и в теплое Китайское море, искала вездесущих поморов проводниками в таинственные ароматные моря… Англия, пия соки из Индии, вдруг опомнилась, поогляделась вокруг себя и тут обнаружила, что у нее прямо изо рта русские варвары выхватывают жирный кусок, огромную Сибирь с лесами, реками и покорными племенами, готовыми быть рабами, так похожими на американских индейцев, и только надо было прорваться через ледяное «дышащее» море, которое уже плотно обсели русские и забирают богатые дары. Но выстроить путь на восток оказалось делом нелегким, и новоманерный флот, которым завоевали Америку, Индию и Африку, тут не годился…
Но Иоанн Грозный, почувствовав британский интерес к Сибирям, повелел срочно выстроить заслоны, таможни, остроги, слободы, крепости. Так появились Архангельск, Пустозерск, Мангазея, Обдорск, Тобольск. Протестантской Британии и лютеранской Германии путь был перекрыт. Европа облизнулась, но не успокоилась, стала наискивать новые дороги в сказочные земли, о которых шло столько перетолков по королевским дворам.
…Поморская республика оказалась под угрозой исчезновения: новгородские процентщики, уже подпавшие под «ересь жидовствующих», мечтали запродать великий русский Новгород немецким и польским «спекулаторам», чтобы обменять волю «на золотую куклу». Царь Петр Алексеевич, подыгрывая спесивой «англичанке», решил слиться с нею в объятиях и заменить веру православную на протестантскую, перелил колокола на пушки и обрядил свою знать в самые нелепые для севера одежды, обложил поморов тройной налогою, выставил по дорогам заставы, а особенно непокорных приказал кидать в огонь и воду: неистовый Петр осмелился не только лишить русских скифов природного обличья, но и истереть их вольный дух. Но поморское согласие не отдавало на новые страдания своего Иисуса Христа и, подражая учителю Аввакуму, сами взошло на костер, тем невольно призывая подняться на защиту русского бога, сея церковную смуту от Тобольска на Оби, в стремительно растущие новые сибирские города…
Да, поморскую республику предложили завистливые новгородские бояре лютеранам, забывши своего русского бога, наслали на Русь торговца Схарию с его «ересью жидовствующих»: хорошо, великий князь Иван III очнулся, когда обнаружил опасность, уже проникшую в Кремль и великокняжеский дворец, разгромил новгородское войско (кованые рати в десять тысяч воев) на реке Шелони и обложил богатых торговцев огромной данью, вывез в Москву десятки возов с золотою казною и выселил умышленников из Новгорода в другие земли, чтобы они откинули всякие мысли об измене московскому государю…
Внук его Иоанн Васильевич Грозный, увидев, как процентщики снова зашевелились, норовя отложиться от Москвы, повторил поход деда. Но духовная битва на том не закончилась; окаянная ересь уже глубоко проникла в московское боярство, ждущее нестерпимо, когда же можно скинуть с престола Грозного… и после долгих лет смуты сел на московский стол Петр I, и «ересь жидовствующих» принялась за свою окаянную работу, лишать русский народ национального обличья…
Переплелись книжная справа, новины патриарха Никона в православии, мятеж низов Степана Разина, Соловецкое восстание, которое не могла подавить Москва десять лет, ибо монахов монастыря поддерживали не только беглые казаки, но и сторонники древлеотеческого предания из Мезени, Выга, Тобольска. Петр менял сущность духовную русского человека, но народ воспротивился, почуяв опасность своему русскому богу, вздел на плечи невидимые духовные брони. Причины сопротивления были скрыты от православного простеца-человека, но выставили в услугу пошлый сюжетец, далекий от правды; дескать, великий Петр был суров порою и невоздержан, но это он выстроил на Руси флот и этим спас государство.
И все это ложь, умасленная шоколадом, от которого уже тошнит. Деяния Петра, истинные его намерения были так глубоко упрятаны «компрачикосами» от народного взгляда, от его искренних заблуждений и мечтаний, что в этом растерянном сомнамбулическом состоянии мы живем и поныне; и хотелось бы поверить в истинность изукрашенных подвигов императора, но сразу же подстерегают сомнения: сколько бы ни величили царя, но как зашпаклевать народное понимание о духовности Петра: «антихрист первый…» и хотелось бы скрыть это мнение от пересудов, да всем старообрядцам рот не зашьешь.
Отсюда, наверное, такая неприязнь Петра I к окраине русской земли, где никогда не замирал русский дух, выкованный ледяным Скифским океаном. И хочется Петруше «раскатать его по кочкам», но и жаль житницу государства, его богатую кладовую, полную мехов и серебра… Но очень старались блудливые масоны, прибывшие на запятках его кареты, чтобы на глазах всего русского народа в большой угол на тябле выставить образ Петра рядом с иконою Спасителя, которого он презирал и ненавидел.
Земли севернее Ярославля именовались на картах мира то Скифией, то Поморием, но это были земли русского народа, который жил возле Ледовитого океана издревле (а может быть, и всегда), пытался сохранить себя сначала под началом Ростова Великого, потом под Новгородом, но был сам себе на уме, не потворствуя и особенно не возражая: этот русский народ жил в Гиперборее под боком у Ледовитого океана, потому имел особую закалку и природное воспитание.
* * *
Поморские суда были легки в работе, не требовали многих капиталов, обходились дешево, строились за два-три месяца, получив разрешение у якутского губернатора. Кроме кочей, на которых была открыта и освоена вся великая Сибирь и Тихий океан, мезенские плотники ладили промысловые карбасы (самое древнее универсальное судно от небольших весельных, беспалубных, до трехмачтовых грузоподъемностью в 25 тонн; карбас легко всходил на волну и был устойчив, его не заливало волною; поморы не боялись пускаться на морском карбасе в самые дальние тяжкие пути сквозь льды на Грумант и Матку, в Карское море, на Обь, Енисей, Лену, Тихий океан, Северную Америку, Сахалин и Камчатку. Буквально половина мира была освоена за два века русскими поморами на кочах и карбасах; и вот царь Петр заявил, а ему поддакнули тысячи прислужников-очковтирателей, дескать, что у России никогда не было флота, а царь Петр его создал). Строили тогда на Мезени (и в Поморье) уже тысячу лет шняки, кочмары, зверобойные лодки, лодки-однодеревки, шкуны, яхты (гукоры, клиперы, кутеры, галиоты, гальяши), барки и баржи, боты и лодьи…
Лодья – палубное судно длиной до двадцати трех метров, две-три мачты, брала груза до трехсот тонн (восемнадцать тысяч пудов), с плоским килем, что позволяло входить в устья небольших речек, в заливы, виски, шары и курьи, на отливе оставаться на берегу, не боясь омелиться, и проводить зверобойку, строить стан. Шили лодьи от старины глубокой и до наших дней, пока парусные суда не отошли в прошлое. На лодьях доставляли грузы, ватаги морских охотников, вывозили промыслы с островов, вели торговлю со скандинавами, переправляли становые избы, рубленные в Мезени по заказу купца, амбары, бани и разволочные кушни на Матку и Грумант… Но для сборки лодьи уже просилось кузнечное железо: барошные скобы, кованые гвозди, крепления для мачт, якоря, цепи, что удорожало стройку, ибо на дальние реки Лену и Индигирку надежных путей еще не было и перевозка кованого «железа» на сибирские стапеля со множеством перегрузок с лошадей на кочи и баржи стоила больших сил и средств. Да и бурлаки, что таскали суда по волокам, нанимались тоже не задарма, не за красивые глазки тянулись мезенские казачата на край света, и они нуждались в оплате, каждая копейка для промышленника и торговца были на счету… Сегодня ты, христовенький, вроде бы богатыня, снаряжаешь корабли под царев наказ для поиска новых ясачных земель, строишь кочи и лодьи, а завтра одна экспедиция рухнула, другое судно разбил на море шторм, третью посудину вместе с командою забрали торосы… И такое случалось на веку на северах… Авторитет доброго промышленника подточен, капиталы на нуле. И не каждый стоящий умелец-покрутчик пойдет к тебе в ватагу, и не каждый мезенский плотник возьмется за топор строить новый коч… на Лене мезенские умельцы-груманланы в большой цене. И ты уже не кормилец, а бедняк, смотришь в чужую горсть, ибо последний грошик провалился в прорешку кафтана, и ты нынче – нищета, прошак с зобенькою по кусочки… Голь кабацкая… Начинай божьи труды сновья…
Пользовали лодьи (как мне думается) чаще всего для большой торговли, люди фартовые с купецким размахом, по разведанным путям возле «матеры», когда прибрежные воды освобождались ото льдов… не любящие идти в прогар, зря тратиться, с большим почтением к прибытку и серебряному рублю.