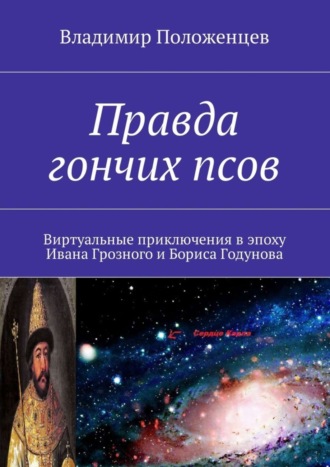
Владимир Положенцев
Правда гончих псов. Виртуальные приключения в эпоху Ивана Грозного и Бориса Годунова
© Владимир Положенцев, 2017
ISBN 978-5-4485-8743-6
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
По следу Гончего пса
«…Да будет только единая Россия. Ибо всякое разделенное царство запустеет»
Митрополит Московский и всея Руси Филипп. 1566 год.
Где-то на Волге
Лодка мягко коснулась песчаного берега, однако человек в потертой замше, сидевший на корме, выразил недовольство:
– Молю тя каждый раз, Бакуня, не шустри на реке, боюсь.
– Удивляюсь тебе, Григорий Лукьянович, вроде ничего не стремаешся, а от воды всегда дрожишь, как кот. Вот мне забавно, а еще чего пужаешься?
– Баб толстых, ночью придавить могут.
Вёсельник расхохотался, спрыгнул на землю, подтянул лодку.
– Ну малость потряс, боярин, так тьма кругом – глаз выколи, извини.
– У кого тьма в башке, у того не просветлеет, – проворчал Григорий Лукьянович.
Тоже поднялся, старясь удерживать равновесие на раскачивающемся струге, шагнул не землю. Ощупал толстыми пальцами в перстнях несколько неровно обстриженную бороду – нет ли вошек. Какой день по обозам стрелецким да избам крестьянским, наберешься зверья. Вроде нет. Удовлетворенно почесал пухлую бородавку на переносице.
К лодке уже бежали люди с факелами. Впереди – высокий сотник в зеленом кафтане из атласа с мушкетом и кривой крымской саблей за широким кушаком с кистями. Мыски его розовых сапог загибались кверху, как у татарина. Намасленные пшеничные волосы свисали до плеч из-под высокой красной шапки, отороченной соболем. Лицо ровное, гладкое, как у девицы. Красив черт, отметил Григорий Лукьянович, явно из полка Васьки Бухвостова, там все такие душевные.
– С приездом, боярин, – поклонился сотник и представился, – кромешник Федор Лопухин.
– Всё ли готово? – устало спросил Григорий Лукьянович.
Стрелец замялcя – не понял о чём интересуется боярин – то ли о тайной резиденции, которую почитай год взводили по его же, Скуратова приказу на неприметном волжском острове, то ли о вечерней трапезе. Ежели о резиденции, как называют жилище вельмож поляки и прочие немцы, то всё в лучшем виде. И хозяйский дом, и ночлежки служивых людишек – всё спрятано в холмах среди густых зарослей. Никто и не подумает. Стол тоже накрыт.
– Стерлядка копченая, белки жаренные, медовуха малиновая, водка анисовая, вино рейнское – всё тебя дожидается, – наугад сказал Лопухин.
В животе Малюты заурчало, сглотнул. Как вышел с войском из Полоцка, так в рот ничего приличного не попадало – хлеб да каша. И на том спасибо. Да уж, обобрали поместных дворян, развесили по деревьям попов, теперь и спрашивать не с кого.
– Не трапезничать сюда приехал, – хмуро ответил Григорий Лукьянович.
Он не любил своего прозвища – Малюта Скуратов. Скуратом звали и родича. А что о нём хорошего вспомнишь? Больно бил, ростом не наградил, денег и славы не оставил, самому пришлось на брюхе до вершины ползти. И дополз таки, Гришка Бельский. А Малютой его, то есть маленьким, первым Тимошка Полтев окрестил, что у царя в постельничьих бегал. И еще дразнился – «у тебя на все одна присказка – молю тя… Малюта ты есть». Добегался, Гриша ему хорошо отомстил. Еще когда в опричнине только пономарем значился, нашептал Ивану Васильевичу, будто Тимошка – плут на Марию Темрюковну глаз положил. Мария – еще та штучка, сама мужиков совращает, к себе в развратную избу таскает. Все знают и царь тоже. Но ревнует. И что? Заперли Тимоху вместе семейством и челядью голыми в избе, да бомбу пороховую внутри подорвали. Вот потеха была! Из окон, как куры общипанные вылетали, вперед задами, честному народу на потеху.
Повели по утоптанной дорожке между крепких, пахучих сосен. Мохнатые ветви кололи боярское лицо. Несмотря на осень было тихо и тепло. Тучи сползли с луны, по реке побежала серебристая дорожка.
Копченая стерлядь и прочие яства затмили разум, из головы даже выбило зачем приехал. Остановился.
– Князь-то здесь?
– Владимир Андреевич со вчерашнего дня тут.
– Ладно.
Вход в избу-землянку был низким даже для скудорослого Григория Лукьяновича, набил себе шишку да еще споткнулся о порог. Зато внутри было отменно – просторно и богато. По стенам – литовское, польское, шведское оружие, рыцарские доспехи, голландские гобелены, на резных французских столиках – подсвечники, чернильницы и прочие красивые бронзовые безделушки, в углу – венецианский шкаф с китайскими фарфоровыми статуэтками. Малюта даже захлопал глазами – не ожидал такого чуда. Он любил заграничные штучки, но не позволял себе иметь их в Москве, государь не одобрял. Славно потрудились ребята.
Челядь тут же добавила по углам сальных свечей, поставила на стол обещанных сотником жаренных белок, копченую рыбу. Пододвинул высокий норманнский стул, устало сел. Отмахнулся от холопа с кувшинами мыльнянки и ароматного уксуса – чего руки-то мыть, не пытал сегодня никого, не марался.
Не стал даже давать пробовать еду верному тиуну Бакуне, набросился на неё жадно, как пес. Удовлетворив первый голод, запил прямо из малого бочонка медовухой, затем опрокинул чарку анисовой. Смачно икнул.
Краем глаза заметил, как в землянку вошел князь Владимир Андреевич Старицкий. Но сразу не обернулся, пусть знает, что не он здесь главный. Подумаешь, двоюродный брат царя, внук Ивана III. А он – Малюта Скуратов, вся Русь дрожит при его имени. Однажды, в третьем году, он уже хорошо осадил князя. Тот тогда в очередной раз захотел занять место Ивана. Малюта заставил дьяка Савлука, посаженного Старицким за воровство в тюрьму, оговорить князя – мол предупредил полоцких воевод, о том что Грозный собирается осадить крепость. Иван Васильевич бросил братца в яму, но именно Григорий Лукьянович уговорил государя и митрополита Макария сменить гнев на милость – якобы по скудоумию князь свершил кознодейство. А когда Старицкого выпустили, сказал ему глядя прямо в глаза – помни мою доброту. Знал, что пригодится.
Раньше не время было напоминать, теперь оно настало.
Малюта не торопясь вытер рот и бороду, всё же встал, указал Владимиру Андреевичу на стул напротив. Князь был разодет, словно для церковного праздника: красный, вытканный серебром и золотом кафтан с воротником-козырем, горностаевая накидка, жемчужная корона на высокой шапке, именная сабля с перламутровой рукояткой в ножнах из марокканской кожи. Очи горят, готовые выпрыгнуть из глазниц.
Старицкий подозвал мальчика с мыльнянкой, омочил кончики пальцев, встряхнул ими несколько раз.
– Что ж, поговорим, – откинулся на спинку стула Малюта. Щелкнул пальцами:
– Пойдите прочь.
Изба тут же опустела от слуг. В дверях на время застыл сотник Лопухин, но и он выскочил наружу по кивку боярина.
Оба некоторое время смотрели друг на друга, будто пытались разглядеть подвох в глазах. Первым начал говорить Скуратов:
– Земство на твоей стороне, князь. И в опричнине теперь нет единства. Иван собирается просить у англицкой Елизаветы убежища.
– Братцу верить всё одно, что волку в лесу. Недаром на ваших опричных лошадей головы да хвосты волчьи понавесил. На твоем коне не замечал, брезгуешь? Тоже ведь душегубец.
– Как есть душегубец, – согласился Малюта. – Только давай не станем бодаться. На тебе ить тоже зла немало. И родную мать не пожалел, поступился, в монастырь отдал, лишь бы самому живота не лишиться.
– Матушка Ефросинья самолично решила в Горицкую обитель податься.
– Ну да, ну да, – ухмыльнулся Григорий Лукьянович. – Ладно, знаю, что это она тебя тогда на заговор подбила. Не на тех положился, князь, не на тех. Ивану, конечно, верить нельзя. В прошлом годе, когда только обосновался в Александровой слободе, уже отрекался. Кто обрадовался, тот головы и не снёс – Петрушка Головин, Димка Шеверёв, Никитка Ховрин, эх…
– Ты ж, поди, головы и рубил.
– А куда деваться? Я и рубил.
– Вот потому и интересуюсь – чем же тебе, сердечному, царь не угодил?
Князь с явной издевкой произнес слово «сердечному», налил анисовой, перекрестившись, выпил. Неловко получилось. Часть водки пролилась на меховую накидку. Отряхнулся, выпил ещё, на этот раз проворно, продолжил:
– Из захудалых дворян в первые заплечники тебя произвел, боярином пожаловал. А ты козни супротив него замышляешь.
Малюта тоже хлебнул вина, отер бороду рукавом.
– Рюрик княжество русское создал, а он его нещадно разрушает. На Новгород собирается. Пожечь хочет. Я ведь родом с Волхова.
– Не пойму. То к англицкой королеве, то на Новгород. Совсем Иван рассудка лишился. Или что-то темнит?
– Темнил Василий II, потому как слеп был. А у этого ум ясный, спорый. Недаром любит в шахматы играть. Выдвинет под удар слона и ждет что будет. Ты хвать его – и в западне. А я что знаю, то и сказываю. Думаешь, ежели я главный опричник, он мне каждый день, будто попу исповедуется? Ха. Я для него такой же холоп, как и все. Да-а… Тебя и новгородцы хотят государем видеть. Стонут от Ивана. Все Российское царство стонет. Так-то.
– Знаю, все знаю! – обхватил вдруг голову Владимир Андреевич. – Новгород с отчаяния готов и польскому королю поклониться. Этот кровопийца не успокоится, пока всех в могилу не сведет. Собрать бы доброе войско! А что Курбский, ты с ним виделся?
– Встречался. Андрей хитер. Возле Полоцка крутится, а дальше не идет. Король Сигизмунд большую армию ему не дает. Хоть и привечает, да побаивается. Вдруг он лазутчик Иванов и против него шляхту повернет.
– Так что Курбский-то говорит?
Малюта встал, подошел к рыцарским доспехам, вынул из стойки длинный стальной меч. Он оказался такого же размера, что и Скуратов. Легко им взмахнул, сделал выпад в сторону князя. Расхохотался, глядя на испуг Владимира Андреевича. Вдруг отбросил старинный клинок в сторону. Тот с грохотом ударился о ливонский панцирь, прибитый к стене, вместе с ним упал на пол. В дверь просунул голову Лопухин. Рядом замелькала рыжая шевелюра Бакуни. Малюта показал им кулак и дверь тут же захлопнулась.
– Предатель он и есть предатель, – наконец сказал Малюта. – На Курбского нельзя полагаться. И что от него сейчас толку? Ну, приведет он польское войско, многие бояре сами ему кремлевские ворота откроют. Ну, станет Сигизмунд королем московским. Иван теперь не устоит. Думаешь, о тебе вспомнят? Хотя нет, вспомнят, первому голову снесут. Весь род Рюриковичей изничтожат. То мечта ляхов. А без Рюриков не было Руси и не будет.
Князь внимательно взглянул на Малюту. Верить в его искренность или нет? Все же однажды Скуратов его голову спас, да и выхода другого нет, приходится верить.
– Что же предлагаешь, Григорий Лукьянович? – тихо спросил он.
– Самим извести царя и немедля. Ты вот что, князь. Езжай в Александрову слободу и… донеси на себя. Упади в ноги Ивану – мол, поддался уговору земских бояр убить тебя, государь, вступил в сговор. Сдай хотя бы вон окольничего Ваську Чёрного-Копытина с людишками, от него все одно проку нет. Скажи, он главный проходимец и есть.
– Зачем?
– Получишь расположение царя. Он же тебя в Романов сбагрил, а так рядом с ним, в Слободе побудешь. Его повар Малява жадный, как бес, за полушку змею оближет. А уж за 50 рублев…
– При чем здесь повар?
Малюта оторвал бок стерляди, жирными пальцами отправил его в рот. Рыбья густая слизь стала падать с бороды на кафтан, вытирал его рукавом. Ел аппетитно, с причмокиванием, как будто не деловой разговор был между ним и князем, а дружеская посиделка.
В очередной раз насытившись, рыгнул, запил малиновым медом.
– Бакуня! – позвал он.
В тот же миг перед столом вырос верный слуга, такой же огненно рыжий, как и его хозяин.
– Тащи сюда подарочек Курбского, – приказал Скуратов.
Бакуня исчез и довольно скоро вернулся. В руках он держал маленькую серебряную коробочку.
– Уйди.
Когда тиун пропал, Малюта положил коробицу перед князем.
– Передашь это повару.
Владимир Андреевич сощурился. Он был далеко не глуп, сразу понял что внутри. Скуратов уловил его мысли, кивнул:
– Венецианский яд. Им в свое время всех местных дожей перетравили. Действует не сразу, через седмицу, но наверняка.
– Что же сам не передашь?
– Малява на меня зуб имеет, я его супружницу иногда тискаю. Хороша баба, дураку досталась. Может со злости и донести.
– Боязно, Григорий Лукьянович.
– Ну тогда и сиди в своем Романове дурак дураком! – вспылил Скуратов. – А когда Ивашку изведем без тебя, ни на что не рассчитывай.
– Сам что ли царем станешь?
– Молю тя… Куда нам, – осклабился Скуратов. – Выдам, к примеру, свою среднюю Марию или Катьку младшую за Димку Шуйского. Шуйские ведь тоже Рюриковичи.
– Все просчитал.
– А то! Без этого нельзя. Так согласен что ли?
В земляной избе повисла тишина. Только щелкали жиром толстые свечи, да скреблись за дубовыми стенами мыши.
– А ежели смута начнется? – сокрушенно помотал головой Старицкий.
– Непременно начнется, – потер в предвкушении руки Малюта. – Даже хорошо что начнется. Тут-то нам Андрюшка Курбский и пригодится. Придет с польским отрядом и утихомирит народец. Стрельцов подкупим. Многие из них и сами хотят, как за границей. Взойдешь на престол, словно по облаку небесному. Женишь своего Василия на одной из моих дочерей. Породнимся, Владимир Андреевич! Или брезгуешь с опричником, гончим псом связываться? Смотри, – вдруг зло зыркнул он на князя, – не прогадай.
На лице князя заиграла кривая улыбка. Под глазами натянулись морщинки.
– А не боишься прогадать сам, Гриша? Вот сяду на трон и первым делом велю сварить тебя в кипятке на Торговой площади.
– Не боюсь, Владимир Андреевич, не боюсь. Любому самодержцу мой талант понадобится.
– Палача?
– Ага. Кровь – любимая пища царей.
– Ладно! – ударил по столу красными он напряжения ладонями Старицкий. – Или пропадать или… Согласен! И все же неплохо, ежели бы Сигизмунд в ближайшее время войско хотя б на Тверь или Клин двинул, братца пощекотал. Дался ему этот Полоцк.
– Ливонская война теперь скоро не закончится. Об том еще поговорим, Владимир Андреевич. Коробицу-то не забудь.
На том встреча и закончилась. Выпив еще пару чарок анисовой, Малюта завалился спать, а чуть свет верный Бакуня оттолкнул лодку от острова.
Тем же днем боярин вновь присоединился к своему войску, которое по приказу царя ходило к Полоцку «отгонять проклятого Андрюшку Курбского». Позвал Бакуню. Взял за шиворот, дыхнул тяжелым ртом, сунул под нос сложенную вчетверо бумагу:
– Скачи наперед меня в Москву. Передашь сей донос думному дьяку Разбойного приказа Тимофею Никитину. Молю тя, чтоб ни одна душа… иначе твою выну.
– Обижаешь, Григорий Лукьянович, когда я тебя срамил?
– Ну, смотри, дворянский сын, – ласково, но больно потрепал Скуратов его рыжий чуб.
В письме, неровным, еле разборчивым почерком малограмотного Малюты было написано: «Сим сообщаю, что царский повар Малява вскоре получит от князя Владимира Старицкого ядовитое зелье для умерщвления государя Ивана Васильевича. Под пытками проказники укажут на боярина Григория Скуратова-Бельского, чему верить не потребно».
Глядя вслед Бакуни, Малюта удовлетворенно почесал бородавку на переносице: весь род Старицких выведу под корень, умоются кровью. Теперь Иван князю не спустит. А потом и за самого государя примемся. Мешаются под ногами Григорию Лукьяновичу Рюрики проклятые… Звезда Бельских скоро взойдет. Бояр только подлых прежде пощипать основательно надобно, в этом Иван мне пока союзник.
А князь Владимир Андреевич Старицкий был препровожден через длинный подземный ход на противоположный берег Волги, где быстрые кони домчали его до Романова. Пошутил над ним Иван Васильевич. Пару лет назад приказал переселять в город татар. Как хочешь так и разбирайся теперь с нехристями.
Через день, поздним листопадным сентябрем, княжеский обоз выдвинулся в Александрову слободу.
В Слободе
Колокол собора Пресвятой Богородицы ударил тяжело и протяжно. С черного купала ссыпался первый, ненадежный снег. С крепостных стен Александровой слободы – новой резиденции царя, вспорхнули галки и вороны. Государь истово молился в подклете храма. Громко подьячий Оська бил именно для него, чтобы слышен был звон в тесном, сыром подполе, пахнущем мышами и могилой.
Иван стоял на коленях перед иконой Божьей матери. По правую руку к стене была прикреплена плащаница – Старица из мастерской-светлицы отравленной жены Анастасии. Вся Москва тогда по ней горевала, за гробом в слезах шла. Иван был уверен, что её извели бояре, ненавидевшие простолюдный род Захарьиных. Кто именно подлил нежной и добродетельной Настасьюшке ртути, так и не дознался, хоть и изломал на дыбе немало народа. Извивались над углями Сильвестр с Адашевым, Трубецкие да Глинские, но на Андрюшку Курбского не указали. Но Иван знал – его рука. Шесть зим прошло, а забыть не в силах. И не Богородица теперь перед ним, а Анастасия.
– Прости, любезная, – шептал Иван, – что не уберег. Всю жизнь мстить за тебя буду. Дочь Темрюка душу не греет. Дика больно. Она ить избранный отряд создать насоветовала. Теперь сам боюсь своих опричников. Того и гляди на пики поднимут. Устал, нет мочи более.
Вытер рот рукой, сел перед иконой по-турецки, подпалил еще одну свечу. Дышать в тесной норе было тяжело, но он, обливаясь потом, терпел. Вдруг зло улыбнулся:
– Бояре надеются, к Елизавете сбегу, а они тут от радости плясать станут. Во! – показал он кукиш. – Не дождутся! О Руси думаю, не о себе. Пропаду и государство пропадет. Кто править будет? Сын Иван? Глуп слишком. Однажды предлагал, дума не согласилась. Двоюрник Владимир? Так он мозгляк, ничтожество, тут же Москву полякам сдаст. И прощай православная Русь, к церквям католические кресты приделают. Земские бояре князя поддержат, а опричники нет. Грызня начнется, смута. Володька в ней первым и сгинет. А-а… Захарьины из щелей повылезают. Как же – дочь их Анастасия с царем обвенчана была. А вот им, – царь опять сделал кукиш, – захудалый род, только при мне и поднялся, а теперь опять в язвине. Нет, не дождетесь!
Иван уже забыл, что разговаривал с Анастасией. Его всего трясло, на уголках рта появилась пена. Пнул ногой свечи под образом, оказался в кромешной темноте. Ударил кулаком в потолок:
– Отворяй, бездельник!
Люк в подклеть тут же распахнулся, в него просунул голову стряпчий Василий Губов:
– А чего темень-то?
– Тебя не спросили. Руку дай, дурень.
Выбравшись из подвала, царь снял скуфейку, оббил ее о плечо Губова.
– Думный дьяк Тимофей Никитин к тебе просится, – сказал стряпчий, отряхивая монашескую накидку царя. – Всю ночь, говорит, скакал не жалея коня.
Государь оттолкнул Василия, вытер скуфьей лицо, бросил на пол.
– Чего ему надобно?
– Не знаю, – развел руками Губов. – Тебя желает видеть по неотложному делу.
– Помолиться спокойно не дают, – проворчал царь. – Ладно, вздремну немного, потом приведешь.
– По неотложному! – поднял палец вверх стряпчий.
Царь сплюнул, вспомнив что в храме, перекрестился.
– Никакого покоя мне грешному. А ежели сбегу от вас к англицкой Елизавете, что будете делать, и там достанете?
– Не покидай, государь, пропадем.
– То-то. Бес с тобой, веди Тимошку. Но ежели дело пустое, обоих велю комарам в лесу скормить. Али в пруду слободском утопить.
– Там и так ужо рыбы на покойниках от жира лопаются.
– Пшёл! Ишь, осмелел, выхлест сучий.
Губов скоро поклонился, убежал. К государю вышли чернецы из-за алтаря. Иерей Евлогий нес серебряную тарелку с пресными просфорами для помина и причастия.
Иван покривился, полоснул злым глазом. Монахи тут же скрылись.
Колокол бил по голове, словно молотом.
– Звонаря уймите, разошелся! – крикнул он им вдогонку.
Поднявшись в тесные покои собора, государь, скинул черную накидку, выпил анисовой водки, погрыз яблоко. Улегся на топчан. Что это думного дьяка угораздило сюда ночью мчаться? Неужто опять бояре в Москве какое беззаконие учинили? А ведь ноги целовали – только останься. Сам архиепископ Пимен упрашивал. У-у поганое племя! Никому верить нельзя. Того и гляди отравят.
Царь поглядел на обгрызенное яблоко, поморщился, швырнул в беленую стенку. Оно разлетелось вдребезги о низкий свод настоятельской кельи.
И Филиппа по доброте душевной митрополитом сделал. «Да не будет опричнины, да будет только единая Россия. Ибо всякое разделенное царство запустеет». Тьфу! А я за что борюсь? Об чем и речь, надобно всех недовольных бузотеров в бараний рог свернуть, как вошек повывести, тогда не будет и разделения. За этим Филиппом глаз да глаз, первый мышьяка подсыпет.
Колокол смолк, повисла тишина. Мысли от водки постепенно успокоились. Кажется, даже задремал, когда в келью вломился стряпчий Василий. От хлопнувшей окованной двери Иван открыл глаза. Лицо Губова было перекошено, глаза вытаращены. Государь даже испугался, сел на топчане.
– Ну, где Тимошка? – подозрительно спросил он.
– Нету Тимошки, государь.
– Как так? Шутки шутишь?
– Помер думный дьяк Никитин.
– В своем уме, он что мертвый сюда приехал?
– Приехал-то живой, знамо, а тут и помер. Кинжалом зарезался. Тем, что ему в прошлую зиму посланник сибирского хана подарил. Такой, с костяной ручкой из древнего зверя. Баловался на столовом дворе и случайно напоролся.
Царь встал, схватил стряпчего за грудки. На камзоле Губова затрещали швы, отлетела одна застежка.
– Рядом людишки были, видели?
– Бориска Годунов.
– Кто таков?
– Сын вяземского помещика Федора Кривого. Парня сюда его дядя, жилец Дмитрий Годунов привел. Бориска на конюшне помогает. Говорит, кинжал из груди дьяка вынул, а уж из того дух вон. Весь в кровище измазался.
– Допросить и Бориску, и Дмитрия. Нет, я сам. В клеть пока. Тимошку обыскали, может при нем чего было? Зачем-то ведь прискакал.
– Лично осмотрел, государь. Ничего нет кроме мушкета, трех копеек, да мешочка с солью.
– Всё?
– Ну-у…, – помялся Губов, – за щекой золотой дукат угорский.
– Не об том, дурень.
– Более ничего.
– Зачем же он приезжал? Смута? Стрельцы замоскворецкие взроптали? Думные бояре, прознав что собираюсь Елизавете письмо писать, братца двоюродного на престол готовят? А Ивана мого и в расчет не берут.
– Так он тут.
– Кто? – выпучил глаза еще сильнее царь, так и не выпуская стряпчего.
– Князь Старицкий. Ворота за ним только успели закрыть. Со свитой пожаловал.
– Ему чего надобно, а?
Поняв, что Губов не ответит на этот вопрос, отпихнул того к двери. Но дверь уже открывалась. В келью, согнувшись чуть ли не пополам, вошел князь Владимир Андреевич Старицкий. Был он при параде – в дорогой золоченой накидке, высокой шапке с жемчугом. Затхлую келью наполнил аромат заморских благовоний. Кланяться не стал, приложил руку к сердцу. Стряпчий, не дожидаясь приказа, неслышно выскользнул из покоев.
– Не ожидал, – первым заговорил Иван. – Водки хочешь?
– Хочу.
– С чем пожаловал, за матушку просить станешь? Так, сказывают, ей хорошо в монастыре.
Князь сам налил себе водки.
– А ежели просто проведать решил, нельзя?
Царь ухмыльнулся, тоже выпил.
– Смотрю на тебя, Иван, и удивляюсь, – сказал Старицкий, – рубишь со своими опричниками головы направо и налево, а врагов у тебя меньше не становится. Может, и вправду тебе лучше к Елизавете податься?
– А-а, – повеселел государь, – решил прямо здесь от меня шапку Мономаха получить. Что ж, я не против. Отказную грамоту теперь и напишу в твою пользу. Завтра князь Мстиславский в Слободе обещался быть. Он от земства бумагу печатью и скрепит. И Собор созывать не придется. А сам сей же седмицей в Англию отбуду. Надеюсь, королева и без уведомления примет.
Хлопнул в ладоши. Когда появился Губов, велел:
– Тащи перо, чернила и бумагу.
Но князь вытолкал стряпчего вон.
– Не время комедию ломать, братец.
Положил на стол маленькую серебряную коробочку.
– Что это? – нагнулся к ней царь.
– Яд для тебя, государь. Византийский. Я его должен передать твоему повару Маляве. А надоумил меня в том твой верный гончий пес Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский.
На Александрову крепость вновь обрушился снегопад. На этот раз настоящий, зимний. Поднялся сильный ветер. Он носил над Слободой тучи из белых хлопьев и желтых листьев. В высокое окно кельи, где сидели Рюриковичи, ударилась заполошная ворона и с диким карканьем унеслась прочь.







