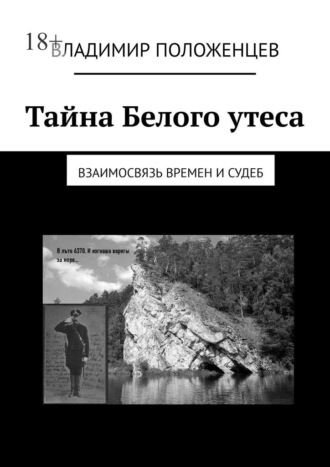
Владимир Положенцев
Тайна Белого утеса. Взаимосвязь времен и судеб
Апрель 1918, Западная Сибирь, Зауральский уезд
© Владимир Положенцев, 2022
ISBN 978-5-0056-8167-6
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
В «Дерюге»
Участковый следователь окружного суда Алексей Алексеевич Блудов выпил сладкого чаю, взглянул на золотой хронометр. Начало десятого. Приоткрыл занавеску на окошке. Над дорогой висел густой клокастый туман, даже домов напротив не видно. По оконному стеклу стекали капли мороси.
Несмотря на хмарь, надо бы идти на железнодорожную станцию, проверить телеграф: что там творится в Петербурге. Название «Петроград» Алексей Алексеевич не признавал, так как оно было связано с пугающими событиями последних лет.
Кто там, на Неве, сейчас у власти – большевики, разогнавшие временщиков, подписавшие мир с немцами, или их самих уже вышибли генералы, что перед этим скинули царя? Смута, что может быть страшнее в России. Говорят, и в Москве стреляют да еще из пушек по Кремлю, палят и в Самаре, и в Ростове… Только здесь, в медвежьем углу, еще спокойно. Бог миловал захолустный, зауральский уезд. Всё тут, как и прежде: в милой сердцу тишине и полусонной дремоте. Разве что людишек в уезде стало меньше: многие мужики ушли на войну, в которую по дурости влез Николай и сгинули.
Окружной суд располагался в посёлке Светлый, что вместе с еще четырьмя поселками и тремя деревнями входил в крупную казачью станицу Подкаменскую. Светлый выбрали в середине прошлого века под окружное правосудие, потому что он был самым большим и густонаселенным из местных поселков, имел удобное расположение среди судоходных рек. А, главное, через него проходила железная дорога -Транссиб и в Светлом была железнодорожная станция с почтой и телеграфом. Она так и называлась – Светлая.
Разбежались после Октября из окружного суда и судьи, и их помощники. Остался только судебный секретарь Илья Панкратович Шубейкин, он же делопроизводитель – сухонький человек преклонных лет, с клинообразной черной бородкой, треснувшими очками с мощной диоптрией и непременной папиросой во рту, с которой, казалось, он не расстается и во сне. Как и Алексей Алексеевич он был убежден: раз приказа от начальства «закрывать лавочку и расходиться» нет, значит надо продолжать свое дело. А какая она власть – та или эта, не имеет значения. Но была и еще одна причина, удерживающая следователя Блудова и секретаря Шубейкина на месте: им просто некуда было идти. У обоих не было семей. У Шубейкина от горячки еще до войны умерла жена, так и не родившая детей, а Блудов, в 35 лет еще не нашел свою вторую половину. Не убежали, куда глаза глядят и двое уездных полицейских: околоточный надзиратель Валерьян Лукич Хомутов и его помощник фельдфебель Архип Демьянович Журкин. Его фамилию часто сознательно или нет, переиначивали в Жмуркина, на что он очень обижался и даже по своей горячности мог дать « в рыло». Всем им исправно выдавал «положенное жалованье» секретарь Шубейкин. Причем не керенками, а настоящими золотыми червонцами, что в достаточном количестве хранились в швейцарском сейфе подвального помещения суда.
Блудов уже собирался выходить, сделав напоследок большой глоток чая, как спотыкаясь о порог, без стука, в кабинет вломился фельдфебель Журкин. Его глаза горели и блуждали как у сумасшедшего.
– Целовальника Бубного убили! – выпалил он.
– Почему убили? – задал вопрос следователь и, поняв его нелепость, сам себе поморщился. – Так. Хорошо. То есть, плохо. Где околоточный надзиратель?
– Запил Хомутов, – виновато ответил Журкин, будто это он уже с утра принял хлебного вина.
– Скверно. То есть, ладно. Где труп?
– Да где ж ему быть, в трактире. В подсобке у бочек с огурцами лежит. Его мальчишка-половой нашел. Голова кабатчика аж на две части, как яйцо крутое расколото. И кровищи, словно помидоры ногами давили.
– Вы что же, уже были на месте преступления?
– Мальчишка в участок прибежал, рассказал.
– Красочно изложил, сочинителем будет. Идемте.
– Пара ждет под окном. Ямщика, что почту из уезда привозит, реквизировал, как теперь говорят.
– Мобилизовал говорят, – поправил Бубнов и в очередной раз выглянул на улицу. У крыльца действительно нетерпеливо топталась пара тяжеловозов с мохнатыми «носками» над копытами.
Когда садились в крытую повозку под недовольный взгляд почтовика, фельдфебель сказал:
– Мальчишка утверждает, что накануне между целовальником и неким торговцем Серафимом Любезновым, что поставляет в трактир вино и пиво, случился скандал, чуть дело до драки не дошло. В хлам разругались. Чуете, куда я клоню?
– Чую, Архип Демьянович.
Фельдфебель улыбнулся, отвернувшись в сторону. Он обожал, когда «их благородия» называли его по имени отчеству. Кровь отца – бывшего крепостного помещика Розанова, постоянно напоминала о себе. На войну Журкина не забрали, как и еще нескольких уездных полицейских и жандармов, кому-то же надо было поддерживать порядок. Журкина даже повысили – перевели из городового низшего оклада сразу в помощники околоточного надзирателя и он с гордостью носил на погонах вместо узкой лычки, широкую золотистую полоску. Освободили от фронта и «малую армию», как они сами говорили, сплавщиков и золотодобытчиков. Теперь они без дела «ошивались», по словам делопроизводителя Шубейкина, в уезде и были завсегдатаями трактира Бубнова. Судебный секретарь был частично прав: пироксилиновый завод, куда в основном гнали древесину сплавщики, остановился и они остались без работы, а вот «золотые люди» не покладая рук трудились на приисках, в надежде набить себе карманы и уйти «за кордон».
– Трогай, голубчик, – велел почтовому служащему следователь. Мужик поморщился, натянул поводья. Тяжеловесная пара потянула повозку к трактиру «Дерюга». Название Бубнов объяснял тем, что по аналогии с грубой, простой тканью, его кабак – «место отдохновения» простого народа.
У крыльца трактира, в тумане как в парной, стояли жена целовальника Ольга Ильинична и белобрысый паренек лет 12-ти. Поодаль топтались любопытные, грызли семечки, шептали что-то друг другу на ухо.
Ольга была женщиной худой, на вид чахоточной, пергаментная кожа обтягивала ее длинное, узкое лицо, словно сосульку. Говорила она тихо, чуть ли не шепотом, при этом всегда прятала в землю бесцветные, водянистые глаза. Люди считали ее тихоней. Однако кто знал Ольгу ближе, уверяли, что дома, над мужем она настоящая «прокуда». Держит его в ежовых рукавицах и ежели что не по ней, даже может и побить. Все это звучало нелепо – как может иметь власть эта чахоточная «сосулька» над крепким, широким в плечах, с «железным» бычьим лбом Никодимом Савельевичем, да еще колотить его. Ольга торговала в семейном магазинчике, что сзади примыкал к трактиру. Там же на втором этаже находились квартиры Бубновых.
Следователь кивнул на вихрастого мальчугана:
– Он?
– Ермилка, ваше благородие, – ответил фельдфебель. – Работал у Бубного еще один шустрый паренек, да он его выгнал, сказывал, приворовывать начал. А это супруга Никодима Савельевича, Ольга Ильинична.
Когда вылезали из повозки, почтовик протянул мозолистую ладонь, мол, и заплатить бы за извоз неплохо. Но фельдфебель состроил такую страшную физиономию, так недвусмысленно сжал рукоять шашки, что тот предпочел быстрее убраться по добру по здорову.
Лошади резво тронулись с места, обдав форменные темно-зеленного сукна брюки Блудова грязью. Алексей Алексеевич неспешно отряхнулся, слегка поклонился Ольге. Бубнова кивнула в ответ, не поднимая глаз.
– Ты что ли Ермилка? – обратился следователь к мальчишке.
– Ермил Афанасьевич, – поправил тот Блудова с достоинством.
– Извините, сударь. Хотел бы с вами переговорить с глазу на глаз.
– Идемте, сударь. – Ермилка указал рукой на дверь, приглашая войти, будто это он был хозяин кабака.
– Архип Демьянович, голубчик, – обратился Блудов к фельдфебелю, – возьмите пару людишек в свидетели, из грамотных, и опишите место преступления, я пока побеседую с… Ермилом Афанасьевичем и подойду.
– Слушаюсь, ваше благородие.
В трактире стоял запах кислой капусты и мышей. А так же почему-то пахло лампадой, словно здесь уже побывал поп.
Сели за стол под образом Николая Чудотворца. Набожный кабатчик развесил лики святых по всем стенам, как в церкви. Только это были не иконы, а вырезанные из журналов изображения блаженных и благочестивых праведников. В кабак нередко наведывался настоятель местного храма Всех святых отец Еремей, тряс пегой, клокастой бородой, возмущался: « Ты что тут устроил, нечестивец? Людям предписано в церквах святым поклоняться, а не в злачном, порочном месте». «Бог всегда должен быть в сердце человеческом», – парировал Бубнов и подносил священнику чарку. Тот, осенив себя крестным знамением, отвернувшись от журнальных вырезок, принимал крепкое хлебное вино.
– Ну, рассказывайте, Ермил Афанасьевич, что вчера здесь произошло между целовальником Бубновым и торговцем Любезновым. Так как вы уже взрослый человек, должен вас предупредить, что вы несете полную ответственность перед законом за сказанные вами слова.
Ермилка ответил, что готов крест целовать на том, что скажет и поведал следователю следующее…
Намедни
– Ну и прохвост же ты, Серафим, – вздыхал целовальник Никодим Савельевич Бубнов, тщательно вытирая вышитым петухами рушником фужоры, просматривая их на свет. Слова адресовались торговцу Серафиму Любезному, высокому парню лет 25-ти, с длинными как у студентов прошлого века волосами. Он поставлял трактирщику вино и пиво. Любезнов только что поднялся по лестнице из подсобки трактира, куда по стропилам закатил несколько бочонков с «зельем».
– Как тебе только не совестно такую дрянь мне приволакивать, а еще Серафимус, огненный ангел, – продолжал укорять торговца Бубнов. – Тьфу!
– Напрасно вы меня ругаете, Никодим Савельевич, – ответил парень. – Вы же знаете, какое нынче время: мужики на войне, одни «золотые люди» да бездельники сплавщики в уезде остались. Теперь бабы зелье из браги варят. А из чего брага? Из всякой дряни: гнилая картошка и прелая бушма. Да и руки бабьи под это дело не приспособлены. Вот и результат.
– А мне без разницы кто и из чего гонит. – Кабатчик перешел к протирке фарфоровых тарелок. Он их так же поворачивал к свету, будто они просвечивались насквозь, как и фужоры. – Я ведь крест целовал, что буду честен к людям, не буду травить их всякой пакостью, потому и зовусь целовальником. И ты дело свое честно исполняй, тогда и к тебе будут относиться по-честному.
– Ежели зелье не нравится, тогда зачем принимаете?
– А чем мне поить «золотых людишек»? Они же кажный день тута, как токмо закат чуть забрезжит. И сплавщики от них не отстают. Откажешь им в выпивке, костей не соберешь. Вот и беспокоюсь, что за такое пойло они мне и дом, и кабак спалят. Эх, Серафимушка, на грех людей толкаешь, а меня на погибель. Придется тебя наказать.
Мелкие, острые глаза «студента»» провалились глубоко внутрь серых глазниц.
– Это как же?
– Рублем, мой дорогой, рубчиком. А как же ты думал. Словом, ныне за свой товар получишь токмо половину.
– Да как же, Никодим Савельевич? Мне же с людьми рассчитаться надо.
– А вот как хошь, так и рассчитывайся. Хоть порты последние продавай, мне без разницы. Ха-ха, токмо никто их у тебя не купит, больно страшные. И вшивые, поди.
Парень зашелся «чахоточным кашлем». Из-за чахотки и на фронт его не взяли. На самом деле, никакой легочной болезни у него не было. Чахоткой страдал его отец, мелкий уездный чиновник, который купил на последние деньги свидетельство о недуге сына, чтобы тот остался при нем для присмотра, да и помер. Серафим так поверил в свою хворь, что при сильном волнении начинал «зело кашлять».
Целовальник выложил на стол несколько бумажных купюр и горсть монет.
– С тебя и этого много. Проваливай.
Лицо торговца залила сиреневая краска.
– Видит бог и мальчонка тому свидетель, – сказал Серафим, кивнув на полового Ермилку, что тер пол рогожей. – На преступление вы меня толкаете, а не я «золотых людишек», Никодим Савельевич. На преступление самоубийственное. Мне теперь нет другого пути.
– А ты в Петроград сбеги, тама полно таких прощелыг как ты, которые законное правительство скинули. Среди них своим будешь. Ха-ха.
– Любезновы никогда ни от кого не бегали.
– Надоел, пошел вон.
Целовальник собирался приняться за графин, но тут в его лицо полетели монеты, что он выложил Серафиму. Бубнов схватился за нож, уже сделал было выпад, однако передумал, швырнул разделочный тесак в угол, который тут же подобрал перепуганный Ермилка. Мальчик, прижав нож к груди, забился под стол.
– Я тебе отвечу, – зло произнес кабатчик. – И отвечу так, что черти удивятся.
– Мне твои угрозы, – перешел на «ты» Серафим, – что карасю дождь. Смотри, как бы сам с чертями первым не свиделся.
Бубнов все же не сдержался, запустил в парня глиняную кружку, которая ударившись о край двери в погреб, разлетелась на мелкие осколки. Один из них попал в глаз Любезнову. Он прикрыл его рукой, скорым шагом направился к выходу, не взяв бубновских денег.
***********
– Ни копейки так и не принял? – переспросил следователь полового.
– Нет, я точно видел, – ответил Ермилка. – Выскочил из трактира и дверью так хлопнул, что дохлые мухи с потолка посыпались.
– Значит, Серафим сказал Бубнову, что тот его толкает на преступление?
– Да, на самоубийственное.
– Самоубийственное, – задумчиво повторил Блудов, теребя подбородок. – Вы, сударь, во сколько пришли в трактир?
– Как обычно, в восьмом часу.
– И?
– Передняя дверь была заперта, что меня удивило. В это время хозяин всегда на месте, его дом позади трактира, через забор.
– Ну-ну.
– Не подгоняйте, пожалуйста, сударь, а то я сбиваюсь.
– Извините, сударь.
– Так вот. Передняя дверь… Ну да, я уже про это сказал. Тогда я обошел «Дерюгу», смотрю задняя дверь, что ведет в подсобку, приоткрыта. Там лестницы нет, как в зале.
– Понятно.
– Окликнул хозяина, а никто не отвечает. Прошел внутрь и гляжу, он распластанный лежит возле бочек, а голова пополам расколота как арбуз. И кровищей пол залит.
– Или как вареное яйцо, так ведь вы фельдфебелю рассказали.
– Так. Но какое это имеет значение?
– Вы не видели рядом с трупом… рядом с целовальником орудия убийства? Топора там или тесака.
– Нет, ничего такого не было. Я сразу побежал в участок, где всё и рассказал помощнику околоточного надзирателя.
– Ну а возле трактира или где еще не встречали кого незнакомого, может что-то необычное заметили?
– Незнакомых не видел, а необычное… Да нет. Только двуколка лакированная с черной лошадью за амбаром купца Дягилева, что в прошлом году спьяну в реке утоп, стояла.
– Пустая?
– Не помню, говорю же, я сразу помчался в участок и рассказал об убийстве вашему фельдфебелю.
Помощник надзирателя Журкин появился как нежить после упоминания о нем. Крупное лицо его было красным, напряженным, усы торчали, словно у моржа, шею он тер носовым платком, но воротника кителя не расстегивал, соблюдал уставную форму. Видно, на фельдфебеля произвела сильное впечатление картина убийства. «Череп расколот как арбуз». Под мышкой Журкин держал тетрадь в кожаной обложке.
– Место преступления подробно описал, – доложил он следователю. -Изволите сами взглянуть?
– Разумеется. Супруге убитого показали место преступления?
– Держится как гвоздь железный в стене, ни единой эмоции.
– Интересное сравнение.
– А с виду немощь зеленая. Вот и разбери сходу этих баб.
– Значит, Ольга Ильинична не подвержена истерике.
– Ни единым манером.
– Хорошо. Надо бы разыскать этого Серафима Любезнова.
– Да сбежал, поди. Не дурак ведь.
– Думаете, он целовальника к архангелам отправил?
– А кто же еще, все свидетельства против него.
– Все? Ну да, конечно.
Дверь в трактир распахнулась настежь. Фельдфебель округлил от удивления глаза. В зал ввалился находящийся « в запое» околоточный надзиратель Валерьян Лукич Хомутов. За шиворот он тащил какого-то волосатого парня.
– Это он! – воскликнул мальчишка. -Серафим Любезнов, что с хозяином намедни ругался.
– Как вы его нашли, Валерьян Лукич? – спокойно спросил следователь, казалось, ничуть не удивившись его появлению.
Хомутов рывком усадил торговца на скамью.
– Прихожу в часть, а там никого кроме секретаря. Шубейкин и рассказал, что Бубнова убили, а вы в «Дерюгу» поехали на почтовике. Собирался уже в трактир бежать, а тут заявляется этот тип, говорит, что не убивал кабатчика, о чем уже все в округе судачат.
– Все уже судачат, значит, – Блудов покачал головой, будто удивляясь этой новости, хотя понимал, что иначе в глуши и быть не может. Махнет комар крылом, а все слышат.
Следователь поблагодарил Ермилку, попросил его никуда не исчезать, сидеть дома, если понадобится кое-что уточнить, сразу его вызовут. Кивнул на Серафима. Того тут же подхватил за шиворот околоточный, подтащил к месту, где только что сидел половой. Опять же рывком усадил.
– Полегче, кувалда, – огрызнулся торговец. – Нынче не те времена, ваша шомпольная власть закончилась.
– Поговори еще, – Хомутов дернул Серафима за плечо.
Прикурив папиросу, Блудов пристально вгляделся в лицо торговца, потом, ухмыльнувшись, спросил:
– Почему же шомпольная?
– Потому как шомполами веками народ секли, – ответил тот.
– Не народ, преступников. Да оказалось, мало секли, вон что они, недосеченные, в столице-то утворили. Вы, я смотрю, революционного склада ума, а в захолустье винцом торгуете-с. Не по вашему, так сказать, типажу. Ладно, к делу.
Следователь поднялся, махнул рукой, предлагая всем идти за ним, направился к лестнице, что вела в подсобку.
Картина убийства действительно была ужасной. Видавший виды Блудов даже удивился, откуда у одного человека могло взяться столько крови. Тут будто забили стадо свиней. Серафим схватился за горло – его начало тошнить. Однако его не вывернуло, прокашлявшись, он вроде бы успокоился, хотя лицо Любезнова походило на стертый пергамент. И конечно следователя поразило то, что голова целовальника была рассечена пополам почти до шеи. То есть, убийца обладал недюжинной силой.
– Покажите, пожалуйста, руки, – попросил Блудов Серафима.
– Что? – Любезнов все еще пребывал в оцепенении.
Хомутов схватил торговца за запястья, вывернул их ладонями вверх.
– Мозоли трудовые, – констатировал следователь.
– Бочки-то с мешками таскать, – ответил «студент».
– Теперь подошвы.
– Что?
Хомутов ткнул парня в бок:
– Ну, ты, дурака-то из себя не строй. Сказано показывай что требуют, значит показывай.
Следователь внимательно осмотрел через лупу, что достал из саквояжа, обе подошвы изношенных сапог. Пинцетом поддел часть земли, прилипшей к каблукам. Землю завернул в лист бумаги, положил в саквояж.
– Где вы были этой ночью и утром, господин Любезнов?
– Дома. Что за станцией, у Черного пруда. Отец покойный арендовал квартиру у купца Прянишникова. Купец помер, батюшка тоже, плачу его вдове Елизавете Родионовне пять целковых. И продуктами ей помогаю.
– Она вас видела ночью?
– Н-нет. У нее вход со двора, а у меня с пруда.
– Вы, я так понимаю, не женаты.
– Бог миловал.
– Ага. Ну а дама у вас есть?
– Вы, вероятно, хотите спросить, был ли я ночью с какой женщиной. Нет, спал один.
– Значит, у вас нет алиби.
– Чего нет?
Любезнов снова получил тычок от надзирателя в бок:
– Не придуривайся!
– Да нет у меня ничего! – воскликнул Серафим и всхлипнул по-детски. – Не убивал я трактирщика, крест целовать готов. За что мне его убивать, сами подумайте!
– Как за что? – следователь изумленно округлил глаза. – Причина самая что ни на есть веская – он отказался выплатить вам полную сумму за поставленное вино. Что скажите?
– Ну.… Ну, повздорили малость, я не сдержался, бросил ему в лицо его деньги. Но это ж пустяк.
– А говорили вы целовальнику, что он толкает вас на преступление?
– На преступление? Не помню, может, и говорил. Ну, правильно, говорил – мол, толкает меня на самоубийственное преступление, теперь мне только в петлю и остается.
– Вот как. И отчего же не влезли?
– Куда?
– В петлю, сударь, раз вы намеревались?
– Не намеревался я! В сердцах просто крикнул.
– В сердцах, значит. Ладно. Архип Демьянович, вы описали вещи в карманах убитого?
Помощник надзирателя нервно затоптался, кашлянул в огромный кулак.
– Я, ваше благородие, посчитал, что вы сами изволите…
– Понятно, можете не продолжать. Изволю. Господин Хомутов, вы будете далее записывать, а господин фельдфебель отправит задержанного Любезнова в участок. Да, сударь, посидите у нас, пока не выяснится.
Теперь закашлялся Хомутов, он попросил следователя самому отвезти Любезного в околоток, а Журкин «пусть уж продолжает записывать». Блудов понял, что надзиратель страдает похмельем, руки его плохо слушаются и писать ему будет затруднительно, потому возражать не стал.
Хомутов потянул «студента» к выходу, а следователь, надев тонкие кожаные перчатки, припал к телу убитого целовальника Бубнова.
– Записывайте, Архип Демьянович: в правом кармане жилетки трактирщика Бубнова, синего цвета, в желтый горошек, обнаружен серебряный хронометр на цепочке фирмы «Tell». В левом кармане жилетки находится связка из трех ключей.
– Одного ключа не хватает, – сказала, появившаяся неожиданно для всех сзади Ольга.
Следователь взглянул на нее, ухмыльнулся – Бубнова по-прежнему не смотрела в глаза. Но лицо спокойное, даже отстраненное, как у богомолки. Прав фельдфебель, гвоздь, настоящий железный гвоздь.
– Что за ключ отсутствует? – спросил женщину Блудов.
– От сейфа, который в кабинете мужа стоит. Он держит там всякие бумаги: векселя, расписки должников.
– И деньги?
– Нет. Раньше деньги отвозил в уездный банк «Царевич Алексей», а как это случилось… ну, вы понимаете, стал где-то прятать. Мне не говорил где.
– Та-ак, – протянул Журкин. – Кажется, версии есть: целовальника убил один из должников. Или тот, кто знал, где он прячет деньги.
– Вы думаете? – Следователь с прищуром взглянул на фельдфебеля. – Для чего же было убивать Никодима Савельевича, если было известно, где находится его схрон? Забрали бы тихо и всё. А вот насчет должника версия хорошая.
– Я все же думаю на Любезнова.
– Вы руки его видели?
– Видел и что?
– Садануть человека по черепу так, что расколоть его пополам и совершенно не оставить на руках ни царапины, невозможно. Да вы и сами знаете, с шашкой не раз упражнялись. А у Любезнова ладони чистые, как у тапера, разве что в мозолях. Вы, Архип Демьянович, наступали, может случайно в лужу крови?
– Боже упаси, мы знаем дело, чтобы ничего не изменить…
– Поднимите-ка сапог, хотя бы правый.
Фельдфебель послушно приподнял правый сапог, повернул к свету подошву. Она была с краю слегка измазана кровью.
– Не понимаю, – пробормотал помощник надзирателя.
– Вот. То есть, как ни хранись, а от крови не убережешься, коль она в таком количестве. А у Любезнова башмаки чистые. Совершенно.
– Может, переобулся.
– Возможно. Обыщем его квартиру. Проверим соскоб с подошв всей обуви Серафима под микроскопом. Так. Пишите дальше: по утверждению вдовы господина Бубнова на связке отсутствует ключ от личного сейфа убитого. В карманах шерстяных штанов фиолетового цвета несколько медяков мелкого достоинства, носовой платок белого цвета, по виду женский.
– Это я Никодима Савельевича приучила к носовым платкам, -сказала Ольга. – До меня диким был, в рубаху сморкался. Каждый день ему чистые платочки выдавала.
К огромному удивлению следователя, Бубнова, наконец, проявила эмоции – всхлипнула, приложила костистый кулачок к глазам. Но в следующую секунду, она снова являла собой полную невозмутимость.
– Так. Хорошо. – Следователь взглянул в тетрадку Журкина, правильно ли он там всё записывает. Удовлетворенно кивнул. – Кстати, а вы сейф сегодня видели? Открыт он или закрыт.
– В кабинете мужа я сегодня не была. Как узнала об убийстве, сразу сюда прибежала.
– А кто вам сообщил?
– Половой Ермилка.
– Понятно. Далее…
Левая рука целовальника находилась под животом. Следователь не без усилий, так как рука уже начала коченеть на холодном полу, вывел ее наружу.
– Что это?
В кулаке целовальника был зажат клочок бумаги. Блудов разжал убитому пальцы и клочок выпал на каменную кладку. В подполе горела всего одна электрическая лампа, света от нее было не очень много. Следователь вынул из портфеля портативный английский фонарь, но он, мигнув, больше не подал признаков жизни.
Поднялись наверх. Апрельское солнце уже ярко било в окна. Блудов разложил на столе бумажку. Верхняя ее часть была неровно оборвана. Видно, кто-то тянул ее на себя, а Бубнов не отдавал и она порвалась. На ней черным грифельным карандашом были изображены какие-то зигзагообразные линии, уходившие вверх, в другой клочок, оставшийся, по всей видимости, у преступника. Линии были обозначены трех и четырехзначными цифрами. Но более всего следователя поразило то, что рисунок был сделан на обрывке нотного листа.
– Как вы думаете, что сие означает? – спросил Ольгу следователь. Вдова пожала плечами:
– Понятия не имею.
– У вас в доме кто-нибудь музицирует?
– Дочь Катерину пытались научить играть на арфе да бесполезно. Медведь на ухо наступил. Арфу продали три года назад, дочь оставили в покое.
– Она здесь?
– В области, в благородном пансионе, где когда-то воспитывалась и я. Пока не закрылся, но видно скоро…
– Но там их обучают музыке?
– К чему вы клоните, господин следователь?
Этот вопрос Ольга задала таким бесцветным тоном, будто на рынке интересовалась стоимостью моркови.
– Ни к чему-с, так просто поинтересовался. Когда Катерина в последний раз приезжала домой?
– Теперь сюда разве что на аэроплане доберешься, – ответила вдова, и следователю показалось, что в ее глазах промелькнула усмешка. – Осенью была, полгода уж как.
Блудов хотел спросить – и не скучаете? Но понял, что вопрос не по адресу – это почти безэмоциональное существо вряд ли может по кому-нибудь скучать. Хотя почему безэмоциональное? – сам себе возразил Блудов, – мужа-то, говорят, дубасила почем зря. Нет, просто Ольга спряталась в удобную ей скорлупу, но когда выходит из нее…
– Хорошо. – Следователь поднялся, отряхнув утепленный двубортный вицмундирный сюртук темно-зеленого сукна, с отложным, бархатным воротником. – На этом пока закончим. Фельдфебель, организуйте мужичков, пусть отвезут труп в ледник при больнице.
– Она закрыта, а последний фельдшер сбежал, – ответил Журкин.
– Ну, так откройте, ледник-то не убежал! – следователь впервые за утро повысил голос. Его что-то раздражало, но он еще сам не понимал что именно. -И саму больницу отворите.
– Слушаюсь, ваше благородие.
Фельдфебель выбежал на улицу «организовывать» мужиков. А следователь посоветовал Ольге идти домой, сказав ей перед этим, что трактир будет на время опечатан. Тело мужа она сможет получить для похорон, как только судебный секретарь уладит все формальности. Что это за формальности, Алексей Алексеевич уточнять не стал.







