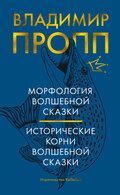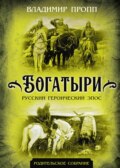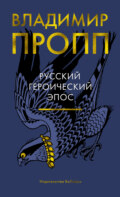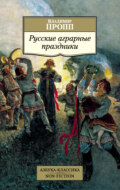Владимир Пропп
Проблемы комизма и смеха
© Пропп В.Я. (наследники), 2025
© Полунин С., Табачникова Н.Е., предисловие, 2025
© Еремина В.И. (наследники), статья, 2025
© Издательская группа «Альма Матер», оригинал макет, оформление, 2025
© Издательство «Альма Матер», 2025
* * *

Совместный проект Издательской группы «Альма Матер» и Международной Академии дураков Славы Полунина
Пространство смеха
Мы смеемся, потому что смеется сосед, потому что щекотно, потому что «смешинка в рот попала»… Мы смеемся, и смех продлевает нам жизнь, может излечить от болезни, а может и убить…
Мы хохочем или улыбаемся и каким-то необыкновенным образом попадаем в иное измерение, в «мир наизнанку», живущий по своим законам, почитающий своих богов и восхваляющий своих жрецов, мир со своими ритуалами и праздниками.
Люди с глубокой древности пытались разгадать тайну смеха, его механизмы, причины его возникновения, силу и характер его воздействия; пытались понять, что же он такое, куда он нас способен завезти и как им управлять.
Эта серия книг – наше совместное с вами путешествие в пространство смеха. Через века и традиции, через страны и культуры, через чащи философских изысканий и лабиринты психологии, стройные эстетические системы и карнавальные бесчинства.
В этом путешествии нам суждено повстречать великих смехачей: шутов, скоморохов, ярмарочных дедов и клоунов; смеющихся богов и трикстеров; кикимор, что могут защекотать до смерти, и сатиров, пляшущих на праздниках Диониса.
Но главное – мы попытаемся узнать, как можно проникнуть в это пространство, где находится и каким золотым ключиком отпирается дверь в мир, наполненный солнечным светом смеха.
А теперь о книге
«Радуюсь счастью бытия…»
Это последние слова, записанные в дневнике великого русского фольклориста, филолога, педагога, совершившего настоящий прорыв в науке, почитаемого во всем мире и обожаемого учениками, подлинного интеллигента и настоящего ученого Владимира Яковлевича Проппа.
У вас в руках его последняя книга – незавершенная, не отшлифованная в той мере, какую он считал необходимой. Великий исследователь русской сказки, героического эпоса, фольклора в целом, проникший в лабиринты глубинных структур фольклорных жанров, кажется, здесь лишь собирает и классифицирует исследуемый материал, причем в основном литературный. Но его способность видеть структурные особенности позволила сразу создать одну из самых стройных классификаций комического и разновидностей смеха.
Пропп не объясняет прямо причины своего обращения к исследованию смеха – ни в дневниковых записях, ни в тексте самой книги. Однако можно предположить, что необходимость осмысления смехового начала была продиктована самим предметом изучения, ведь народная культура с ее наивностью и дерзкой бесшабашностью буквально пропитана юмором. И не только народная культура. «Мы видим, – пишет Пропп, – что божество, смеясь, создает мир или смех божества создает мир». Такой ученый, как Пропп, не мог пройти мимо столь удивительного акта творения, похожего на чудо. С древними верованиями и даже суевериями у исследователя сказок были особые отношения. Последние он, вслед за Баратынским, считавшим, что предрассудок – это обломок древней правды, свято чтил и верил в них. А еще верил в чудеса.
Незадолго до своего ухода он запишет в дневнике: «Я живу сознанием чуда. И все, что имеет прикосновение к чуду, – это мое, это наполняет меня блаженством жизни. К этому относится все великое. А великое бывает в самом малом».
Слава Полунин,
Наташа Табачникова
Предисловие к настоящему изданию[1]
С начала 1960-х годов Владимир Яковлевич Пропп работает параллельно над двумя книгами, посвященными вопросам теории фольклора, литературы и эстетики. Одна из них – «Поэтика фольклора», призванная раскрыть особенности фольклорного мышления и специфику поэтической организации произведений народного творчества,– осталась незавершенной. Отдельные разделы будущей книги были опубликованы в виде статей <…> [2] и получили широкий резонанс в нашей науке. Во второй работе должен был найти свое воплощение давний интерес В. Я. Проппа к теории комического – одной из кардинальных проблем эстетики и теории литературы.
Проблема смеха, смеховой культуры неслучайна для научных интересов В. Я. Проппа. Книга о комическом исподволь обдумывалась и подготавливалась в течение многих лет. Ритуальному смеху была посвящена в свое время специальная статья, рассматривавшая исторические истоки сказочного мотива о царевне Несмеяне. В этой частной работе проблема была поставлена столь широко, что дала возможность раскрыть основы одного из видов смеха, связанного с ритуалом, религией. Поскольку содержание мотива о Несмеяне и составляет явление смеха, В. Я. Пропп ставил своей задачей выяснить «характер смеха вообще, но смеха не в плане абстрактных философских построений, как это в своей книге о смехе делает Бергсон [3], а в плане исторического рассмотрения» [4].
Определенным этапом в осуществлении столь широко задуманной работы [5] явился доклад В. Я. Проппа «Природа комического у Гоголя», прочитанный им в 1962 году на заседании кафедры истории русской литературы филологического факультета ЛГУ.
Одним из первых и основных вопросов, который всегда вставал перед ученым после решения им методологических задач, был вопрос о классификации. Неслучайно и свой доклад В. Я. Пропп выстраивает по определенным рубрикам, не отмеченным непосредственно в тексте, но присутствующим на полях машинописного экземпляра. Схема эта, подчиненная определенной внутренней логике, лишена еще того безупречного внешнего оформления, которое столь выгодно отличает завершенные работы В. Я. Проппа. Однако простота и ясность каждого из высказанных положений и всей системы рассуждений в целом, богатый материал фактов и методологических наблюдений, выходящих за границы конкретной проблемы и важных для других областей эстетики и теории литературы, делают и эту работу большого ученого интересной для современных исследователей.
<…>.
В. И. Еремина
От редакции
В данном издании книга «Проблемы комизма и смеха» впервые предстает перед читателями в том виде, в каком задумывалась В. Я. Проппом. Вступительная часть, озаглавленная в авторской рукописи «Предварительные замечания» и включавшая в себя предисловие и параграф «Немного о философии», не вошла в первое, уже посмертное издание работы. Эти тексты были опубликованы в 1999 году А. В. Малиновым в альманахе «Метафизические исследования», но в составе книги до сих пор не выходили. Помимо первой главы, нами была сохранена общепринятая структура исследования.
Автор не успел завершить свой труд, многие цитаты приводились им по памяти. При последующих переизданиях была проведена серьезная работа по сверке цитат, уточнению источников и справочного аппарата. Очередной шаг в этом направлении был предпринят и при подготовке данного издания: справочный аппарат книги расширен за счет уточнения источников цитирования, при этом в некоторых случаях труднодоступные на сегодняшний день издания заменены на более современные.
Редакция благодарит А. Ф. Некрылову, кандидата искусствоведения, научного сотрудника отдела фольклора Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, за советы и помощь при подготовке данного издания.
Проблемы комизма и смеха
Предисловие[6]
 О проблеме комического, сатиры и юмора написаны уже сотни работ на множестве языков мира. Должны иметься какие-то особые причины, чтобы к имеющим работам прибавить еще одну. Эти причины есть. Хотя над этой проблемой трудились не только ученые разных специальностей, но и величайшие философы мира, вопрос все еще далек от разрешения, и подумать о нем стоит. Все мы по разным поводам смеемся в жизни, мы читаем юмористов, сатириков, смотрим комедии и кинокомедии, но если спросить себя, знаем ли мы, собственно говоря, что такое смех, отчего мы смеемся и что можно назвать смешным, то мы должны будем признать, что объяснить этого мы не можем.
О проблеме комического, сатиры и юмора написаны уже сотни работ на множестве языков мира. Должны иметься какие-то особые причины, чтобы к имеющим работам прибавить еще одну. Эти причины есть. Хотя над этой проблемой трудились не только ученые разных специальностей, но и величайшие философы мира, вопрос все еще далек от разрешения, и подумать о нем стоит. Все мы по разным поводам смеемся в жизни, мы читаем юмористов, сатириков, смотрим комедии и кинокомедии, но если спросить себя, знаем ли мы, собственно говоря, что такое смех, отчего мы смеемся и что можно назвать смешным, то мы должны будем признать, что объяснить этого мы не можем.
Но, может быть, этот вопрос и не так важен? Несомненно, что вполне можно прожить, не имея о сущности комического ни малейшего представления. Но есть нечто, называемое научным мировоззрением. Наука стремится знать причину всех вещей – больших и малых, заметных и незаметных. Проблемой комизма в искусстве ведает наука, называемая эстетикой, а также ряд родственных ей дисциплин, таких как поэтика, теория и история литературы и др. Проблема смеха занимает также врачей и психологов. Обращаясь к соответствующим трудам, мы обнаружим, что разделы их, посвященные комизму, принадлежат, как правило, к наиболее слабым и наименее разработанным разделам этих наук.
Но вопрос о комическом выходит за пределы только научного познания мира. Смех не только пронизывает творчество многих писателей и художников, он входит в нашу жизнь, он помогает нам жить, бороться и строить новую жизнь. Вопрос этот у нас имеет широкое общественное значение.
Предлагаемая книга отнюдь не ставит себе задачи решить все вопросы этой сложной проблемы. Для этого пришлось бы писать большой том, а может быть, и несколько томов. Цель ее – снова обратить внимание на эту проблему, привести некоторые материалы и высказать некоторые соображения, которые могут оказаться полезными для литературоведов и интересными для широкого круга читателей, которые любят и посмеяться, и поразмыслить.
Глава 1. Предварительные размышления
1.1. Немного философии
 «Комическое является наиболее сложной проблемой эстетики». Так в 1886 г. писал в своей «Эстетике» Э. Гартман [7], и эти слова остались верными по сегодняшний день.
«Комическое является наиболее сложной проблемой эстетики». Так в 1886 г. писал в своей «Эстетике» Э. Гартман [7], и эти слова остались верными по сегодняшний день.
Мы не будем здесь излагать историю вопроса, это завело бы нас слишком далеко. История эстетических учений излагалась неоднократно [8]. Есть и специальные труды по развитию теории комического. О комическом писали философы различных направлений, специалисты по вопросам эстетики, теории литературы и историки ее, критики, артисты театра, кино и цирка, писатели, журналисты, педагоги, а также физиологи, психологи и врачи. Мы остановимся только на особо показательных и характерных или интересных и значительных высказываниях, касающихся узловых вопросов теории. Раньше, чем определить свои собственные мысли, необходимо оглянуться на прошлое и посмотреть, что и как уже сделано.
Начинать надо с Античности. Культура Античности имеет для нас не только историческое значение. Многое из нее живо и по сегодняшний день. Вопрос о сущности смеха занимал в древности как некоторых философов, так и ораторов и писателей. Все эти высказывания в настоящее время собраны и хорошо изучены [9].
Исключительным интересом для нас обладает Аристотель, и на нем следует остановиться. Аристотель был гением, и его мысли и формулировки далеко выходят за пределы только историко-культурного знания. По сегодняшний день многие из мыслей Аристотеля воспринимаются как необыкновенно свежие, умные и актуальные [10].
Проблеме комического посвящено всего несколько строк в его трактате «Об искусстве поэзии», обычно именуемом «Поэтика» [11]. Трактат этот не имеет конца. Он охватывает в основном рассмотрение трагедии и Гомера. «О комедии мы будем говорить впоследствии»[12], – говорит он. Эта часть до нас не дошла. Однако те немногие строки, которые посвящены проблеме комизма, рассеянные в сохранившихся частях его труда, имеют для нас первостепенное значение. Аристотель неоднократно издавался, различно переводился и комментировался. Различия в понимании очень значительны, и это налагает на нас обязанность заново пересмотреть текст и определить, что, собственно, Аристотель хотел сказать. Его мысли нам очень пригодятся, и нам не раз придется ссылаться на них.
В своем определении комического Аристотель исходит из своей общей теории поэзии. Эту теорию мы здесь излагать не будем. Вкратце можно сказать, что для Аристотеля искусство поэзии основано на некотором подражании действительности. Аристотель говорит «мимезис», что также можно понимать как изображение. Поэтическое искусство характеризуется как «подражание, которое всем доставляет удовольствие». «Поэзия изображает или лучших людей,– говорит он,– или обыкновенных, или худших». Это разделение он применяет к определению различия между трагедией и комедией: «Последняя стремится изображать худших, а первая – лучших людей нежели ныне существующие» [13]. Для философа древности, как и для любого грека, важнейший вид поэтического искусства – трагедия. Трагедия выражала высшие общественные, моральные и религиозные идеалы греков. Соответственно, Аристотель основное внимание уделяет трагедии и говорит о ней весьма обстоятельно. Комедии такое высокое значение не придавалось. Она определяется как нечто противоположное трагедии. Аристотель углубляет свою мысль о сущности комического так: «Комедия, как мы сказали, есть воспроизведение худших людей, однако не в смысле полной порочности»[14]. Аристотель выражает сжато, и поэтому его слова требуют некоторых разъяснений. Главное в том, что комедия изображает дурных людей. Но простое изображение их не было бы комическим. Для того чтобы изображение было комическим, нужно некоторое преувеличение: изображаются люди худшие, нежели ныне существующие. Но до какой степени можно доводить это преувеличение? Аристотель учит, что на сцене недостатки людей не следует преувеличивать до такой степени, чтобы они представляли собой пороки («не в смысле полной порочности»), так как это было бы уже не смешно. Это относится к моральному характеру изображаемых персонажей. Комическими могут быть только сравнительно мелкие недостатки, а не злодейства, не пороки и не преступления.
Другой признак комического состоит в том, что оно относится к области безобразного: «Смешное есть часть безобразного»,– говорит Аристотель. «Ведь смешное,– продолжает он,– это некоторая ошибка (погрешность и несуразность) [15] и безобразие»[16]. До сих пор все довольно ясно. Что комическое относится к области безобразного – это на всякие лады будет повторяться во многих позднейших эстетиках. Однако Аристотель продолжает, что не всякое безобразие комично, а только «никому не причиняющее страдания (боли) и ни для кого не пагубное (безвредное)». Употребляемые Аристотелем слова можно понимать по-разному. Приведенное место часто комментировалось, при этом комментировалось различно. Ставился, например, вопрос о том, кому комическое не должно доставлять страданий. Думается, что утверждение Аристотеля может быть обобщенно в том смысле, что комическое никому не должно доставлять страдания, что область комического вообще несовместима с чувством страдания. Поскольку же речь идет о театре, о зрелище и сцене, страдания не должны изображаться на арене; они не могут быть предметом комедии. Аристотель имеет также в виду и зрителя, который пришел в театр для того, чтобы посмеяться (если он смотрит комедию), а не для того, чтобы видеть и испытывать страдания. Это видно из того, что Аристотель ссылается на комические маски, говоря о них так: «Комическая маска есть нечто безобразное и искаженное, но без выражений страданий» [17]. Слова «выражение» нет в оригинале, его добавил переводчик. Внесение этого слова сужает мысль Аристотеля. Комическая маска хотя и безобразна, но она не только не выражает страдания, но и не возбуждает его, она вообще вне сферы человеческих страданий.
Нельзя поэтому согласиться с толкованием Чернявского и других, которые полагали, что, по Аристотелю, комическое не должно доставлять страданий осмеянному, и выводили отсюда, что Аристотель был противником Аристофана, комедии которого бывали остро тенденциозны и иногда оскорбительно высмеивали отдельных лиц (например, Еврипида и Сократа). Эта сторона дела Аристотеля просто не интересует. Его интересует природа комического как таковая, и эта природа вообще исключает сферу страдания. Страдание присуще не комедии, а трагедии. Одна из «частей» (как выражается Аристотель) фабулы трагедии «составляет страдание». «Страдание есть действие, причиняющее гибель или боль, например, всякого рода смерть на сцене, сильная боль, нанесение ран и все тому подобное» [18].
Что Аристотеля интересует характер комизма как такового, видно и по некоторым недошедшим до нас местам «Поэтики», упоминаемым в других трудах Аристотеля. Так, в «Риторике» Аристотель пишет: «В „Поэтике“ мы уже сказали, сколько есть видов шутки» [19]. Строки, посвященные видам шуток, не сохранились, но наличие их показывает, какой стороной дела интересовался Аристотель: он изучал сущность шутки и систематизировал ее виды.
Говоря о «подражании», Аристотель всегда имеет в виду подражание жизни в ее действиях, в динамике, в том, что происходит. Поэтому в драматическом произведении самое важное – это фабула, и об этом Аристотель говорит неоднократно. «Поэту следует больше быть творцом фабул, чем метров, поскольку он поэт по своему подражательному воспроизведению,– а подражает он действиям» [20]. «Подражание производится в действии… Подражание действию есть фабула» [21]. Трагедия слагается из различных составных частей, «но самое важное в этом – состав происшествий, так как трагедия есть подражание не людям, но действиям» [22]. В последних словах говорится о трагедии, но трагедии для Аристотеля – один из видов поэтического искусства вообще. В драматическом произведении, по Аристотелю, самое важное не характеры, а действие, фабула или, как бы мы сейчас сказали, интрига. Вопрос о комедии интриги и комедии характеров в XIX–XX вв. много будет занимать европейскую эстетику. Для Аристотеля первична интрига, и в зависимости от нее изображаются и характеры. «Итак, поэты выводят действующих лиц не только для того, чтобы изобразить их характер, но благодаря этим действиям они захватывают и характер» [23].
Нельзя поэтому согласиться с Ю. Боревым, который пишет: «Теория смешного Аристотеля явилась теоретическим обоснованием „комедии характеров“» [24]. Как раз наоборот: для Аристотеля первичен не характер, первично действие.
Другой вопрос, решаемый Аристотелем, это вопрос о правдоподобии изображаемого. «Должно составлять фабулы и обрабатывать их по отношению к словесному выражению, как можно живее представляя их перед своими глазами» [25]. Однако выражение «как можно живее» не следует понимать в том смысле, что поэт должен просто как можно точнее копировать жизнь. Дело много сложнее. «Задача поэта,– пишет Аристотель,– говорить не о действительно случившемся, но о том, что могло бы случиться, следовательно, о возможном по вероятности или о необходимости» [26]. «Относительно комедии это уже очевидно: именно сложив фабулу по законам вероятности, поэт таким образом представляет любые имена, не пишет… на отдельных лиц» [27]. В этом отношении поэт противопоставляется историку. «Поэт говорит больше об общем, историк о единичном» [28]. Таким образом, «законы вероятности» относятся к области творческого мастерства. Аристотель допускает даже, что «вероятно, чтобы многое случалось и вопреки вероятности» [29]. Этим открывается свобода фантазии, но не необузданной, а «по законам вероятности». Понятие «по законам вероятности» Аристотель не уточняет, но в этом и нет необходимости. Мы еще будем иметь случай к этим словам вернуться.
* * *
Аристотель оказал значительное влияние на развитие европейской эстетической мысли и оказывает по сегодняшний день. Многие делали себе из Аристотеля единомышленника. Обычно это делается путем приведения одной-двух фраз (а иногда и без всяких ссылок). Мы пытались изложить учение Аристотеля о комедии и комическом по возможности беспристрастно и полно. Оно как будто слагается из разрозненных мыслей, но на самом деле представляет собой стройную и цельную систему. Вся значительность его мыслей может быть оценена только при подробной разработке поэтического материала не только Античности, но и позднейших веков вплоть до современности.
Мы минуем философов Средневековья и эпохи Возрождения и гуманизма, а также мыслителей XVII и первой половины XVIII в. Здесь могли бы стоять имена Эразма Роттердамского, Паскаля, Гоббса, Буало, Дидро, Лессинга и др. Их мысли, несомненно, заслуживают внимания сами по себе, но здесь мы можем останавливаться только на наиболее значительных, показательных и наиболее актуальных по сегодняшний день теориях [30].
Из всей области эстетики комического нас преимущественно будет интересовать один вопрос, а именно вопрос о том, как понимали и как определяли, в чем, собственно, состоит сущность комического. Область теории комического столь огромна и многогранна, история этого вопроса столь широка, что надо ограничить себя рассмотрением только главнейших, решающих вопросов. Различные вопросы второй очереди решаются в зависимости от того, как будет решен этот основной, главнейший вопрос.
Остановиться следует на теории комического, созданной Кантом. Минуя некоторые ранние высказывания Канта в статье 1764 г. «Наблюдения над чувством возвышенного и прекрасного» [31] и в «Приложении» к ней, где имеются мимоходом брошенные замечания о том, что может стать предметом комедии и о характере смеха, мы прямо обратимся к «Критике способности суждения» (1790) [32], которая уже содержит теорию комического.
Выше указывалось на то влияние, которое на развитие эстетики оказал Аристотель. Кант оказался вне этого влияния. Он не противопоставляет, как это делает Аристотель, понятия комического и трагического. Кант понимает предмет эстетики как учение о возвышенном и прекрасном. Но комическое, по Канту, ни к области возвышенного, ни к области прекрасного не относится. После разделов, озаглавленных «Аналитика прекрасного» (§1–22) и «Аналитика возвышенного» (§23–53) он делает примечания (§54), и здесь, как бы вынося этот вопрос за скобки, трактует проблему комического. Примечание это невелико по размерам, но оно имеет большое значение. Центральное место этого примечания в буквальном переводе гласит так: «Во всем, что должно возбуждать живой, сотрясающий смех, должно иметься нечто, противоречащее смыслу (Widersinniges), в чем, следовательно, разум как таковой не может находить удовольствия. Смех есть аффект, проистекающий из внезапного превращения напряженного ожидания в ничто (разрядка Канта)» [33]. Далее Кант прибавляет, что хотя смех не доставляет удовольствия разуму, все же на момент он может живо радовать человека тем, что «производит в теле игру жизненных сил». Свою теорию Кант иллюстрирует несколькими примерами. Мы, например, ставим вопрос, но вместо ожидаемого разумного ответа получаем ответ глупый, невежественный, и это вызывает смех. Кант приводит еще несколько анекдотов, иллюстрирующих эту мысль.
Таким образом, удовольствие, получаемое от смеха, по Канту, не есть удовольствие эстетического порядка. Смех или смешное не может также доставлять удовольствие уму, так как в смешном, по Канту, всегда нечто противное разуму. Удовольствие от смеха есть удовольствие физиологического порядка.
Теория Канта подвергалась самой разнообразной критике. В какой степени его теория для нас приемлема или нет, будет видно ниже, когда мы войдем в гущу материалов.
Кант, как мы видели, не противопоставлял комическое ни возвышенному, ни прекрасному. Этот шаг был сделан замечательным и в свое время очень популярным юмористом из стана романтиков, создавшим огромный труд по теоретической эстетике – Жаном Полем [34]. Отныне «прекрасное» и «возвышенное», с одной стороны, и «комическое» – с другой, рассматриваются вместе и объясняются одно через другое.
Жану Полю принадлежит заслуга первой попытки всестороннего и обстоятельного объяснения проблемы комизма. Он посвящает ей уже не несколько строк, а множество страниц своей обширной «Эстетики» или, точнее, «Эстетической пропедевтики» [35]. Мы не можем здесь входить в подробное изложение и освещение высказываний Жана Поля, тем более что это уже неоднократно делалось [36]. Его манера изложения цветиста и многословна. Множество языковых натяжек и странностей затрудняют понимание, затемняют смысл. Из множества затронутых им вопросов мы выделяем один, а именно вопрос об определении сущности комизма.
Жан Поль определяет комическое через рассмотрение того, что ему противоположно. «Лучше всего можно определить какое-либо ощущение (Empfindung), если спросить его о его противоположности» [37]. Комическому противоположно возвышенное, высокое. Возвышенное Жан Поль понимает как нечто бесконечно великое. Отсюда вывод, что противоположное ему комическое есть «бесконечно малое» [38]. «Бесконечно великому, вызывающему благоговение, должно противостоять нечто столь же малое, вызывающее противоположные ощущения» [39], т.е. смех. Эту мысль он уточняет, а затем проверяет на рассмотрении самых разных видов комического, не стремясь, впрочем, все втискивать в рамки одной схемы. Комическое рассматривается как в жизни, так и в поэзии. Он, например, говорит об эпическом, драматическом и лирическом юморе, об иронии, о каламбуре, о комических характерах. Касается он также вопроса, чем вызвано доставляемое смехом удовольствие. Изложение бессвязно, системы нет, но есть много метких и верных наблюдений. Так, Жан Поль – один из немногих философов, который видел, что один и тот же случай или предмет может быть смешным и несмешным в зависимости от наших оценок, главным образом моральных. На этом основании в нашей литературе высказывалось мнение, будто Жан Поль – представитель крайнего субъективизма, будто он учил, что смех всецело зависит от того, расположен ли человек смеяться или нет. Такое мнение определенно ошибочно. Жан Поль учитывал субъективный фактор, и ниже мы еще увидим, что игнорировать этот фактор действительно нельзя, но он не полагает его в основу изучения. В критику взглядов Жана Поля мы входить не будем. Жан Поль оказал значительное влияние на развитие теории комического. Психолог Геккер пишет о нем так: «Тем, что Жан Поль впервые определил комическое как обратное возвышенному, он заложил основу того метафизически-эстетического способа понимания, который потом развили Шеллинг, Гегель, Руге, Вейсе и другие» [40].
Проблемой комического занимался великий пессимист Шопенгауэр. В своей основной работе «Мир как воля и представление» (1819) он говорит: «Смех возникает всякий раз не из чего иного, как из внезапно постигнутого несоответствия между понятием и реальными объектами, которые в какой-либо связи уже были мыслимы через него; смех есть только выражение этого несоответствия» [41].
Если мысли Шопенгауэра переложить с тяжеловесного немецкого философского жаргона на обычный человеческий язык, то их можно выразить примерно так: у каждого человека есть какие-то понятия и представления о мире, понятия, которые соответствуют некоторому идеалу. Этим понятиям мы подчиняем наше восприятие мира, но вдруг мы обнаруживаем, что какой-то объект не соответствует нашим представлениям, что он ниже, хуже того, что мы о нем думали; в этот момент мы будем смеяться. Смех есть выражение этого внезапно обнаруженного нами несоответствия.
Мы не будем вдаваться в подробную полемику – это завело бы нас слишком далеко. Оценка рассмотренных нами мнений будет возможна после того, как будут рассмотрены материалы. Но некоторые возражения все же напрашиваются сами собой. У Шопенгауэра, как и у других философов, ясно выражено, что смех вызывается чем-то низменным. Это для некоторых видов смеха верно, но тем не менее мысль Шопенгауэра в целом не может быть нами принята: внезапное открытие чего-то низменного может иметь последствием не только смех, но и возмущение или огорчение. Если, например, человек, которого мы считали честным, совершает неприглядный поступок, и мы это для себя неожиданно обнаруживаем, то смешного в этом ничего нет. Шопенгауэр не обнаружил специфики этого комического, не говорит о том, в как случаях это вызовет смех, а в каких нет. Более прав Жан Поль, когда утверждал, что одно и то же явление может быть смешным и несмешным.
Позднее Шопенгауэр развил свои мысли в специальной книге дополнений к основному труду, где имеется статья «По поводу теории смешного» [42]. Все теории, кроме своей собственной, Шопенгауэр считал ложными, но полагает ниже своего достоинства их опровергать. «Теории смешного Канта и Жан Поля известны. Доказывать их неправильность я считаю излишним» [43]. По мнению Шопенгауэра, каждый сам может убедиться в их несостоятельности.
Гегель, как и некоторые другие философы-идеалисты, относился ко всему, что связано с комизмом и смехом, неодобрительно и недоброжелательно, и потому в своей грандиозной «Эстетике» он говорит о комическом лишь мимоходом, специального раздела у него нет [44]. Мысли Гегеля приходиться собирать по крупицам. Мы остановимся на наиболее важных из его высказываний.
Гегель различает два вида комизма. Он называет их «комическое» (das Komishe) и «смешное» (das Lächerliche). «Комическое» объективно и может вовсе не быть смешным, оно не обязательно вызывает смех. Смех в этом случае всецело зависит от душевного состояния человека. Есть люди, которые могут смеяться над чем угодно. Так, есть люди, бесконечно уверенные в себе, самодовольные, всегда находящиеся в великолепно-безмятежном настроении. О таком смехе Гегель говорит с нескрываем презрением. «Вообще нельзя найти ничего более противоречивого, чем то, над чем люди смеются. К этому может побудить их любая пошлость и безвкусица, и часто они смеются также над тем, что в жизни есть самого важного и глубокого, если только в этом обнаружиться хотя бы незначительный недостаток и если предмет осмеяния находится в противоречии с их привычками и будничными взглядами» [45].
Итак, субъективный смех возникает оттого, что самодовольные и надутые люди видят в мире несоответствие их собственным ограниченным представлениям и взглядам, их мироощущению. Высшая степень такой «абсолютной субъективности» есть ирония, которая означает, что «не надо относиться серьезно к праву, нравственности, истине», что «нет ничего в самом возвышенном, самом лучшем»[46]. Ирония все это уничтожает и в конечном итоге может обратиться в «иронию над самой собой». Такая ирония уничтожает сама себя. Мы видим отсюда, что Гегель судит о комическом с точки зрения философии возвышенного, которое, по Гегелю, составляет основную ценность жизни, морали и искусства и представляет основной предмет эстетики. Из этого вытекает отрицательное отношение Гегеля к тому виду комизма, который он называет субъективным.
Кроме субъективно-комического, существует еще объективно-смешное. «Следует очень различать,– пишет Гегель,– смешны ли действующие лица сами по себе или только для зрителей. Лишь первое есть признак собственно смешного, мастером чего был Аристофан»[47]. Этому «объективно-смешному» Гегель посвятил несколько строк, и в этих строках сказывается не столько строгий немецкий моралист, сколько острый мыслитель. Противопоставляя субъективно-комическое объективно-смешному, он пишет: «Смешным же (lächerlich) может стать всякий контраст существенного и его проявления (des Wesentlicher und seiner Erscheinung), цели (des Zwecks) и его средств» [48]. Таким образом, смешному присущ некий объективный характер в мире явлений, чем не обладает комическое.