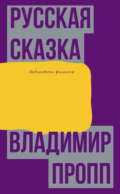Владимир Пропп
Проблемы комизма и смеха
Мы не будем здесь входить в обсуждение того, в какой степени Гегель прав или неправ, разделяя субъективно-комическое и объективно-смешное. Для нас важно, что для объективно-смешного он дал кратчайшую форму определения, которая потом будет развиваться его последователями: сам Гегель эту мысль только высказывает, но не развивает.
Всем сказанным объясняется, почему Гегель не уважал комическое и сатирическое искусство. Такое искусство разрушает, а не созидает. Гегель считает сатиру низменным видом искусства в противоположность прекрасному искусству. В Греции было прекрасное, свободное и великое искусство, которого не было в Риме. Зато в Риме развилась сатира.
Но Гегель все же вынужден признать, что и сатира может иметь как эстетическое, так и общественное значение, но при одном условии: «Эта сама по себе прозаическая форма искусства может стать более поэтической лишь постольку, поскольку она таким образом приводит нам на глаза испорченный вид действительности, чтобы эта порча проваливалась в самое себя благодаря собственному неразумию» [49].
Одним из последователей Гегеля обычно считают Фридриха Теодора Фишера (Vischer), автора огромного труда «Эстетика, или Наука о прекрасном» [50]. Для нас эта «Эстетика» обладает особым интересом, во-первых, потому, что Фишер уделяет особое внимание комическому, отводя под эту проблему 275 страниц, во-вторых, Фишер для нас интересен еще тем, что он оказал значительное влияние на Н. Г. Чернышевского.
До того, как выпустить «Эстетику», Фишер написал небольшую брошюру под названием «О возвышенном и комическом. Этюд к философии прекрасного» [51]. Это показывает, насколько велик и длителен был интерес Фишера к этой проблеме. То, что в брошюре сказано сравнительно кратко, в «Эстетике» разработано подробно. Но разница не только в степени разработки, но и в расположении материала.
В брошюре 1837 г. материал расположен так:
I. Просто прекрасное.
II. Возвышенное.
III. Комическое.
В «Эстетике»:
I. Просто прекрасное.
II. Прекрасное в противоборстве его моментов.
А. Комическое.
В. Возвышенное.
Из этого расположения видно, что в 1837 г. Фишер рассматривал комическое вне пределов возвышенного и прекрасного, в «Эстетике» же область прекрасного делится на возвышенное и комическое, причем возвышенное противопоставляется комическому. Здесь он явно следует Гегелю.
Построение «Эстетики» Фишера очень логично. Эстетика определяется как наука о прекрасном. Прекрасное делится им, как видно из приведенных схем, на «просто прекрасное» и «прекрасное в противоборстве его моментов» (das Schone in Widerstreit seine Momente). Или, как мы бы сказали, оно делится соответственно присущим его природе противоречиям. Такое противоречие – это возвышенное (куда Фишер относит и трагическое), с одной стороны, и комическое – с другой. «Комическое есть понятие соотносительное (ein Verhaltnisbegriff), так же как и возвышенное» [52], – пишет он. Такое противопоставление составляет основу эстетической философии Фишера. Разработка ведется чрезвычайно подробно.
Мы не будем излагать всю тяжеловесную, абстрактно-логизирующую систему Фишера. В отличие от Гегеля он не отрицает ни моральной, ни эстетической ценности смеха и комизма. Правда, он, как и Гегель, всему предпочитает возвышенное, но сама проблема комического для него – проблема серьезная и большая. Если предмет возвышенного – великое и высокое, то предмет комического – низменное и ничтожное. Возвышенное – идейно, комическое же, по мнению Фишера, лишено идейности. Свои мысли он выражает так: «Возвышенное разбивается о свою противоположность. Так как первое есть бесконечно великое, то второе (т.е. комическое) должно быть бесконечно малым… Основа первого есть идея, основой бесконечно малого должна быть безыдейность» [53].
Легко заметить, что Фишер в своих определениях отнюдь не самостоятелен. Мысль о бесконечно малом как сфере комического была уже высказана Жаном Полем.
Входить в оценку взглядов Фишера и в полемику с ним мы не будем. Мы, как и в других случаях, просто устанавливаем сущность его взглядов, оценка же их выяснится позднее.
Полемику с Фишером готовил Маркс. Он сделал из его «Эстетики» обширные выписки. Изучая и сопоставляя места, которые он выписал, можно прийти к предположению, что Маркс выписывал то, что противоречило его собственным взглядам [54].
В России в 1830–1840-е гг. начала складываться революционно-демократическая эстетика. С одной стороны, русские революционные демократы продолжали то, что уже было начато и достигнуто в европейской, т.е. в основном немецкой философско-эстетической мысли. С другой же стороны, она шла принципиально иными, новыми путями. Мы вкратце проследим обе линии, линию преемственности и линию новаторства. Свое рассмотрение мы начнем с В. Г. Белинского.
Белинский нигде своих взглядов систематически не излагал. У него нет трактатов по интересующим нас проблемам. Но в его статьях рассеяно много метких мыслей, которые в совокупности составляют целое.
Некоторые общие положения он высказал в статье «Разделение поэзии на роды и виды» (1841) [55]. В большинстве же случаев он высказывает свои взгляды на комическое тогда, когда он касается творчества Грибоедова и Гоголя. Мелкие замечания рассеяны и в некоторых других статьях, а также рецензиях на комедии и водевили того времени. Белинский знал Жана Поля Рихтера, «Эстетическая пропедевтика» которого была переведена на русский язык С. П. Шевыревым [56]. Он сочувственно цитирует его в статье о разделении поэзии на роды и виды. По Жану Полю он определяет лирику. Особого влияния, однако, Жан Поль в целом на Белинского не оказал.
Иначе обстояло дело с Гегелем. Белинский некоторое время увлекался им и долго находился под его влиянием.
Гегель был широко известен в кругах передовой интеллигенции тех лет. Во всяком случае, Белинский знал Гегеля по тетрадкам М. Н. Каткова с конспектом лекций по эстетике Гегеля [57]. О нем велись горячие дебаты и беседы. О том, какое впечатление «Эстетика» Гегеля произвела на Белинского, можно судить по его письму Н. В. Станкевичу от 29 сентября – 8 октября 1839 г. «Катков передал мне, как умел, а я принял в себя, как мог, несколько результатов „Эстетики“. Боже мой! Какой новый, светлый, бесконечный мир!» [58] Таких восторженных высказываний о Гегеле имеется несколько. Еще в 1843 г. он пишет, что Гегель «величайший мыслитель нового мира». «Гегель сделал из философии науку». Белинского восхищает его «строгий и глубокий метод» [59]. Но одновременно Белинский понемногу стал понимать охранительный характер философии «разумной действительности», которой можно оправдать монархию и все ее ужасы. В письме Боткину от 27–28 сентября 1841 г. он пишет: «Гегель мечтал о конституционной монархии как идеале государства – какое узенькое понятие!», «Хорошо прусское правительство, в котором мы мыслим видеть идеал разумного правительства. Да что говорить – подлецы, тираны человечества! …Вот тебе и Гегель»! [60]
В своих взглядах на природу комического Белинский исходит из гегелевских представлений, но постепенно на их базе создает новую теорию.
Белинский исходил из распространенного в немецких эстетиках противопоставления комического трагическому. Такое противопоставление он делает в статье «Горе от ума» (1840) [61]. «Как величие и грандиозность составляет величие трагедии, так смешное составляет характер комедии» [62], – говорит он. В статье о разделении поэзии на роды и виды это противопоставление воспроизводится последовательно. Такое противопоставление не предопределяет, однако, определения сущности комизма как такового. Определение комического, которое дает Белинский, восходит к уже имевшимся определениям, но не повторяет их буквально. «Давно уже решено,– пишет он,– что основание смешного есть несообразность, противоречие идеи с формою или формы с идеею». Белинский не выдает эту мысль за свою, но он ее принимает. Это определение мы находим в одной из ранних статей Белинского («О критике и литературных мнениях „Московского Наблюдателя“» 1836) [63], но он повторяет ее и позже. Комическое определяется как «противоречие явления с собственной его сущностью или идеи с формою». Но такая абстрактная формулировка сменяется формулировкой уже иного характера. Основное противоречие определяется теперь не как противоречие между формой и содержанием, а иначе. В статье «Русская литература в 1842 году» он пишет: «Смешное комедии вытекает из беспрестанного противоречия с законами высшей разумной действительности» [64]. Здесь гегелевская терминология, но мысль не гегелевская. «Разумная действительность» здесь отрицается, притом отрицается средствами комедии. Сходно он выражается в статье «Объяснение на объяснение по поводу поэмы Гоголя „Мертвые души“» [65]. Юмор «Мертвых душ» состоит «в противоречии общественных форм русской жизни с ее глубоким субстанциональным началом» [66]. «Противоречие», «разумная действительность», «субстанциональное начало» – все это гегелевские термины, но наполняются они новым содержанием.
Теория нужна Белинскому не как самоцель. «Важность теоретических вопросов зависит от их отношения к действительности» [67]. Свое определение он применяет, например, в полемике против Шевырева и его статьи о «Миргороде» Гоголя. Шевырев утверждал, что «безвредная бессмыслица – вот стихия комического, вот истинно смешное» [68]. Этому тезису он противопоставляет свою теорию, иллюстрируя ее на примере повести о ссоре Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем и комедии «Горе от ума» [69]. «Комедия изображает отрицательную сторону жизни, призрачную деятельность»[70]. Так, в повести Гоголя это противоречие «обнаруживается в призрачности, конечности и ограниченности», в комедии Грибоедова оно представляется как «противоречие поступков человека с его убеждениями». Можно сказать, что Белинский первый, кто в абстрактные формулировки философских эстетик вдыхает жизнь. «Низменное» для него не просто противопоставление трагическому, идейному или возвышенному в философском смысле этого слова. Низменное – это прежде всего низменность русской жизни, тех сторон ее, которые были изобличены и осмеяны Гоголем и Грибоедовым. Так абстрактная философия находит свое применение к реальной общественной жизни и к общественной борьбе.
В идеалистических немецких теориях мы могли наблюдать некоторое отрицательное и даже презрительное отношение к комическому как к чему-то низменному по сравнению с возвышенным и трагическим. Белинский же, наоборот, признает преимущественное значение именно комических жанров, а не возвышенных. В статье «Русская литература в 1843 году» Белинский отказывается признавать трагедию как наиболее совершенный вид литературного творчества [71]. Взгляд на Гоголя как на писателя, который якобы оскорбляет идеалы, есть взгляд «толпы», т.е. людей невежественных. Преимущественное значение имеет именно комедия. «Комедия – цвет цивилизации, плод развившейся общественности» [72]. Она не попирает, а наоборот – открывает и утверждает нравственные законы. Трагическая борьба вызывает ужас, сострадание или чувство гордости за героя; комическая борьба вызывает только смех. «Однако же, как будто в этом смехе слышится не одна веселость, но и мщение за униженное человеческое достоинство, и, таким образом, другим путем, нежели в трагедии, но опять-таки открывается торжество нравственного закона» [73]. Понимание истинной комедии недоступно «толпе». Под толпой Белинский понимал не разночинцев или мастеровых, посещающих театр, а совокупность невежественных людей, к какой бы социальной категории они ни принадлежали. Понимание комического требует известной подготовки: «Комизм, юмор, ирония – не всем доступны, и все, что возбуждает смех, обыкновенно считается у большинства ниже того, что возбуждает восторг возвышенный» [74]. Такое недопонимание комического и переоценка «возвышенного» есть результат некоторой недоразвитости. «Идеальное трагическое открывается юному чувству непосредственно и сразу; идеальное комическое дается только развитому и образованному чувству человека, знающего жизнь не по одним восторженным мечтаниям и не понаслышке» [75]. Таких высказываний у Белинского немало. «Юмор доступен только глубокому и сильно развитому духу» [76], – говорит он по поводу непонимания «Мертвых душ». «Чтобы понимать комическое, надо стоять на высокой степени образованности» [77]. «Постижение комического – вершина эстетического образования» [78].
Если превознесение возвышенного отражает литературные тенденции романтизма, каким он развился в Германии, то утверждение преимущественного значения комического, какое мы видим у Белинского, отражает борьбу за реалистическую литературу и ее роль в общественно-политической борьбе. Здесь комедии принадлежит ведущая роль.
Такое значение признается, однако, не за всякой комедией, а только за высокохудожественной. Художественность есть первое и основное требование, предъявляемое писателю. В статье «Русский писатель в Петербурге» Белинский беспощадно громит комические спектакли театрального сезона [79]. «Тут нет ни лиц, ни образов, ни характеров, ни веселости, ни правдоподобия, ни смыслу»,– пишет он о спектакле «Современное бородолюбие» [80]. Этот перечень интересен тем, что он показывает, какие требования Белинский предъявлял к художественной комедии: в ней должны быть определенные лица, образы, должны иметься комические положения, она должна быть веселой и остроумной, она должна быть правдоподобной и осмысленной. Особое значение Белинский придает правдолюбию, т.е. правдивости и соответствию жизни. Белинский не признает никаких преувеличений, никакого окарикатуривания. «Элементы комического скрываются в действительности так, как она есть, а не в карикатурах, не в преувеличении» [81]. Совершенство искусства Гоголя состоит в полной естественности. «Гоголь творит верно природе… Верность натуре в творениях Гоголя вытекает из его великой творческой силы, знаменует в нем великое проникновение в сущность жизни, верный такт, всеобъемлющее чувство действительности» [82].
Другое требование состоит в том, что комедия должна быть смешной. Об этом приходится говорить, потому что на самом деле это далеко не всегда бывает так. «В основе истинно художественной комедии лежит глубочайший юмор»,– говорит он [83].
Но есть и еще одно требование, на котором настаивал Белинский. Комедия имеет огромное общественное значение, но она никогда не должна непосредственно поучать. Одно из проявлений антихудожественности – это дидактизм. «Гоголь убил два ложные направления в русской литературе: натянутый, на ходулях стоящий идеализм, махающий мечом картонным, подобно разрумяненному актеру, и потом – сатирический дидактизм»,– говорит Белинский в статье «Русская литература в 1843 году» [84]. Он смеется над теми авторами, которые в своих пошлых комедиях пытаются искоренить семейные неурядицы, издеваются над учителями-французами и т.д. Этому не противоречит истинная, глубокая идейная направленность, которая изобличает общественные пороки. «Высочайший образец такой комедии имеем мы в „Горе от ума“ – этом благороднейшем создании гениального человека, этом бурном, дифирамбическом излиянии желчного громового негодования при виде гнилого общества ничтожных людей, в души которых не проникает луч божьего света, которые живут по обветшалым преданиям старины, по системе пошлых и безнравственных правил, которых мелкие цели и низкие стремления направлены только к призракам жизни – чинам, деньгам, сплетням, и которых апатическая сонная жизнь есть смерть всякого живого существа, всякой разумной мысли, всякого благородного порыва… „Горе от ума“ имеет великое значение и для нашей литературы, и для нашей жизни» [85].
В свете изложенного можно понять некоторые высказывания Белинского, которые на первый взгляд производят странное впечатление и как будто противоречат тому, что он говорит об общественном значении сатиры. Некоторые представляют себе возникновение сатиры так: писатель видит недостатки и затем, подумав, решает написать произведение, бичующие эти недостатки в комической форме. Возникающую таким путем сатиру Белинский называет ложной. Совершенно иной характер имеют «Мертвые души». «Ни в одном слове автора не заметили мы намерения смешить читателя» [86]. Если понимать сатиру как намерение смешить или изобличать, то «Мертвые души» – не сатира. «Нельзя ошибочнее смотреть на „Мертвые души“ и грубее понимать их, как видя в них сатиру» [87]. В «Литературных мечтаниях» он писал: «Предмет комедии не есть исправление нравов или осмеяние пороков общества…» [88]. Белинский не выносит также окарикатурирования жизни. Но если «Мертвые души» не сатира и не карикатура, то что же они? Ответ – правдивое изображение жизни (точнее, некоторых сторон ее) такою, как она есть. «Совершенная истина жизни» – вот что составляет содержание творчества Гоголя. Юмор его состоит в верном взгляде на жизнь («О русской повести и повестях г-на Гоголя») [89]. «Элементы комического скрываются в действительности так, как она есть, а не в карикатурах, не в преувеличениях» («Жизнь и похождения Петра Степанова») [90]. «Кто же больше и злее смеется над собой, как не жизнь» [91]. «Поэт математически верен действительности и часто рисует комические черты без всякой претензии смешить, но только покоряясь своему инстинкту, своему такту действительности» [92].
Таковы в общих чертах основные мысли Белинского о комическом и его значении в жизни, в искусстве и в общественной борьбе. Взгляды Белинского представляют собой одну из вершин русской эстетической мысли.
Чернышевский и Добролюбов, по существу, продолжают то, что начато было Белинским, хотя они отнюдь не совпадают с ним.
Основной тезис диссертации Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности» [93], гласящий «прекрасное есть жизнь», определяет направление всей революционно-демократической эстетики. «Жизнь» понимается не как некая философская абстракция, как мы это видим в немецкой философии, а как конкретная реальность. Как Чернышевский, так и Добролюбов не строят абстрактной философии, а зорко всматриваются в текущую русскую жизнь.
Ни у Чернышевского, ни у Добролюбова проблема комического не стоит в центре их внимания. Они не придавали такого большого значения комедии, как это делал Белинский, боготворивший Гоголя. В своих «Очерках гоголевского периода русской литературы» Чернышевский минует проблему комизма [94]. Проблема эта интересовала его преимущественно в юные годы. Добролюбова интересовала преимущественно литературная сторона ее. Но после Гоголя крупных художественных комедий и сатир долго не было, и потому высказывания Добролюбова немногочисленны.
В отличие от Белинского Чернышевский изложил свои взгляды систематически. О природе комического он высказывался дважды: в статье «Возвышенное и комическое» (1854) [95] и в своей диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности» (1855) [96]. В диссертации он касается проблемы комического мимоходом, в статье – более подробно. Статья, однако, осталась незаконченной. Проблема возвышенного здесь трактована полностью, раздел же, посвященный комическому, обрывается и не доведен до конца, он охватывает всего 10 страниц.
Чернышевский превосходно знал своих предшественников. Огромный труд Фишера был им изучен досконально. В диссертации фишеровская теория возвышенного подвергается критике. Теория же комического, высказанная Фишером, по существу возражений не встречает.
Как уже видно из заглавия статьи, Чернышевский, также как и Фишер и другие философы его времени, исходит из противопоставления комического возвышенному. Он пишет: «… понятия о комическом, выражаемые обыкновенно в эстетиках, кажутся нам в сущности справедливыми. Если мы и будем во многом не согласны с ними, то в сущности мы с ними совершенно согласны» [97]. Мысль о комическом и возвышенном он развивает так: «Возвышенное, сущность которого состоит в перевесе идеи над формою, находит себе противоположность в комическом, сущность которого – перевес образа над идеею, подавляющий идею, как в возвышенном образ подавляется идеею» [98]. Здесь Чернышевский еще следует своим предшественникам. В дальнейшем он идет уже собственным путем. «Но истинная область комического – человек, человеческое общество, человеческая жизнь»[99]. Когда человек бывает смешным? По Чернышевскому, комическое в человеке – это «внутренняя пустота и ничтожность, прикрывающаяся внешностью, имеющей притязания на содержание и реальное значение» [100]. Этой претензии казаться не тем, что ты есть на самом деле, Чернышевский придает большое значение. Эта мысль представляет собой большой шаг вперед в создании теории комического. Она, например, объясняет комизм таких фигур, как городничий или Хлестаков в «Ревизоре», которые оба выдают себя не за то, что они есть на самом деле. Городничий изображает из себя заботливого и бескорыстного хозяина города, тогда как на самом деле он плут и пройдоха, Хлестаков же делает вид, что он всесильный вельможа, хотя он только мелкий проигравшийся чиновник. Здесь нужно заметить, что теория Чернышевского еще не до конца объясняет дело. Осип, Держиморда, Бобчинский и Добчинский никого из себя не изображают, тем не менее они глубоко комичны. Таким образом, теория Чернышевского требует еще некоторых уточнений. Впрочем, сам Чернышевский не придает ей универсального значения. Комическое имеет более широкие причины: «Все, что выходит в человеке и в человеческой жизни неудачно, неуместно,– становится комическим, если не бывает страшным или пагубным» [101]. Особое значение Чернышевский, так же как Добролюбов, придает глупости. «Глупость – главный предмет наших насмешек, главный источник комического» [102], – говорит он. Это имеет место особенно тогда, когда в основе ее лежит пустая претензия.
О том, что главный предмет комедии – человеческие недостатки, пишет и Добролюбов. «Идеалы составляют достояние трагедии, на долю же комедии выпали… недостатки людские»[103]. Выставление недостатков в комедии имеет общественное значение. «Когда сатирик восстает против недостатков, то у него непременно есть стремление исправить недостатки» [104], – говорит Добролюбов. Один из главнейших комических недостатков – глупость. Глупость, правда, неисправима, но она испытанное средство достижение комического эффекта. Поэтому Добролюбов не поддерживает тех критиков, которые требуют каких-то серьезных комедий. «Комедия не только может, а даже некоторым образом должна представлять бессмыслицу»[105]. «Комедия… выставляет на посмешище хлопоты человека для избежания затруднений, созданных и поддерживаемых его же собственной глупостью» [106].
Некоторые теоретики упрекали Добролюбова в том, что он недостаточно подчеркивает общественное значение комизма. Более прав Эльсберг, который пишет так: «Для Добролюбова, также как и для других теоретиков и практиков реалистической русской сатиры, совершенно очевидна была опасность, которую представляют собой и такие недостатки, как душевная дряблость, слабость, пошлость, с первого взгляда с политической жизнью не связанные, но сказывающиеся тем не менее в конечном счете в той или иной форме на общественном поведении и ценности человека» [107].
Что Добролюбов придавал особое значение именно общественной направленности комизма и сатиры, видно по его статье «Русская сатира в век Екатерины», где он пишет о недостатках, вскрываемых сатириками того времени. Эти недостатки – «неизбежные следствия ненормальности всего общественного устройства»[108]. По мысли Добролюбова, частные недостатки имеют общественное значение, что видно по составленной им программе к изданию предполагаемой сатирической газеты «Свисток», где он пишет, что сатира должна быть направлена против «всего порочного, бесчестного и недостойного человека» [109].
Приведенными цитатами мысли Добролюбова и Чернышевского не ограничиваются. Чернышевский, например, определяет сущность каламбура и фарса, определяет сущность простонародного юмора, касается проблемы, возможно ли комическое в природе. С этими вопросами мы еще столкнемся, когда вплотную подойдем к проблеме смешного.
В своем изложении мы дошли до середины XIX в. Мы брали далеко не все, а только то, что казалось наиболее существенным, важным и умным.
Однако в дальнейшем мы не можем продолжать даже такого беглого обзора, который мы начали.
Начиная с середины 1850-х гг. и до настоящего времени количество трудов, посвященных проблеме комического, все возрастает. Проблема эта трактуется в трудах самого разнообразного характера. Создается множество эстетик, частично больших, многотомных и тяжеловесных, в которых некоторое место (обычно вслед за трактовкой возвышенного и трагического) отводится и комическому. Хотя ни одна из них не достигает такого значения, как рассмотренные нами ранее эстетики, никак нельзя согласиться с мнением Цейзинга, который пишет, что вся история изучения проблемы комического есть не что иное, как сплошная «комедия ошибок» [110]. Авторы этих эстетик обычно резко полемизируют со всеми своими предшественниками и считают их мнения ошибочными, чтобы, в свою очередь, подвергнуться критике в последующих трудах. Многое действительно, несомненно, ошибочно, но каждый мыслитель все же выносит новые верные наблюдения или дополняет и углубляет уже сделанные наблюдения. В это мы входить не можем, а некоторые частные наблюдения, которые представляются плодотворными, будут рассмотрены в своем месте. Из множества эстетик хотелось бы выделить эстетики Э. Гартмана [111], Карла Грооса [112], Йонаса Кона [113], Липпса [114], Кроче [115] и особенно Фолькельта, состоящую из трех томов [116]; во втором томе проблеме комического отводится 200 страниц. Не менее интересны иногда труды по поэтике, теории литературы, в которых теория комического обычно трактуется в связи с определением видов комедии. Мы не будем их здесь называть; о некоторых из них речь еще впереди.
Особым интересом для нас обладают специальные труды, большие и малые, книги и статьи, посвященные специально проблеме комического. Они продолжают появляться по сегодняшний день. Наиболее значительные из них – работы Липпса, Брандеса [117], Селли [118], Гефдинга [119], Бергсона. Есть курьезные работы. Так, в 1896–1900 гг. в Лейпциге вышла капитальная двухтомная работа Юберхорста под названием «Комическое» (Das Komische) [120]. Автор исходит из мысли, что комическое вызвано недостатками людей. Чтобы это доказать, он дает исчерпывающий каталог человеческих недостатков, а заодно также и таких достоинств, отсутствие которых составляет недостаток. Каждый из недостатков иллюстрируется огромным количеством примеров из юмористической литературы – и это самая ценная часть работы. Он уповает на то, что его книга будет способствовать исправлению нравов. Автор – юрист, нотариус. В 1900 г., когда вышел второй том, ему исполнилось 100 лет.
О проблеме комического писались и по сегодняшний день пишутся диссертации, в особенности на немецком языке.
Есть труды, посвященные частным вопросам комического. Из них надо отметить работы о каламбурах (Witz) Куно Фишера, Фрейда и Йоллеса [121].
Наконец, надо еще упомянуть, что проблема смеха и комического интересовала физиологов и психологов, и что есть специальные работы по физиологии и психологии смеха. Такие имелись уже в XVIII в., есть и работы, относящиеся к последним годам.
Казалось бы, что такое обилие работ свидетельствует о некотором расцвете этой отрасли науки и философии. На самом деле это не так. Имеется, наоборот, величайший разброд. Нет никаких более или менее твердо или точно установленных истин и положений. Авторы часто не знают своих предшественников и развивают мысли, которые задолго до них были уже высказаны в старинных трудах по философии и эстетике. При общем разброде наблюдается и иное явление – повторяемость от одного труда к другому, иногда скрытая, иногда очевидная, и это продолжается по сегодняшний день; авторы повторяют друг друга.
Из многочисленных работ конца XIX – начала XX в. в качестве образца мы хотели бы остановиться только на одной, а именно на небольшой книжечке о смехе французского философа Анри Бергсона [122]. Бергсон – один из крупнейших представителей философии интуитивизма. Однако данная работа лежит вне его системы. Она носит скорее даже несколько механистический характер. Бергсон не знал своих предшественников. Он не ссылается ни на Канта, ни на Гегеля, ни на Шопенгауэра, ни на Фишера и вообще ни на одну из бывших до него философско-эстетических систем. Это предохранило его от повторения уже ставших штампами определений и неизменных методических приемов вроде противопоставления комического возвышенному или трагическому. Все мысли Бергсона совершенно самостоятельны и свежи. С другой же стороны, он вторично делает открытия, уже давно сделанные до него. Незнание того, что было сделано, лишает его работу широты, а иногда и глубины. У него есть центральная идея, которая пронизывает всю его работу, у него есть единая система. Идея состоит в наблюдении, которое он называет законом: «Мы смеемся всякий раз, когда личность производит на нас впечатление вещи» [123]. Это иллюстрируется на примере клоунады. «Клоуны приходили и уходили, сталкивались, падали и подскакивали». Движения старались выполняться ритмично и crescendo и, наконец, образ человеческих тел превратился в «образ резиновых шаров, перебрасываемых в разных направлениях» [124]. Именно этим, по мнению Бергсона, вызваны комизм и смех. Эта центральная мысль проводится сквозь всю книгу и прослеживается на комическом в формах и движениях, в ситуациях, речах и характерах.
Из системы Бергсона совершенно исчез человек, а вместе с ним и человеческое общество, т.е. то, что составляло центр внимания русских революционных демократов. Как на самом деле в области комического дело обстоит с вопросом об отношении человека к вещи и механизму, мы еще увидим ниже. В основном теория Бергсона представляет собой модификацию мысли о преобладании формы над содержанием. Стараясь обобщить наблюдения о «теле, берущем перевес над душой», он говорит: мы получим «форму, желающую первенствовать над сущностью, букву, пытающуюся подавить дух» [125]. Мысль о форме, первенствующей над сущностью, высказывается как новая, но она в других словах неоднократно высказывалась и раньше. Тем не менее в книге Бергсона много верных и точных частных наблюдений, о которых будет сказано ниже.