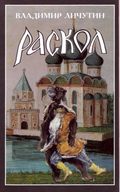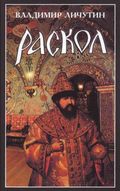Владимир Личутин
Сон золотой (книга переживаний)
Я не принимал этих напыщенных слов, но и правды сказать не мог, но, видимо, кислая физиономия невольно выдавала мое сопротивление, отчего у матери сразу портилось настроение и с нею случался взрыв истерики. Мать нынешнюю жизнь сравнивала с прошлой и теперь по-всему выходило, что раньше все было лучше, полнее, любимее, откровеннее, чище. Мать жила в прошлом, тешила душу минувшими счастливыми мгновениями, растягивала их в воспоминаниях на целые годы, и оттого часто слезилась, куксилась, вроде бы беспричинно, и сразу каменела сердцем от каждого, по ее смыслу, обидного слова, изводя тем самым себя и других. Своей прошлой любовью она мучила себя, сжигала, держала душу в постоянном сладостном наваждении, после которого иногда наступало пробуждение, а вместе с ним и рвущая нервы усталость. Все на свете казалось обманом, ересью, суетой, зряшной пустой канителью, и тогда ей не хотелось жить... Нужен был лишь повод, чтобы уйти навсегда...
4
«Душа неизъяснимая»
«Дети прилипчивы к животным, хотя и тискают порою безжалостно, но тут же и прижаливают беззаботным, наивным сердцем, и плачут скоро просыхающими слезами. И домашнее зверье отвечает своим „тиранам“ ответными чувствами, скоро прощают обиды и часто встают на защиту, ополчаясь даже на своих хозяев. Такая спайка, такое родство живут меж них быть может и потому, что дети еще близко к земле, почти вровень со зверьем, собаку и кошку легко осязают руками и принимают за родню; ведь они тоже дышат и бегают, но так похожи на плюшевых, у них добрые глаза, мокрый чутьистый нос и теплая пушистая шкуренка, под которой волнами прокатывается ответная на ласку телесная дрожь. А взрослые где-то высоко, они под самыми облаками, почти вровень с деревьями, это существа иного порядка – непостоянные, скрипучие и непонятные...
В детстве, как и все ребятишки, я всегда мечтал о своей собаке, намекал матери о псишке, но она отвечала уклончиво, не отказывая прямо, иль вовсе уходила от ответа. Поморские мохнатые собаки жили обычно на воле, возле избы, зимою они зарывались в снег, чаще на гребень сугроба, чтобы далеко было видать, и наружу торчали лишь темно-карие суровые глазки в заиневелых ресничках, черный, как керзовый сапожок, носыря и сторожкие уши. Лайки были покладистые существа, напрасно не ворчали, никого не задевали, однако прощупывали каждого пешего и конного сторожким взглядом, и лишь меж собою часто затевали гневные свары, чтобы отвадить от своих владений заплутавшую иль нахальную соседку. Иногда в большие морозы хозяин пускал собаку на поветь, иль в сени (на мост), но в саму избу заходить не позволялось, а особенно в тех дворах, где блюлись староверские заветы, и в большом углу на тябле стояли иконы. Считалось это баловством и грехом. Кормили собак несытно, не поваживали, держали впроголодь, чтобы помощница не зажиралась и не теряла навыка, давали обычно, что оставалось от обеденного стола, иль залежалось на погребице, поприкисло и попритухло, но если хозяин прибаливал (а это случалось зачастую от простуды), и не мог принести дичины с охоты, то псишку отпускали в лес на самопрокорм, где резвая опытная собачонка всегда затравит зайца или подомнет глухаришку... Собака была членом семьи, добытчиком, и если теряла чутьистость по возрасту и болезни, иль слабела на ноги, то с нею особенно не церемонились, и потому крайне редко преданное существо доживало возле хозяина до старости...
Всего этого я, безотцовщина, конечно, не знал, да и не моего ума это было. Мне просто хотелось иметь собачонку, вот и весь сказ: чтобы она облизывала меня, тыкалась сыренькой носопыркою мне в лицо и преданно ковыляла за мною, куда бы ни поскочили мои вольные ножонки.
Однажды я решился и подобрал у соседей Шавриных на повети заблудшего щеню. Он был не больше рукавицы-мохнатушки, с квадратной мордочкой и черными бусинками глаз. Более красивой собачонки, пожалуй, не сыскалось бы на всем белом свете, так я решил, глядя на безгласное существо влюбленными глазами. Сердце мое замерло, когда я провел ладонью по пушистому загривку. Но куда поместить нового жильца? В тесной келейке, где помещалась наша семья, он как бы везде оказывался невольно под ногами. Но сирота у сиротеи всегда обогреется, верно? Так решил я и коробку из под обуви поставил в тесный проход за материной кроватью возле умывальника. Худшего места нельзя было придумать, но откуда тогда мне, огоряю, найти было ума. Ведь дети живут лишь одним сердцем. Щеня поскуливал, вырывался из гнезда на волю, чтобы обнюхать комнатенку, наследить в ней, поставить меты и признать своею. Сердце мое радовалось псишке, я, елозя за собачонкой на коленях, тыкался в нее носом, тявкал, норовил просунуть палец подальше в зверную черную пасть, кобелек рычал и щекотно прикусывал кожу, а я отчего-то заполошно, счастливо смеялся, как дурачок, опрокидывался на спину и дрыгал ногами. Я не думал, что будет дальше, и как судьба распорядится находкою...
Тут пришла с работы уставшая мать, сумеречно взглянула на коробку, на игривого косолапого щенка и сказала: «Унеси собаку, где взял». «Но мама, – заканючил я, – ты посмотри, какой он хорошенький. Он подрастет и станет жить на улице. Я буду ходить с ним на охоту». – «Ты что, не слышал меня? Живо унеси туда, где взял, – непреклонно повторила мать, стараясь не глядеть в мою сторону. – Нам и самим-то негде спать. Ты уже большой мальчик и должен все понимать без слов». Я отвернулся к окну, захлюпал носом, чтобы разжалобить маму, слезы закапали из глаз. Но сокрушенным сердцем я понимал, что мать права, ради собаки она тесниться не будет и ничего изменить нельзя. На стены, оклеенные газетами, уже ложилась вечерняя северная мгла, и свет от керосиновой коптилки едва добавлял света. Щенок заполз в коробку и затих там, взгорбив спину, словно бы догадывался, что сейчас решается его судьба.
Газеты были наклеены толстым слоем, рядов в шесть для тепла, за годы стали, как защитная броня, в одном месте над материной кроватью я проковырял на пальцем, томясь перед сном, и оттуда, как из оконца, на меня строго, с укоризною смотрел из довоенного времени нарком тов. Ежов в кителе с отложным воротом и в красивой твердой фуражке, будто сшитой из картона. Он словно бы говорил мне: «Ну что, доигрался..?»
Мать подхватила собачонку вместе с коробкой и ушла из дому. Я, крадучись, выметнулся следом, но сразу потерял ее в густых сумерках. Босиком по хрустящему снегу, по жидким проплешинам оттаявшей пахоты я выскочил на косогор, истошно вопя: «Жуча..! Жуча..!» Весенний ветер-низовик путался в травяной ветоши и кустах ольховника, забивал мои вопли, закладывал уши. Чудилось, что это мой родной псишко поскуливает со всех сторон, плачет и зовет к себе. Несколько дней я напрасно метался туда-сюда, искал по задворкам, за дровяниками, в овраге у ручья, за конюшнею, на полях, у родника под угором, где начинались непролазные ивняки и ольховники, – но мой Жуча пропал навсегда, сгинул, будто наваждение, словно теплый ласковый сон... После-то много было у меня псишек, многое и повыпало из памяти, попритухло, пораструсилось, но эта ласковая щеня, как первая блазнь, как желанная детская утеха, до сей поры незабытна мне...
...Дети – чистые наивные существа, но от того, что они еще не познали греха, не боролись с ним, не страдали, – жестокосердые и черствые, живущие лишь своим настроением и плотью. Я не понимал тогда, да и душа не отзывалась, как матери тяжко, непосильно, ведь ей, военной вдове, всего лишь тридцать три года, что она тянет на себе непосильный воз и живет наизнос, и все мысли, все силы нацелены лишь на то, чтобы набить нам, птенцам, брюшишко, поднять на ноги, вечно голодных, ненасытных... И щеню-то оттащила на болото по той же причине, что нечем будет кормить. Мать-то знала о грядущих непременных хлопотах, когда кобелек обрыляет, встанет на лапы; это как бездельного едока принять к себе на постой.
...Я тогда вернулся заполночь. Снег от легкого морозца спекся, схватился корочкой, ломко похрустывал, проминался под зальдившимися босыми ступнями. Из-за туч вынырнула луна, белая, как сахар-рафинад, с голубыми закрайками. Я еще остановился на крыльце, на что-то надеясь, крикнул в ночь: «Жуча..! Жуча..!» Прислушался. В груди у меня постанывало, но слез не было, это плакало сердце от глубокой обиды, которую, казалось мне, никогда не изжить. Мать даже не ворохнулась в постели, в зыбком свете, струящемся в раму, ее заострившееся скуластое лицо чудилось неживым. Брат кротко спал на полу, я мышкой занырнул под его бок и тут же забылся с горькими мстительными мыслями.
...Проснулся я внезапно от тонкого ознобного поскуливания, словно бы к подоконью прибежал мой щеня и с улицы зовет меня. В окно заглядывала луна и в комнате было призрачно светло. Я завороженно приподнялся на локте, как-то худо понимая, что происходит. Мать сидела, скорчившись, на полу в белой ночной рубашке до пят и, прижавшись к железной спинке кровати, стягивала на шее удавку. Моя сестра Рита ползала перед ней на коленях, выдирала из рук веревку и жалобно, с плачем, умоляла: «Мама, не надо..! Мы-то куда без тебя..? Ма-ма, не надо!» «Не пропадете... Государство вырастит...», – отрешенно, в забытье, гугнила мать, с трудом раздирая спекшиеся губы.
Не выказывая себя, я занырнул назад под одеяло в свою нагретую нору, сжался в комочек и, с трепетом поджидая неизбежного несчастья, незаметно уснул.
...Очнулся же внезапно от мерного брякания ложки о дно миски. О как знаком и радостен был этот звук!.. Это мама крутила тесто на блины. Она сутулилась у стола, переступив через наши тела, как темная башня; голова, освещаемая керосиновым моргасиком, была повязана белым платом по самые брови. Мне были видны только горько приопущенные губы и принабрякшие веки. Но весело топилась печь, и беспечные языки пламени резво, с прищелкиванием, прыгая по дровишкам, готовы были выскочить на ледяной пол к нашей постели и обещали мне беззаботный бесконечный день.
«Бедный Жуча, как-то ты там один?» – подумал я, засыпая снова.
...Никогда того случая мы матери не припоминали, чтобы не бередить минувшее.
5
Мама была из Жерди, что в тридцати верстах от Мезени, за Пезой-рекой. Там я впервые едва не утонул. Дедушка Семен Житов, мамин отец, впервые повез меня на каникулы в деревню и, как позднее признавался, спокаялся с этим огоряем. Пока ждали перевоза через реку, я умудрился вскочить в беспризорную лодку, оттолкнулся от берега и меня потащило течением к устью, где неукротимая Мезень-река распахивала навстречу свои широкие объятья. Лодка оказалась дырявой, стала скоро набираться воды, а гребей в посудине не было, и я на глазах ошарашенного деда Семена стал тонуть. Так, не доехав до родовой маминой деревни, я чуть не отдал концы. Дед увещевал меня: «Вовка, ты уже большой мужик. Ведь тебе уже восемь лет, а ведешь себя, как пацаненок...» Уже на следующий день я сунул руку в старую молотилку на гумне, новые деревенские друзья повернули шкиво, шестеренки зачарованно закрутились на валах и мне только по случайности не изжевало напрочь правую руку. Но покалечен я был сильно, во всю летнюю побывку ходил с перевязью через плечо, как военно-раненый, чем изрядно гордился...
Тут, наверное, пора немного рассказать о материной крестьянской фамилии, которую я, непонятно почему, но сильно залюбил, хотя мало, скудно чего помню.
Знаю только, что Семен Житов был в царской армии фельдфебелем, вернувшись из армии, женился на девушке Марии из деревни Николы. Был он приглядист с русыми кудреватыми волосами, с рыжеватыми от махорки навостренными усами и голубыми глазами с улыбчивой искрой. Сколько себя помню, улыбка не покидала его лица. Он был, наверное, даже красив, и ладен, сноровист, хотя судьба была неласкова с ним. В тридцатом году власти признали его лишенцем, у крестьянской семьи отобрали все права, и эта гнетея долго тяжким бременем лежала на горбу, истирая холку в кровь. Дед ходил обозами на Канин за навагою, потом месяц тащились лошадьми до столицы и в Питер, увязав мороженую рыбу в рогозные кули. С Неси, Омы и Пеши, Чижи и Нижи везли кладью глухаря и куропотя, лисицу и песца, горностая и выдру, оленину, камуса, шкуры зверя морского, семгу, омуля, нельму, сига, камбалу и селедку. (В те поры еще много всего было. Помню, когда куропоть летел с тундры, то над Мезенью неба было не видать.) А надо сказать, что служба обозника лихая, студеная, бездомная, чертоломная, когда неделями и месяцами тяжело груженые лошади ползут, поскрипывая копыльями и полозьями, через заснеженную тайболу от кушной зимовейки до другой, чтобы в ночь передохнуть, сменить лошадей; а кругом таежная глушь и безлюдье, ухабы да дорожные просовы и раскаты, тут глаза держи востро, и стоит лишь призаснуть чуток, тут тебя леший и поманит, да кладь-то и стащит с дороги в сугроб, – будь он неладен, анчутка этот, – да и опрокинет, вот и барахтайся по шею в снегу, вызволяй сани аньшпугами из снежной бездны. А если мороз садит и до ближайшей кушной изобки еще версты и версты тягуна и лесного болота?
...Старшего сына Спирю гоняли валять лес, а в двенадцать лет уже и дочь Тоню отправили на сплав на обкатку леса, замелившегося при молевом сплаве. Северные воды студеные, река Мезень глубока и норовиста течением, работа та с багром тяжкая, лошадиная да воловья, дородный мужичина и тот плечи обломит за световой день, а тут девочоночка еще совсем «малеханная», не больше ратовища. ...А ночь в походном шалаше, накиданном из еловых лап на скорую руку, да на комарах и гнусе, мужики те хоть смолят махру да матерятся, да и винца примут чару для обогреву и от устали. А девчонке разве что остается, похлебав кулешу, тихо поплакать в рукав от непонятной обиды и ломоты в теле... Осень, вода уже остылая, покрылась салом, вот-вот пойдет шуга, сапожишки худые, подол мокрый, по пояс в реке, высушиться негде. Железное здоровье надо иметь. И не отвертеться – не отказаться от разнарядки. Там-то и застудилась мама, получила хвори на всю оставшуюся жизнь... Коли лишенец ты, то и помалкивай в тряпочку, тебе никто «таких правов не давал, чтобы пасть раскрывать и нявгать». А к тому же двор обложили непосильной продналогою: молоко – сдай, масло коровье – сдай, мясо, шкуры, яйца, шерсть, сметану, рога – все сдай по разверстке... Сами молока не ели, детям наливали в блюдечко, разводили водой и те макали житенным колобом. Да еще и деньгами пригнетили семью сверх того. А коли каждая копейка в крестьянском хозяйстве была на счету, то бабушке Марии приходилось прикапливать денежку исподовольки, а хранила ее в холщевом мешочке, подвешенном к спинке кровати. Для «прилики», иль по какой-то особой задумке, – может чтобы не попасть в разряд подкулачников и врагов народа, – в переднем простенке висел портрет тов. Сталина. И когда бабушка особенно изнемогала от тяжкой жизни, когда стон и плач стояли в груди колом, и надо было освободиться от надсады, Мария выхватывала из подпечка ухват, тыкала сажными рогами в портрет Сталина и, не таясь, кричала так, что вопль вырывался на деревню: «Чтоб ты сдох, жид проклятый!» Что это за нация такая, жиды? – думал я, слушая рассказ матери, но переспросить не решался; и посейчас полагаю, что мать моя тоже ничего толком не знала про эту породу. А пришло это слово в деревню, наверное, из староверческих духовных стихов...
Бабушка Мария оказалась недолговекой, еще до войны надломилась от житейских трудов и померла... И когда я впервые попадал в Жердь, ее место занимала новая жена Агриппина, тихая, кроткая бездетная женщина, типичная поморянка, принявшая детей и внуков мужа, как своих кровных. (Царствие ей небесное, – желаю я сейчас, вспоминая, как она обихаживала, стерегла, меня, пострела, чтобы вернуть матери живым, – неукорливо, мягко, заботливо, стараясь ничего не забыть и ничем не обнести за едою и в позднем вечеру, когда я, уставший, но счастливый, с горящим от воли лицом возвращался с улицы в избу...)
Но и бабушка Агриппина не зажилась и деду пришлось доживать век вдовцом. Он, чего греха таить, любил поднять стопочку. Но никогда не напивался пьяным, не валялся под забором, во хмелю не бузил, и с лица его не сходило радостное выражение. Помню, питухи уже под стол свалятся под ударами Бахуса, а дед Семен отопьет из стопки, голову на руки уронит, лишь на минуту забудется, потом поднимет улыбчивые глаза, осмотрит застолье, как бы проверяя, пересчитывая гостей, – все ли на месте, – и тоненько, с хрипотцою затянет: «Со вчерашнего похмелья болит буйная голова...Тройка скачет, тройка пляшет, а седоки песню поют...» И так сутки мой дед мог не вылезать из-за гостевого стола. Потом дед заболел легкими, стал кашлять, оплешивел, светлая кудря покинула голову, все реже он стал посещать наш дом, наверное боялся заразить нас. И вот приехал однажды с попутьем, переступил порог, сдернул с головы шапку, и я едва признал деда. У него выросли волосы, довольно густые, пушистые, но какого-то мышиного серого цвета, так что пришлось заводить расческу. Помню, как дед прошел к комоду, на котором стояло зеркало, и деловито, сосредоточенно расчесал голову и поблекшие усы. (За всю жизнь я только двоих знал, у кого в старости заново отросли волосы, – это мой дед Семен и девяностолетняя старуха в деревне Часлово, где я и пишу эти строки.)
Дед Семен Житов, на которого я похожу, но которого так мало знал, и стал неожиданно моим романтическим героем.
У мамы были еще сестра Анисья и младший брат Василий...
* * *
В двадцать седьмом году отец закончил школу второй ступени (девять классов) и решил стать учителем. Его направили в деревню Ому в начальную школу. В тридцатом году перевели в Жердь и отец, не дожидаясь попутного транспорта из Чешской губы, где схоронилась тундровая деревенька, прямиком через болота и десятки тундровых ручьев и речек, не однажды рискуя жизнью, прибрел пешком, сломав длинную рисковую дорогу, – так не терпелось ему попасть на новое место. Поселили его у Ермаковых... Жена хозяина была сестрою Семена Житова, моего деда. Матери в том году исполнилось тринадцать, осенью она пошла в четвертый класс... Тося частенько забегала в соседи, будто по нужде какой, просила то огонька на разживу (и тетка, догадливо ухмыляясь, доставала ей с загнетка живой уголек), то кислой опары для теста, то соли, – а сама, будто случайно, стреляла глазенками, обводила посторонним взглядом избу и невольно наталкивалась на гостя; ее белесые короткие бровки при этом вздрагивали, хотя глаза внешне оставались холодными и прозрачными, но щеки беспричинно будто, наливались брусникой. Учитель, как бы случайно, всякий раз вдруг оказывался на хозяйской половине. Он тоже отворачивался равнодушно, доставал из кармана кисет, медленно развязывал его, рылся ногтем в пахучей махорке, долго скручивал цигарку, набивал табачком, но сердце его каждый раз больно тукало, когда с тугим хлопком закрывалась за девочкой дверь...
Новый учитель Владимир Петрович сразу «положил глаз» на девочку. Она только что прибыла с реки, где вместе с мужиками работала багром, гоняла бревна, лицо ее настегало ветром и дождями, прокалило солнцем, у нее широкий постав плеч, уже девичья грудь, упругие с ярким румянцем щеки, и отчего-то печальные не по возрасту, серые с искрою, широко поставленные глаза. По суровой жизни девочка как бы незаметно перешагнула свой возраст, рано заневестилась и казалась в классе «заблудившейся». После четвертого класса надо было уезжать в соседнее село Дорогорское, в семилетку, или в Мезень в интернат, но мама была дочерью «лишенца», и на этом ее образование закончилось. Девочку отправили снова на сплав окатывать с берегов омелившийся лес...
Однажды они столкнулись на деревенской улице лицом к лицу; Тоська шла чуть попереди девчонок, груди у нее холмушками, немного тяжеловатые для ее легкого, окутанного розовым сарафаном тела, выступала она напористо, словно бы они тянули, подгоняли вперед. Парни (а среди них был и сын хозяина Илья Ермаков, Царствие ему небесное) шли вразвалку, под тальянку, и как водится, что-то ехидное и колкое кидали девицам, а те не оставались в долгу, ловко обрезая языком, и дразняще, глуповато хихикали. Как водится во все века, невестящиеся «курочки» заводили «петушков», знать, приспевало, поторапливало, уже маячило на пороге время любви. У Тоськи лицо было напряженное, волосы дымчато струились, и хотя вечер был задумчиво тих, создавалось ощущение тягучего ветра-морянина. Увидав учителя, она вдруг закраснела лицом, словно бы перед этим только что думала о нем и, не останавливаясь, дразняще выкрикнула громко: «Владимир Петрович, давайте с нами!» Остальные девчонки, поравнявшись, захихикали, уже с особым приглядчивым любопытством оглядели и оценили учителя, а тот от неожиданности так и остался торчать посреди улицы, задумчиво развесив губы. Сразу не решился, а потом показалось неудобным бежать следом, как глупый мальчишка «за мелкотою», недорослями, и потому, неодобрительно похмыкивая, напустил суровость на скуластое лицо. А вольный табунок по грядам каменьев, по переборам проскочил речонку и растворился за можжевеловой порослью на другом берегу, где стоял цыганский табор. Вскоре там стало еще шумнее, заперхали собаки, кто-то тонко, пронзительно запел, разминая голос, и тонкие дрожащие переборы цыганской гитары показались учителю в вечернем недвижном воздухе особенно зазывными и тоскующими...
– Ныне им и вечерка не вечерка. Нет бы дома сидеть. Вовсе оглупали с этима цыганятами. Блазнят они да поманывают дурочек, вот и повадились те к нехристям ходить.
– Это черт приваживает... Такое дикое время, когда Бога забыли и все попустились на дурное, – осуждали старухи, перемывая девьи косточки.
– Будто там медом намазано, так и тянет их туда.
– Дали волю, вот и галят, как оглашенные, вот и жжет да палит кунку дикошерстну.
– Вот уж сглазят котору ли, как девку Сару... Тогда очнутся поди.
– Нынче ведь как повелося. В подоле дитё притащат, как в лавку сбродят за куплею. Скажут: на, мати, водися... Эх-ма.
– Набуздаешь, и дедко даст плетюганов, и станешь, милая моя, водиться, куда денешься. Своя кровя.
Послушал деревенский учитель бабьи пересуды, и так вдруг одиноко стало на белом свете, так неприютно – хоть плачь. И уже прижаливал, клял себя за робость, что вот не кинулся следом; там, небось, весело сейчас, дым коромыслом, кострище палят до небес; Тоська, поди, с ухажером в обнимку, чего им теряться вдали от родительского глаза. Вернулся учитель на постой в свою половину, накинул на дверь крючок и впервые за последний месяц развел в непроливашке сажных чернил: «О, любовь – это летняя ночь со звездами на небе и благоуханием на земле! Почему она заставляет юношу красться по потаенной дороге, а старика горько рыдать в своем одиноком углу?! Ах, любовь превращает сердце человека в сад, пышный и бесстыдный сад, в котором разрастаются таинственные и ядовитые грибы».
Девушку Сару увели цыгане из Мезени самоходкой. Уж как они забрели на дальний Север, какая нужда их толкнула на Белое море, но только за шарком на поскотине, напротив города, они стояли табором все лето, и тем на долгие годы остались в памяти гулевые беспокойные люди, что один цыганенок чем-то обавил, улестил, обворожил юную мещаночку, и она, как ослепленная, села в цыганскую кибитку и, несмотря на плачь родителей, на увещевания соседей, сошла из города навсегда. По дороге они остановились у Жерди, искали на селе постоя, и древняя морщинистая цыганка, обвешанная монистами, прицепилась к учителю: «Дай погадаю, молодой, красивый. Вижу, на душе у тебя горе по службе. Позолоти ручку, положи на ладонь денежу. Не бойся, не украду. Всю правду скажу, что выпадет в жизни».
«Соврешь – не дорого и возьмешь, старуха... – Отказывался, вроде бы, учитель, пугаясь темных глаз гадалки, а душою-то хотел узнать судьбу и значит тайно верил предсказанию. – Ну откуда тебе, бродяжка, видеть, что у меня впереди?»
И сунул ей в ладонь монетку.
Лет пять было ему, когда наезжая молдаванка нагадала Петру Назаровичу, что его старший сын потеряется: «Его ни вода не возьмет, ни пуля, но он потеряется». Ребенок глубоко спрятал предсказание в памяти, но оно, оказывается, не пропадало никогда. Оно пригнетало и тревожило, навевало в душе мрак и морок. А вдруг сейчас старуха подтвердит насуленное?
«И откроется тебе в жизни дорога, – привычно запричитывала цыганка. – Но в ней печаль случится через женщину. Две их будет, я вижу, что две. Одна полюбит, а другая погубит. Той, другой бойся. Позолоти ручку, сынок, все скажу, как есть и что будет...»
«Иди прочь, старая», – с облегчением выдохнул учитель. Подумал: «Все врут. Ходят, собирают сплетни, а после врут. Где она, судьба-то, и кто знает свой час?»
(И третий раз ему было от цыганки предсказание уже в тридцать девятом году летом, осенью. Через месяц его забрали в армию. Мама моя те гневные посулы, оказавшиеся вещими, запомнила на всю жизнь и не раз вспоминала мне.)
* * *
Но стоит сказать, что в крестьянской семье отношение к девочке было зачастую чисто практическим; зная о недалеком неизбежном будущем, ее сразу воспитывали, как будущую хозяйку и мать, ее уже сызмала растили на «выход», на чужую сторону, годами прикапливали приданое, – белье, перины, платье, одеяла, – она ткала на будущую семью холстину, вязала кружева, рукавицы и носки, шила ширинки, полотенца, кофты и юбки, у нее в сундуке обязательно был схорончик, где по грошику собиралась на свадьбу денежка, в семье дочку хоть и прижаливали и любили особой любовью, окрашенной грустью и скорым расставанием, но и часто потарапливали, чтобы не засиделась в девках, а то и сватали, выдавали «силком» в чужую деревню за старика с имением и землею... Если в шестнадцать лет она невеста-хваленка, водит по престольным в большом хороводе, она – наряжуха и песельница, выходит на посмотрение народу в столбовом наряде, чтобы показаться деревенскому парню во всей красе, и после удачного замужества этот наряд прячется в сундук и покоится в нем, уже как приданое для дочери; но если минуло за двадцать, то девушка отныне – вековуха, она упала в цене, ею как бы брезгуют парни, но и готовы «сладенькое разлизать», это девица второго разряда, как бы гриб-обабок, уже оплывший на одну сторону... О том на Мезени в любом застолье пели: «Когда цвет розы расцветает, то всяк старается сорвать. Когда цвет розы опадает, то всяк старается стоптать... Когда девице лет семнадцать, то всяк старается любить, когда девице лет за двадцать, то всяк старается забыть....»
С одной стороны в русской деревне жестко, сурово блюлась девичья невинность, она считалась главным ее богатством, ибо в ком стыд, в том и совесть, а в ком совесть – в том и сам Бог пребывает. (Простыни показывали на свадьбе, есть-нет красное пятонышко от кровички, иль кулебяку разламывали в застолье на утро: если с рыбой пирог испечен, то невеста честная, соблюла себя до мужа, ну а если пустая...) Иная поскакушка, не крепкая характером, наивно доверялась парню, бывая частенько при этом обманутой, то соблазненной, конечно же, немедленно знала вся деревня, и той девице не давали проходу, к ней, как собачьи репьи, цеплялись за подол сплетни и всякие небылицы, парни, которым считалось за подвиг «надуть девке пузо», сами же густо и метили избяные ворота дегтем, и от того позору, какой наваливался на скороспелку, было не только тошно и горько ее родителям, но и девке некуда было спрятаться, но легче всего было бежать с родимой завалинки на чужую сторонушку, где не достанут слухи старухи-переводницы. Казалось, о девичей чести хлопотала вся деревня, вся деревня блюла девичью невинность, стояла на ее страже... Ну, а если девка притащит в подоле до свадьбы, то эта история помнилась уже до скончания века.
Но были в поморье деревни, где «сколотыш», «выблядок», «байстрюк», считались за выгодное приданое, такая невеста ценилась особо, ее брали нарасхват, ибо за парня от общины полагался наделок, душевой пай, свои четыре десятины. Молодая жена приносила с собою не только будущего готового работника, но и землю, что на севере считалось особенным богатством... Случалось, что и малолетнюю юницу отдавали за вдовца, чтобы войти в родство иль получить за нее богатый принос, но приходилось порою и двенадцатилетнего мальчишку женить на рослой в годах девке, чтобы пришла в дом даровая работница... Конечно, всякое бывало на веках в русской земле. Но каждый раз, чтобы ни толковали иные родители меж собою, глядя на рушащееся хозяйство, на собственную бедноту и немочь, но любимую доченьку свою, если было у них не каменное сердце, а живое, конечно же лелеяли в тепле и чести, как голубой небесный крин, стараясь хоть столько-то, пока довелось, натешиться, налюбоваться своим богоданным цветочком. И когда провожали в другую семью, словно бы спихивая с рук, то столько было тогда исторгнуто горестных воплей, столько было плача, что невестины слезы затирали на полу вехтем...
И конечно, когда учитель стал «волочиться» за их дочерью, Житовым было озорко, опасливо, как бы наезжий не надругался над их честью, не поглумился, не посмеялся над девочкой. Ее стали стеречь, прятать, и чем больше закрывали, таили, не выпускали на улицу под всяким предлогом, тем вспыльчивей становился учитель и порою (как вспоминает тетя Аниса, что будучи маленькой девочкой, была передатчицей тайных записок и писем) дерзко порывался выломить дверь, и дело доходило почти до драки. Семену Житову нельзя было особенно держаться за свое мужицкое достоинство и выхаживаться, если в тридцатом он был признан «лишенцем», а значит не имел никаких человеческих прав, чтобы отстаивать старинные крестьянские заповеди. В Сибирь, быть может, и не заслали бы, но и в северном краю нашлось бы много комариных гибельных мест, куда могли бы загнать на выселки вместе с семьею... Но ведь и учителю, потерявшему голову, тоже было опасно вязаться с семьей «лишенцев» Житовых, ибо и на него тоже невольно ложилось клеймо безыдейного, несознательного, заплутавшего меж трех сосен слепого человека... И тут же нашлись люди, что стали засылать «подметные письма».
Верил ли мой отец в приметы, запуки, наговоры и наузы, в прикосы и привороты, – я не знаю. Он был «матерьялистом», Бога драл за бороду, душе места не находил в человеке и жил, как мне представляется, сердцем и натурою.
Но Тося-то Житова была крестьянского рода и хотя крепко была «опоена» новинами и горячечными проповедями учителя, – вот и иконы с тябла из красного угла были изгнаны и упрятаны в сундук, – но тень Спасителя, его неизбывный дух неуловимо присутствовали во всяком деревенском зачине, начиная с утренней обрядни, когда мать Мария замешивала крутое тесто для хлебов, крестя квашню и караваи, и кончая поздним вечером, когда закрывались все горшки и ладки, чтобы черт не плюнул, и устье печи закрещивалось лучинками, и когда тета Улита заползала, кряхтя, на лежанку, сто раз поминая Господа, а хозяйка, управившись с неизбывными делами, уходила в запечье и там молилась горячим шепотом, достав с груди крестик, выпрашивая у Спасителя прощения за свои грехи и милости чадам и домочадцам.