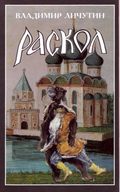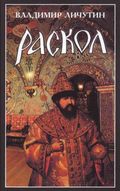Владимир Личутин
Сон золотой (книга переживаний)
7
Помню, ехал я из Архангельска в Мезень на пароходе «Воронеж» по журналистской командировке; на нем когда-то я покидал родину, чтобы увидеть белый свет. Та же надраенная палуба, чуть скошенная назад огромная черная труба с красной «генеральской» лампасой, скамейки, принайтованные намертво, щедрое весеннее солнце плавится в воде, своим отражением залепляя глаза, море лосое, как зеркальце, ничто не колыхнет, не отзовется в нем на жаркие воздуха, лишь сонно покачиваются чайки-моевки, похожие на сетные поплавки; и вроде бабы те же, осадистые, щекастые, грудастые поморянки с ведрами и холщевыми сумками, забитыми городским продуктом, и прежние сухопарые голубоглазые мужики, слегка захмеленные, праздные, с тоскующим от вынужденного безделья взглядом. Может они и были, лишь на десять лет подзаветряли, присъежились, потускнели. Ведь, «старые старятся, а молодые молодятся».
Подле женщин на соседней скамье сидел одноногий бровастый старик в суконной кепке-восьмиклинке и все время подбивал деревяшкой по сапогу, выставив березовую култышку в мою сторону.
«Молодой человек, можно вас на минутку, если не посчитаете за оскорбление, – вдруг позвал он меня и спопутчицы с интересом уставились в мою сторону. Я подошел, отчего-то краснея.
«Вы сядьте, ноги не казенные, – старик пододвинулся, освобождая место. – Если для вас нетрудно и не почтите за назойливость, то ответьте, пожалуйста, на один интересный вопрос. Ваш отец, случаем, не деревенским учителем служил?»
Я кивнул.
«Дальше продолжу в том же роде. Может его звали Владимир Петрович Личутин, и служил он в Азаполье?»
Я снова кивнул.
«Ой, как вы схожи обличье-то! Смотрим, он или не он, боле некому. Вы уж не пообидьтесь, что потревожили вас.» Добрые женщины, они перебивали друг друга и каждой хотелось вставить словечко, глаза наливались быстрой слезой от воспоминаний.
«Ну будя вам, курицы. Налетели на мужика», – пробовал урезонить косоногий старик. Но куда там.
«Мы ведь учились у вашего татушки».
Я невольно прикинул их возраст и поразился, как быстро течет время; значит отцу было бы нынче за шестьдесят.
«Он некрасовитый был, но большой умница. Мамушку-то вашу, бывало, завсе на руках носил. Мы после школы провожали Владимира Петровича, он к себе домой и пригласит, а у вас полы в избы накрашены, печеных пирогов полон стол. Мамушка-то ваша рукодельница была. Уж завсе чай пить посадят. Сам-то учитель чай напусто пил, сахар прятал в железную коробку, копил, а после детям и раздаривал. Вот чаю-то с шаньгами напьемся, а после с горы на санках с нами. В сугроб-от закатимся, да падем, с головой зароемся в снег, смеху-то ой! После нас отряхает. Добрый был. Аня про него и стих сложила. Ты, Аня, не стесняйся, помнишь, как допирали до нас учителя, кто да кто сложил?»
Аня, худая и смуглая, как черкешенка, женщина, обтерла губы уголком платка и прочитала нараспев:
«В Азапольской средней школе учит пять учителей;
Митрофанов, Епифанов, но Личутин всех добрей.
Митрофанов на кровати, Епифашка на печи.
Как грызут-то кирпичи, загибают калачи».
«Ну и ловка ты, Анка, – засмеялся старик. – У нас из веку мода на деревне к сочинительству. – И уже обращаясь ко мне. – А папаша твой умник большой был, ой умник! Сейчас бы ему министром культуры быть иль выше куда. Помню, как роман „Война и мир“ на публику читал, дак не с месяц ли до ума доносил. Народу набьется, в избу-читальню не влезали. Такого свойства был человек, умел вовлекать и к нему все тянулись...»
* * *
Собственно с сапог все и началось тогда. Выдали обувку учителю по разнарядке. Зашла однажды Тося к тетке своей по нужде какой-то. Осень была, дождь с ночи не переставал, грязь непролазная. Глядит учитель, а у девочки сапоги развалились, каши просят. Что толкнуло парня в самое сердце, но только поспешил к себе в боковушку, а у сундука еще новехонькие, ни разу не надеваные сапоги хромовые стоят, только что наробраз выдал к учебному году. Глядятся, как любушки, голенище к голенищу, и через ушки серая бечевка пропущена. Схватил, в сенцы кинулся, а Тося уже за щеколду ухватилась, собралась уходить. Пихнул сапоги в руки: «На, бери». – «Не-не, Владимир Петрович», – испуганно отпрянула. «А ну бери, кому говорят», – прикрикнул сурово, перекинул ей через плечо, словно бы собрал девку в дальнюю дорогу, но чтобы зря не марать обувку в грязи, приказал покамест босиком идти.
«Бери, бери, не вводи меня в строгость», – и вытолкнул за дверь.
Вроде бы вдвоем перепирались в темных сенях, да и на улице пустынно было в осеннюю непогодь. Однако через неделю в районной газете «Маяк» появилась заметка: «Советский учитель-ударник В. П. Личутин из Жердской школы подарил на прошлой неделе сапоги лишенке Житовой А. С, чем опозорил великое звание народного воспитателя. Явно от тов. Личутина В. П. попахивает душком морального разложения. Надо покопаться поглубже в его происхождении и посмотреть, чей он человек и на чью мельницу льет воду. „Неподкупный“.»
Учитель прочитал навет, изорвал газетенку в клочья и от напраслины возведенной на него, стало ему дурно, из носа пошла кровь. (Мама рассказывала, что подобное с ним случалось часто. Видимо, отец был человек неврастенического склада, с туго заведенной сердечной пружиной.)
Быстро засветил коптилку, и крохотный светильничек робко пробил темь. Вгляделся в зеркало: измученное темное лицо, черное пятно крови на рубахе, похожее на неровную прореху. Рухнул на кровать, стал считать до ста, наковаленки в висках приутихли, угомонились. И тут в дверь внезапно, едва слышно, постучали, едва коснувшись кулачком о войлочную обшивку.
«Да кто там? Входите! Не закрыто! – крикнул с раздражением, едва приподняв голову с подушки и тут же захлебываясь кровью. Подумал: так можно когда-нибудь истечь, истаять, и никто не услышит, не спохватится. Дверь приоткрылась робко и раздался стеснительный голосишко:
«Простите, Владимир Петрович, это я.»
Голос прошелестел столь же бесплотно, как недавний стук в дверь. Но учитель уже узнал и его, и пристертое сумерками лицо с напряженно распахнутыми глазами. Он нервно вскочил с койки, не зная, что предпринять.
«Боже мой, что с вами? – изумленно спросила Тося и по-матерински, без тени неловкости, прохладной ладошкой прикоснулась к потному лбу. – У вас жар и кровь, Боже мой, вам плохо?»
«Нет-нет, что вы! Здоров и счастлив. Гули да гули, лапти обули. Даже шутить в состоянии, – рассмеялся учитель, и тут снова ударили в висках неутомимые кузнецы. Зажимая в себе стон, привалился к бревенчатой стене. – Вы пришли ко мне, как странно. Сновидение то или мираж? Сейчас я очнусь, и сиротливое одиночество больно обидит меня. Нет-нет, только не уходите. Я слышу даже, как сладко пахнет от вас ночными фиалками... Значит, вы услышали мой голос, мой зов донесся к вам?» – горячечно, выспренно вышептывал учитель.
«Это все из-за меня. Мне братан донес. Как-то все нехорошо получилось», – заикаясь от волнения и часто озираясь на дверь, повторяла девушка, боясь, что вдруг их застигнут врасплох.
«Я только что думал о вас, честное слово».
«Не говорите так. Вы смеетесь надо мной. Сейчас кликну тетушку. Она мигом поставит вас на ноги».
«Никого не надо, только не покидайте. Они хотели оклеветать нас, глупцы. А мы пойдем рука об руку. Я так ждал вас, я одинокий человек, меня никто не любит. Мне так тяжело, поверьте».
Учитель было словно в горечечном бреду и плохо понимал, что говорит; бестолковые слова прорвали плотину, и сейчас он задыхался в них, не в силах найти самое нужное. Учитель боялся, что гостья так же неожиданно уйдет, как и появилась, потому торопился внушить девушке, что любит ее.
«Я не думал, честное слово. Я не знал, что так хорошо бывает. Я одинок был, поверьте».
«Как вы красиво говорите. Вы все придумываете, – Тося подала учителю влажное полотенце, и он вдруг стремительно прижался к ладони сухими шершавыми губами и стал часто целовать, опаляя дыханием руку и больно, цепко сдавливая ее. – Отпустите, прошу вас. Как стыдно-то, – бормотала она, вся дрожа. – Мы ведь не ровня. Вы всё делаете, чтобы подсмеяться над бедной деревенской девушкой».
Тут в сенцах гулко хлопнула дверь, видно с хозяйской половины кто-то вышел, Тося очнулась от наваждения и выбежала вон.
В газету «Маяк» жердский учитель Личутин послал обьяснение: «Вашу заметку касательно выдачи сапог считаю необоснованной ни на чем. Во-первых в прошлом году Жердская школа, а также школы всего сельского совета не занимались распределением сапог. Одна партия сапог (4 пары) с разрешения сельпо и сельского совета были выданы учителям и сторожу, в числе которых одна пара попала и мне, как учителю. И ношу я их сам, или кто другой, никому до этого дела нет, так как я вторых сапогов не получал... Интересно бы узнать, кто написал эту заметку про меня.»
* * *
Деревенский учитель подкарауливал Тосю и, словно заранее сговорившись, они молча уходили за деревню, забирались в древнюю заброшенную мельницу с поникшими крыльями и напряженно, настороженно сидели в углу клети, пропахшей мучной пылью, дожидались, когда догорит и погаснет день, и опустится на ближние запольки, пожни и навины стылый октябрьский вечер. И когда станет зябко и дрожко, можно будет, словно бы прижаливая девушку, скинуть с себя пальтюху и, неловко прижимаясь, накинуть на плечи Тосе, и, будто бы невзначай, забыть ладонь на ее спине, слыша, как напрягается она и начинает смущенно ускользать прочь, а тогда, настигая и уже балуясь, словно бы понарошке прижать девчонку к себе до томительной слабости во всем теле и шептать задышливым от волнения и страсти голосом: «Любовь не похожа ни на что на свете, – Тонюся. Она появилась на земле весенней ночью, когда юноша видел одни глаза, одни глаза. Я ведь тоже видел только одни твои глаза и ошалел. Смотрел и не мог оторваться. А он, тот юноша, целовал уста, и ему казалось, что два светила столкнулись в его груди.
Девочка молчала, словно бы настороженно прослушивала каждое слово или вглядывалась в себя, в свою зреющую для любви душу.
«Нет, нет, я ведь некрасивая, не пара я вам, Владимир Петрович. Ублажите вы меня словами да и бросите.» – И вдруг решительно сбрасывала с плеч учительскую тощую пальтюшку и убегала в деревню, и уже из тьмы, с пашенной межи, из зарослей можжевельника кричала пронзительно: «Не надо, больше не надо, не приходите!».
Несколько дней Тося Житова пряталась от учителя, завидев его на улице, стремглав кидалась в дом и запиралась на вертлюги и засовы. А на сердце учителя теперь жила постоянная тоскливая ревность, доходящая от смертельного отчаяния; теперь ему часто представлялось, что у Тоськи есть кто-то другой, с кем она милуется вечерами, нашептывая сопернику сладкие слова. Уж какие тут уроки, какие тетради – все забылось, летело прочь, попав под горячую руку. Учитель бродил вокруг избы Житовых, как закодоленная лошадь, вглядываясь в занавешанные окна, далеко за полночь просиживал на изгороди, пугая в предзимней темени прохожих. Так прошла зима, а ранней весной в Жердь приехал из Мезени духовой оркестр, в избе-читальне сбилась вся молодежь, охочая до танцев, а в углу среди стариков и старух, как нахохленный воробей, сутулился учитель, разглядывая веселых, потеющих от кадрилей девок. Он не умел плясать и потому всегда прятался за людские спины, мучительно завидуя обнахалившимся деревенским ухажерам, которые небрежно выхватывали девок из толпы, а после тискали и мяли в пляске. Сияла медь начищенных труб, от багровых музыкантов валил пар, и тарелки ударника выбивали оглушающие громы, особенно возбуждая молодежь. Но вот и духовики уморились; курили тайком, спрятав носогрейки в рукав, тут завелась тальянка, и понеслась по затертому полу деревенская вихревая топотуха.
Рыжий плясун вдруг выкрикнул на потеху публике:
У Ермаковых овцы вышли,
Мы не будем заставать.
Пускай Личутин любит Тоньку,
Мы не будем ревновать..
Тут выскочила в круг Тоська Житова и, сделав руки на груди кренделем, пошла мелкой поступочкой, подманивая рыжего:
Оя-ой, какая грязь,
Калоши наливаются.
Было с осени отказано,
Опять гоняется.
Учителя словно небесным пламенем опалило, так вспыхнул он вдруг до корней волос. Показалось, что весь зал раскололся от оглашенного смеха; ржали красномордые охальные парни, тонко хихикали потные грудастые девки, а пуще всех с прогибом назад заливалась Тоська.
Учитель выскочил в круг, больно схватил девушку, подернул к себе, словно бы готовый ударить с разворота, легкий хмель от недавно выпитой браги вдруг ударил в голову и оглушил. И уже теряя разум и смысл происходящего, учитель закричал, перекрывая смех: «Знай, Антонина Семеновна! Они вырыли мне яму, а ты накрыла ее камнем!»
С того вечера не виделись больше месяца. Учитель вскоре опомнился, загрустил, так и эдак подступался к девчонке, но та каждый раз наубёг и дверь на запор; лишь однажды удалось подстеречь, притиснуть к изгороди:
«Вы зря, Владимир Петрович, мучаете себя и меня. Перед народом стыдно. Зачем преследоваете, ведь ничего из этого не выйдет.»
«Тося, но я же люблю тебя», – осекшимся, пересохшим от тоски голосом почти простонал учитель.
«И не любите вы меня, Владимир Петрович. То выдумка ваша. Вы только себя любите, чтобы вашей душеньке было хорошо.»
«Неправда, Тосенька, неправда. Ты свет моей жизни, ты лучезарная звезда. Мне ничего не надо для себя, я только хочу видеть людей счастливыми.»
«А меня тогда за што обижаете? Што я вам такого плохого сделала?»
«Ну прости меня, прости», – подавляя в себе гордость, учитель готов был встать на колени в весеннюю жидкую грязь на виду у всей деревни.
«И ни к чему всё это. Прощайте». – И ушла. Со спины ничего красовитого, ватная коротковатая пальтюшка, из куцых рукавов вытянулись тонкие белые запястья юницы, еще девочки, смазные бахилы выше колен, наверное братневы. Господи, было бы на что глядеть-то, но ведь так больно зацепила сердце острогою, что закровило оно, застонало вослед: «То-ся-я, вернись!»
Вечером написал карандашом умоляющее письмо и попросил Аниську Житову передать сестре:
«Тося, кто из нас прав и кто виноват? Я большую часть вины кладу на себя, но и ты в избе-читальне сотворила что? – в глазах людей бросила вызов нашей любви. Если я пьяный поступил с тобой грубо, то ты тоже меня можешь, как хочешь, оскорблять, но только не при народе. Ах, как тяжело переносить всё тебе, но и мне теперь тяжело. Когда остаются последние дни до полумесяцевой разлуки, ты желаешь лучше ходить по улицам одна, чем последние дни провести со мной.
Я первый хотел искупить вину. Я первый подошел к тебе с мольбой выйти и выяснить дело, но ты не пошла и после так грубо поступила со мной, что когда я сижу и пишу эти строки, то мне не верится, что это было вправду. Да, я был побит тобой и так побит, как никогда в жизни. И это тогда, когда я ищу человека, который бы понял мои страдания в жизни, облегчил бы мне искренним словом дружбы мою незавидную жизнь, полную печалей, но я в тебе, как в друге, встретил отвращение ко мне. Я перенесу, да и как мужчине не перенести. Позор. Виной всему моя ревность, я боюсь оставить тебя одну. Я хочу, чтобы ты принадлежала только мне. Вот из-за этого я напился. Из-за этого я грубо поступил с тобой.
Тося, любовь, которую я к тебе имею, у меня не погасла, я теперь, как никогда, чувствую, как что-то оторвалось от сердца, и так тяжело мне стало, так тяжело. Охота плакать, хоть успокоиться, но ведь и слез не стало. Стал я жестокий, и стал я грубый. Правильно ты меня тогда обозвала, «что ученый человек, а так со мной поступаешь».
Тося, прости. Вспомни наши страдания, и ты поймешь, что я тебя и не думаю бросать, а наоборот, я у тебя прошу прощения. Приди, Тосечка, и напиши с Аниськой хоть словечушко, придешь или нет. Еще раз прости за все, что совершил».
Ни ответа от девушки, и сама нейдет. Поплелся учитель к желанной, вроде бы нехотя протаскивая ноги, тяня время, почасту оглядываясь назад: думалось, что Тоська вот-вот вытаится из темени, и вся размолвка счастливо сотрется сама собою. Но как ни тянул время, за считанные минуты оказался возле избы Житовых. Учитель, как петух, уселся на изгороди, не сводя навязчивого угрюмого взгляда с темных окон. За речкой на вересовых холмушках пиликнула гармошка, кто-то пропел частушку, ее перебил захлебистый смех. Несколько раз учитель порывался к двери, чтобы выбить ее ногою, выставить из петель, всполошить всю деревню, но боязнь держала на месте: вот откроется дверь, появится Тоська и выплеснет последние приговорные слова. Уже за полночь было, когда раздались на повети шаги, приоткрылась дверь, учитель прянул с изгороди, подался к взвозу.
Вышла Тосина мать, едва различая в темноте учителя, сказала сверху: «Владимир Петрович, вы меня слышите?.. Оставьте мою дочь во спокое. Ведь сердцу не прикажешь. Не любит она вас и видеть не хочет. Она ведь еще совсем девочонка, еще в зрелую пору не вошла, а вы ее донимаете... Ступайте, ступайте. Уже вся деревня над вами надсмехается. Доколь еще людей смешить да скоморошничать..?».
В живых от тех событий осталась лишь тетя Аниса, та самая Аниська, девочка лет девяти, что таскала записки влюбленным. Всю жизнь была она «песельницей», плясуньей, гостей привечать любила, а теперь старуха-вопленница с сухим, будто обожженым изнутри, смуглым лицом и лихорадочным взглядом, – так обстрогали ее годы к старости. Тетя Аниса рассказывала мне, как Владимир Петрович выламывал двери в избе Житовых, добиваясь свидания с Тоней.
Остались лишь воспоминания матери, мной записанные, и отцовы письма.
8
Во вдовьей жизни нет ничего страшнее, оказаться без дров, особенно на крайнем севере; голод не так страшит, можно как-нибудь извернуться из кулька да в рогожку, призанять денежку до аванса, перехватить мучицы, сахарку, кислой рыбки, иль задешево купить куропатку у промысловика, что без лесовой дичи не живет. Но без дровишек и на своей печи замерзнешь, превратишься в корчушку, мороженую наважку. А попросить полено на истопку даже у ближних соседей язык не повернется – засмеют. Без дров, милые мои, и на своей печи около трубы околеешь.
У кого в дому мужик, тем куда легче: пусть и косоногий, с березовой култышкой на ремнях, иль косорукий, с подоткнутым за опояску пустым рукавом, кривоглазый, иль пьянь-пьянью, вздорный и матерщинный, что с ременкой гоняет жену с печи на полати. Ой, миленькие мои, да только бы с полным «кисетом», с боевым михером вернулся, а тогда и радость сердечная продлится, и дети не заставят себя ждать, ибо многой плодильной силы накопили русские солдатики за войну, и ошалелые бабы, казалось, рожали даже от жаркого поцелуя иль помывшись в городской бане после «мужского дня». Сталин верно сделал, запретив аборты под страхом тюрьмы, сознавая спасительное, неукротимое природное влечение к детям. «Родилку» наглухо не зашьешь веретенкой.
Ведь у русского, кроме Бога и земной страсти, есть еще и жалость, и сострадание, и готовая для ласки душа, и совесть, и то самое «Авось», который за вихры вытянет человека из самой-то «безнадеги». Дескать, у Господа не без милости, где шестеро толстокоренышей по лавкам, там и для седьмого хлебенный кусок найдется и ситцевая рубаха. А если и порточков нет, и босым дитешонок бегает середка зимы по студеному полу, – так то, братцы, не беда, которой бояться надо. Были бы кости, а мясо нарастет. Беда, когда детей Бог не попускает на свет. И муж погиб, и под боком никого, вот и доживай век сиротою, как бы внапраслину.
После войны, когда до вдовьего сердца дошло окончательно, что ждать уже некого, что надо свой век самой устраивать, а плоть земная укорливая, привередливая, ей тоже сладенького хочется, и по ночам выказывает она себя во всю нутряную силу, – и вот выплакавшись в подушку в последний раз и, оставив за чертой прежнюю жизнь с благоверным, бабеня невольно начинает зыркать взглядом по встречным-поперечным, высматривать мужичонку пусть и завалящего иль занятого и многодетного, смущать его, подвигать хоть бы на разговленье, на один утешливый часок, а там, как Бог даст: кому краюха с маслом приведется, а кому житняя черствая кроха на один зубок.
И вот помню, что «сколотные», «байстрюки», «выблядки», стали рожаться в нашем околотке, как грибы после дождя, почитай через дом. Но к ним никакого небрежения не было, как и к матерям их, ребятишки были нашего, русского племени, и росли для будущей русской дружины, для общего, государственного делания. И грубоватая приговорка: «Отцов, как псов, а мать родна – одна», вдруг не то чтобы померкла, но повернулась вдруг неожиданной, благодарной стороною. Когда молодые мужики остались в окопах, то «Счастливцевым», вернувшимся с фронта, и тыловикам невольно пришлось заменять «Несчастливцевых», и неожиданно «плодильная сила» человека оказалась для государства в особой цене. Как бы вдруг по всей России, даже в самых-то ее затерянных окрайках, был открыт второй фронт по восполнению русского племени. Теперь за свободного, что в силе, мужичонку женщины порою и поленьями дирывались и платье в лоскуты полосовали. Любви вдовице хотелось сильнее, чем хлеба. И невольно позабывалось, что ребенок не только счастие, но и ярмо добровольное, его с плеч не скинешь, как беремя сена, а надо тащить на себе до скончания жизни. (Вот так и в нашей семье через десять лет после ухода отца в армию появился братик Вася.)
Я и поныне помню, как одноногий мужичонко, запрягши сельповскую иль колхозную лошаденку, отправлялся через болота на далекую Пыю в березовые древние ворги, стоящие по берегам тундровой речонки, и там, напластав дровишек, дырявя культей снежную целину, умудрялся за зиму через семь потов потихоньку наставить на своем дворе морошково-желтые поленницы березняка на зависть одиноким бабехам. А вдовице никто лошаденки не пожалует, это тебе не прежняя деревня, когда весь мир за сиротею с дитешонками стоял и не давал ей во гноище упасть и потерять добрый разум. Вот и изворачивайся, баба, из кулька да в рогожку. Как мыша домашняя, вытягивайся, родимая, в нитку, суйся в каждое место за прожитком, чтобы сохранить детям здоровье.
Ведь зима на северах бесконечная, обжорная, и если снега завьют в феврале, так до апрельских оттаек, если морозы уставятся на рождество, так до майских подвижек реки. «Май – коню сена дай, а сам на печку полезай». Но как вдовице быть, если и матерый-то мужичище весь отпуск отводил на заготовку: измочалится, задымеет, замглится лицом, почернеет и ссохнется, пока-то вытащит на горку дрова... А маме приходилось истопку покупать (ну сажень-другую), на большее, пожалуй, не оторвать с куцей зарплаты. Остальное промышляй, баба, сама, если хочешь выжить; хорошо коли ребятки уже подгадали летами и могут топор держать в руках.
Помню, топоришко – тоже вдовья забота, за ним по соседям не пойдешь, надо свой иметь, а плотницкий топор нужен вострый, прикладистый к руке, иначе над одной деревиной ладони искровянишь и слезами обольешься. Потому топорище – первое, что я, еще ребенок, смастерил из березового полена, зачистил осколком стекла; причудливое получилось изделие, изгибистое, фасонистое, заковыристое без нужды, но к ладони прилегало без особой косины и ковыряния. В этом ремесле тоже свой опыт нужен, чтобы топор не клевал на сторону, чтобы его не кривило, когда бревно кантуешь, щепу гонишь; и насадить надо было ладно и плотно, чтобы жало топора стекало в одну линию с осью рукояти. Мне нравилась моя первая работа, но, увы, у топорища жизнь короткая, его быстро исхлещешь, если рука вдовья иль мальчишеская. Ну, а ежли топорище сам умудрился смастерить, значит ты мужик уже полноценный, хозяин, есть на кого матери опереться. Это как бы первый жизненный урок. С этого времени и в работы можно наниматься. Ведь иной человеченко до конца жизни своей топорища не вырубит, а значит руки у него «не к тому месту пришиты».
Лезо топора я направил у соседей Шавриных на большом круглом точиле с корытцем для воды. Тот камень ломали на Зимнем берегу, а после развозили по всему Поморью. На круге правили не только топоры и ножы, но и косы. На севере их не отбивали на наковаленке.
И вот топоришко у нас заимелся, уж не сказать, чтобы очень приемистый, но из бабьих рук не выпадал, тем более, что мама с детских лет осенями работала на сплаве, а зимой в лесу на валке, где девушек заставляли «карнать» сучья... Надо сказать, работа эта сатанинская, стожильная, и мужик, даже самый дюжий и зараженный на работу, скоро уставал от ее монотонности и надсадности. Но считалось, что русская баба все стерпит, да и кто услышит ее скрытый сердечный воп! Разве что подушка, ночная подружка. Поползай-ка по пояс в снегу на морозе среди сваленных елин и сосен, как бы нарочито вдруг павших поперек, да к тому же с хищно распростертыми во все стороны лапами, когда каждая норовит тебе подставить подножку, зацепить за подол, да потяпай-ка топором сучья до измору с раннего утра, когда еще солнце не взошло, и до вечерних густых сумерек, когда Лопатина твоя – холщевая юбчонка и подергушка на вате – окостенеют на морозе, станут, как железный негнучий панцырь, волосы от пота собьются в колтун, и в каждую-то щелку навьется снега, и каждая телесная жилка стоскнется от стужи. Так что маме лесной труд был невдиво; но ведь прежде она была молодая, здоровая, телом налитая, как нетель, кровь с молоком, нервы-веревки, и глубокий сон за ночь даже в шалаше, на комарах, восстанавливал угасшие силы.
Да, на северах народ издревле бился за каждую дровину, но родину не хулил и не ударялся в бега в лихое время, чтобы спасти свою шкуренку. Каждый клоч поморской земли был отмечен мужицкой вешкой, – крестом ли оветным, могильным гурием, рыбацким становьем, избушкой зверобоя, Волочком, сельцом и погостом, церковкой на гляде у моря и прозвищем-приговорищем, чтобы ведали иноплеменники и не покушались на чужой каравай, – что и здесь, в этой глухой стороне, на тыщи верст земля вековечно наша, русская.
Городок Мезень, стиснутый болотами, вытянулся по угору версты на две; внизу под горою по самую реку поскотина, заливные луга, а чуть левее – калтусина, сырь, дудки-падранки и осотник, бочажник и кочкарник, где сам черт ногу сломит, самые неудоби, поросшие чернолесьем: ольхой и ивняком. Здесь-то, в засторонке от города, и была, как бы самим Господом отведенная вдовам, сиротская деляна, где бабы-колотухи зимами заготовляли дровье. По теплой погоде туда не пройдешь, под рыхлой переновой долго пучится темная глухая вода. Ждали, когда мороз крепкий перепадет и снегу поднавалит, чтобы сухой ногой попасть в калтуса.
Вот и самая пора приспела. На горке у дома пусто, обжорная печка все дрова приела, нечем ей ненасытное пузцо набить да и нас обогреть. Поневоле сряжаемся мы с матушкой за истопкой. Санки-чунки наготове, обледенелые скрипучие, с ободранными о дрожные клочи полозьями и поистертыми копыльями. Незавидные, надо сказать, санешки, но без никуда на северах. Уже по первому снегу, чтобы не переться к роднику с ведрами, ставишь на чунки ушат, – и за водицей. А водица та хоть и из гремучего хрустального родника, бьющего из камешника, но живет далеконько, в подугорье, надо всю Чупровскую улицу пройти, руки оттянет у мальца, не раз отдохнешь в дороге. И вот ушат на санках – спасение и ликование детской душе. Притянешь ко крыльцу, вставишь в ушки ушата долгое коромысло и с матерью затащишь в сени, – тут тебе, братец, самое место. За ночь-то вода оденеться в броню и поутру, чтобы умыться, бьешь ее наотмашь ковшиком, так что разлетается в стороны ледяное крошево. И невольно хватишь глоток «холодянки», и аж дыханье перехватит, и зубы заломит, а по черевам прокатится со щемью живая вода, дар от матери-сырой земли. (Это в нынешних воспоминаниях лирический окрас переживаний, с некоторой сентиментальностью, а тогда чувства охватывали первобытные, звериные, без психологических тонкостей, но ощущение щенячьего восторга, не выразимое словами, было.)
Санки, прислоненные к стене, ждут на улице. Топор – всегда готов, штанишонки внапуск на подшитые катанки, чтобы не набилось снегу, у матери длинная холщевая юбка, почтовая тужурка, низко напущенный на брови шерстяной плат, туго сведенный в нитку рот, страдальческие морщины в углах рта, в серых глазах сизая мгла. Когда нет на лице улыбки, мама кажется мне старухой. (А ей всего лишь лет тридцать пять.) Она только что с работы, ей бы перевести дыханье, да после спроворить ужну для детей, а она, вот, впрягайся в веревочные постромки, и как подневольная лошадь, ступай исполнять очередное послушание. А сумерки зимою напускаются на городишко рано, багровой краскою измазывается запад с противного берега реки, где неровно громоздятся синие ельники, а за ними без конца-края замерли в ожидании ночи волчьи болота. И к нашей избе с тылу тоже приступают тундры, зимой, заметенные снегами, особенно немилостивые, и среди кустарника – еры вместе с куропатками и горносталями поскакивают нетерпеливые бесы, дуют, гнусавые, в кулак и ведут с путником недобрые игры. С северо-востока тянет «хивус», суровый ветер-полуночник, к морозной ночи он окрепнет, и когда придет пора возвращаться в домы, станет жарить нам в лицо.
Мне тоже выходить из тепла на холод не в радость, я уже набегался после школы, пытаюсь канючить, тяну время, ищу щелку, чтобы увильнуть от заботы, но мама непреклонна: «Я вас кормлю-пою, убиваюсь, сна не знаю, на горке ни полена, нет бы матери помочь, лентяй». Я покряхтываю, морщусь, с ленцою натягиваю на плечи затерханную одежонку, справленную из старого материного жакета. Ростом с валенок, уши лопухами, мать невесело взглядывает в мою сторону, как я одеваюсь; ей и жалко меня, но еще жальчее себя за свою горькую судьбину. Наконец-то мы срядились, вываливаемся в заулок, мать впрягается в лямку санок, а я, будто жеребенок, бегу рядом, ветер подталкивает в спину, по зальделой укатанной дороге шагаем бойко, пока не спускаемся в низину, в чернолесье, уже изрядно обтюканное, по пояс в снегу, почти по-пластунски, бредем вглубь каравого, причудливо изогнутого под северными ветрами лесишки, выбирая деревину помясистее.
Мать по-бабьи, без замаха, тюкает топором, замороженная мякоть ольхи оранжевая, будто напитанная кровью, поддается плохо. Но вот одолела, подпихнула плечом, лесина, прощаясь с товарками, шурша, цепляясь прощально ветвями, плюхается в рыхлый снег, утопает в нем. Мать торопливо «карзает» сучья, велит мне тащить ольшину к саням, а сама приступает к следующей. А дрова неукладистые, корявые, то дугой, то рассохой, зальделые, тяжелые, будто выкованы из железа, санки прогонистые, но узкие и попробуй кладь увязать толком. Вот и пурхаешься в снегу, ломая поясницу, чтобы собрать дровину в груд, но и оставить жаль, силы трачены. Наконец, впрягаемся в лямки, мать расправляет на плече толстую промороженную веревку, я подтыкаюсь возле, напруживаемся, наискивая пяткой опору; ой, главное с места стронуть, а там, как Бог даст, может и пособит выбраться из целины, из этой бродной снежной гущи на дорогу. Раскачиваем санки, только чтобы не опружить, пятимся спиною шаг за шагом со злой настырностью, дергаем из последних сил, на хлебном паре, хриплый стон вырывается из материной груди, что-то забулькало в горле, – то ли смех, то ли плач, – а уже стемнилось совсем и маминого лица почти не видать. Вершинник, огрузнувши с чунок в снег, цепляется, как якорь, не пускает несчастных из калтусины, будто воришки мы какие и схитили чужое.