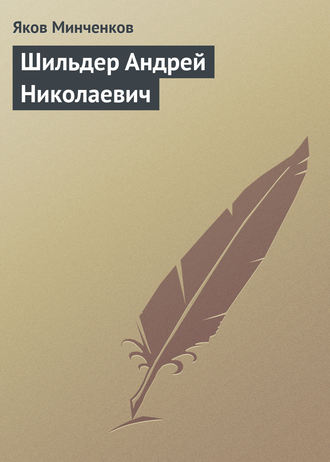
Яков Минченков
Шильдер Андрей Николаевич
– Кончилось, – утверждала жена, – и теперь надо всем идти и работать в народе.
– По-твоему, мы приедем в деревню, поселимся в барской усадьбе, и я буду этюды писать, а ты землянику, молоко да яйца покупать у благонравных поселян и им книжечки читать о разном вреде и разной пользе?
– И буду читать и буду учить!
– А они тебя, барыню, прежде всего прогонят.
– Как, за что?
– А за то, что ты еще сидишь на барском месте, которое им принадлежать должно.
– Нет, нет, вы неверующие, и вам должно быть стыдно! А мы поедем, и нам ничто не грозит в деревне. Вот увидите!
Она ушла от нас с раздражением. Нам было неловко, что мы как будто обидели человека в его добрых чувствах и намерениях. Но мне в то время казалось, что готовится новый номер журнала, посвященный, наподобие прежних, славянских, вопросам крестьянским, и такой же доброжелательно-безличный.
Стоя среди полуосвещенной мастерской, Шильдер рассуждал как бы сам с собой:
– Кто знает – может, жена и права? Может, я малодушный? Сейчас – как удар весеннего грома, освежающий атмосферу. Разрядилось, наконец, и я чувствую, что могу жить, а главное, по-новому.
Он начал возбуждаться все более и более:
– Хочется выйти на площадь и покаяться перед всем народом. Кающийся интеллигент? Пусть так. Я бы сказал всем направо и налево: грешен я, во грехах родился и всю жизнь кипел в котле греховном. Угодничал, разменивался на пятачки и чего ради – не знаю. Теперь я проклинаю все и отрекаюсь от прошлой пошлой жизни.
Он приходил все в большее возбуждение; я хотел перевести разговор, чтобы его успокоить, но он не поддавался.
– Ты думаешь, что это одни нервы? Что завтра я буду прежним? Стану снова писать пейзажики по заказу тех, которые платили мне за проданную мою душу? А вот не стану! Сорву со стен все, что делал в угоду им сознательно и бессознательно, уничтожу! Оставлю только одну правду – свои рисунки, и начну – что и как, не знаю, но только не по-прежнему.







