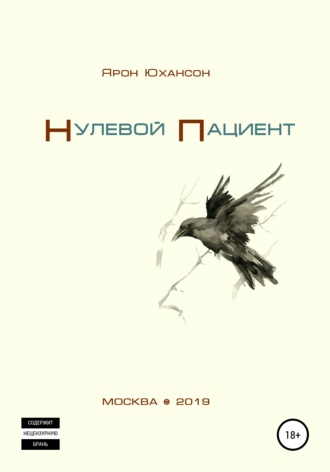
Ярон Юхансон
Нулевой пациент
Здесь томились родственники фон Клейна и фон Папена, сын палача Нидерландов Зейс-Инкварта, фельдмаршал Ф. Шернер, венгерский генерал Ласло Деже, до войны работавший военным атташе посольства Венгрии в Москве, помощник военного атташе Германии в Японии Рудольф Петерсдорф, лично знавший Рихарда Зорге, офицер Вермахта художник Ганс Мрозинский, ставший после возвращения на родину преподавателем Дрезденской академии искусств. Сюда же попали почти все приближенные Гитлера: его личный адъютант, майор СС Гюнше, старший камердинер Линге, шеф-пилот генерал-лейтенант Г. Бауэр. Всего в «контингенте» было 530 генералов, тысячи офицеров, дети видных политиков и ученых, научная и творческая интеллигенция, дипломаты. Статус лагеря был настолько высоким, что его начальник назначался и смещался лично наркомом внутренних дел.
А осенью в лагерь привезли последнего китайского императора Пу И. Довелось ли ему пообщаться с командующим маньчжурской армией японским генералом Кейсаку Мураками, сидевшим там же, история умалчивает, но о его истории хочется рассказать немного подробней.
В 1931 году японская Квантунская армия захватила Манчжурию, в следующем году провозгласила независимость северо-востока Китая, назвав новообразовавшуюся страну Маньчжоу-Го. Главой нового государства назначили императора Пу И. Но в августе 1945 году в Манчжурию вошли советские войска, марионеточное государство распалось, Пу И подписал акт об отречении от престола и попытался бежать в Японию на самолёте, но был задержан в аэропорту города Шеньян и отправлен в СССР.
Почти шесть лет он находился в тюрьмах Хабаровска, Читы и Красногорского лагеря, пользовался привилегиями и особыми условиями содержания. Чекисты очень быстро склонили его на свою сторону, и марионеточный император стал давать свидетельские показания против японских военных командиров в токийском суде, утверждая, что стал руководителем Маньчжоу-Го по принуждению и что всё делал под давлением и по указке японцев.
Дважды Пу И письменно просил Сталина принять его в ВКП (б), указав, что во время заключения ознакомился с трудами Ленина и Маркса и находит их очень глубокими и производящими большое впечатление. Однако Сталин не удовлетворил его просьбу.
Узнав, что власть в Китае захватили коммунисты, Пу И написал письмо Сталину с просьбой не депортировать его в КНР. Он был уверен, что в Китае его ожидает смертный приговор. Однако Сталин и на этот раз не обратил на его просьбу внимания, и в 1950 году Пу И был передан китайскому правительству. Узнав о решении Сталина, Пу И попытался совершить самоубийство, но попытка закончилась неудачей. В Китае его отправили в тюрьму для военных преступников, сначала в город Харбин, а потом в Фушун, где он содержался под номером 981.
В декабре 1959 года Мао Цзэдун амнистировал Пу И, сказав при этом следующее: «Этот преступник пробыл в заключении почти 10 лет. В течение этого времени он прошёл преобразование физическим трудом и идеологически перевоспитался. Он действительно уже проявляет отказ от зла и стремление к доброте и может быть освобождён».
После освобождения Пу И устроили работать садовником в Пекинском ботаническом саду, а потом архивариусом в национальной библиотеке, где проработал до самой смерти.
У Пу И было пять жён, и ни от одной из них у бывшего императора не было детей. Умер он 17 октября 1967 года от рака лёгких. Тело его кремировали, а прах захоронили на пекинском кладбище Бабаошань. И на этом была поставлена последняя точка в жизни Айсина Гиоро Пу И, а с ней и история правления китайских императоров. Древняя культура и традиции, являющиеся душой каждой нации, в современном Китае заменили партийной культурой и коммунистической идеологией.
Победа внесла коррективы в деятельность образцово-показательного лагеря. Жизнь постепенно переходила на мирные рельсы. Нужно было восстанавливать разрушенную страну, и НКВД позаботился, чтобы в лагерь № 27 попадали лучшие мастера и специалисты, изобретатели, люди с высшим образованием. Где работали пленные? Парадоксально, но их труд широко использовался на так называемых номерных заводах и объектах силовых министерств.
Ярче всего таланты сидельцев проявлялись в лагерных мастерских, где выполнялись заказы эксклюзивного характера. Таковых было несколько. В механических ремонтировались все трофейные немецкие автомобили, в столярных изготавливалась дорогая мебель для правительственных учреждений. В швейных и в обувных цехах шили одежду и обувь для высших чинов МИДа и МВД, сотрудников газеты «Правда», артистов столичных театров.
В те годы было принято регулярно посылать подарки в Кремль. В этом деле учреждение № 27 всегда было изобретательнее других лагерей. Чего стоил, например, столик тонкой работы с инкрустацией по дереву и надписью: «От немецких антифашистов лучшему другу немецкого народа». Но самым грандиозным даром генералиссимусу стало творение японских пленных из Красногорска. Они написали письмо Сталину на шелковом полотне длиной 26 метров и весом полторы тонны, вышив 14 тысяч иероглифов.
Мастерили, вытачивали, рисовали красногорские пленные чуть ли не поголовно. Вместо холста использовали картон и вафельные полотенца. С помощью осколков стекла вырезали из дерева шкатулки, широко использовали выловленные в супе кости. Особой популярностью пользовалась картина Шишкина «Утро в сосновом лесу», видимо потому, что репродукция этого полотна висела в кабинете Лаврентия Берии. Лагерные «Шишкины» воспроизводили картину по памяти, поэтому количество медведей на копиях варьировалось от трех до шести.
Был среди военнопленных и врач Конрад Лоренц, впоследствии великий австрийский ученый. Его детские книжки о повадках зверей и птиц до сих пор читаются с большим интересом. Это был удивительный человек, основоположник совершенно новой науки о поведении животных – этологии. А свою первую научную книгу «Восемь смертных грехов цивилизованного человечества» он начал писать именно в Красногорском лагере. В последствии, в 1973 году за эту работу он получит Нобелевскую премию.
А вот румынскому инженеру-танкостроителю Балабану не повезло. Он долго и безуспешно пытался реализовать свои идеи протезов, хотел помочь искалеченным солдатам. Бывший сотрудник лагеря Евгений Ермаков позже вспоминал: «Ему предлагали работать на вооружение, он отказался. Я доставал ему краски и бумагу, он сделал много невиданных тогда моделей: кисть руки двигалась, на пальцах были окошечки – чтобы чувствовать. Эту руку возили в Москву, но дело не пошло».
Много народа было задействовано на стройках. В Красногорске военнопленные сооружали дороги, жилые дома, пристройку к школе им. Пушкина, стадион «Зоркий». За городом – пионерский лагерь, в Опалихе коттеджный поселок, дачи для партийной и армейской номенклатуры. Объектом особой важности являлось здание архива НКВД. Сейчас в нем расположен Всероссийский архив кино и фотодокументов.
В образцовом труде заключенные видели шанс побыстрее вернуться на родину. Одни рисовали, другие пели, третьи играли в оркестре, четвертые репетировали в драмкружке. Женские роли в спектаклях исполняли мужчины. Но плен оставался пленом.
Освобождение немецких военнопленных из лагерей началось два года спустя после окончания военных действий. В первую очередь оно коснулось раненых и больных. Массовая депортация пришлась на 1949 год. Бывшим узникам возвращались личные вещи, часы, деньги, драгоценности. С этого времени лагерь № 27 стал важнейшим пунктом подготовки судебных процессов против военных преступников. В 1950 году Красногорское учреждение опустело, 10 тысяч человек были осуждены и отправлены по этапам в спецлагеря и тюрьмы. Война давно закончилась, надежда на свободу у пленных таяла. Душевное напряжение тех, кто ожидал суда, достигло апогея.
А что же произошло с героем романа? Всё по порядку, как говорится, в свое время, следуя законам жанра… Офицерский состав был откомандирован в отдел кадров ГУПВИ[4] МВД СССР, ликвидация лагеря закончена 5 января 1951 года, все материальные ценности переданы полностью, довольствующие органы к лагерю претензий не предъявляют».
Последние эшелоны с железнодорожной станции Павшино отбыли через город Брест во Франкфурт-на-Одере. Лагерь № 27 прекратил свое существование… Однако вернемся к Питеру Стоуну и его драматической судьбе, полной приключений «в голливудском стиле», но предельно реальной. Жизнь сильнее вымысла. И порой она преподносит нам такие сюжетные коллизии, которые невозможно нафантазировать.
Глава вторая
Москва, Белорусский вокзал, 22 мая 1945 года, утро
Всю весну Москва торжественно встречала победителей в Великой Отечественной войне. Об этом уже много написано. Но в то же время в столицу СССР почти каждый день прибывали и другие эшелоны. С военнопленными. Встречали их не оживленные радостные лица и цветы, а хмурые взгляды и мрачные силуэты конвойных войск НКВД. Люди, находящиеся в теплушках, точно также прошли все мытарства войны, пережили ужас и боль, близость смерти, а теперь еще и многодневный плен, бессонную тряску в зловонных вагонах и мучительную обречённость впереди. Потому что никто не мог поручиться за их жизнь в дальнейшем. Поскольку они были не победителями, а побежденными, и это решало всё, всю будущую судьбу. Но насколько же было обидно тому, кто оказался среди этой растерянной жалкой толпы случайно, несправедливо, волею трагических обстоятельств? Об этом мог знать и чувствовать лишь он сам…
Из всей однородной массы немецких военнопленных, вывалившихся по команде из теплушек и выстроившихся в два ряда на дождливом перроне, переминавшихся с ноги на ногу под охраной автоматчиков, выделялся один человек. Нет, не высоким ростом, хотя и этим тоже. Имелись тут и повыше. Всякие были в этой настороженной обреченной километровой очереди за неизвестной пайкой судьбы. Длинные, как сухие изогнутые жерди в плетне, короткие, словно нарубленные полена для костра, круглые, будто опустошенные бочонки с остатками пива. Физиономии, в общем-то, совершенно разные.
Это только кажется, что люди в толпе сливаются в одну цельную массу, в большое темное расплывающееся пятно. Заблуждение. Глаза, взгляд не спрячешь. Он или испуганный, конченый, сдавшийся. Или растерянный, или затаённый, решительный. Или сосредоточенный. Или же, как говорится, не от мира сего. Этим один человек и отличается от другого. Вот почему толпа никогда не бывает однородной. Хотя почти всегда бездумно единодушна. Она многолика, многорука, многоголоса, а когда приходит час и возвращается личностный разум, распадается на отдельные островки. На уцелевшие в мясорубке человеческие души.
Человек, стоявший в первой шеренге, сдавливаемый с обеих сторон невольными товарищами по несчастью, даже в таком положении выглядел одиноко, держался как-то особняком, словно белая ворона среди черной стаи. Худой, бледный, аристократичный. Подчеркнуто независимый. Да и одет он был, если присмотреться, несколько не так, как все остальные. Форма – да, военная, обношенная, грязная. Но не солдата или офицера Вермахта. Хотя похожа. Но кто будет всматриваться? Пленный немец, и всё. Точка.
Разбираться будут потом. Когда довезут в грузовиках до особого оперативно-пересылочного лагеря для военнопленных № 27 в подмосковном Красногорске. Так было объявлено при выгрузке из теплушек на перрон. По крайней мере, у него на это была вся надежда. Вот это и не давало человеку окончательно пасть духом. Ведь не может же быть так, чтобы роковая случайная ошибка не была исправлена. Пусть не сразу, но зато неизбежно, законно и справедливо. Вера в это только и согревала душу. Как птенчик за пазухой. Он знал, что они должны, обязаны и будут разбираться, что запустят веретёна, знакомые ему из прошлой жизни. Знал, что офицеры ответственны и не проявляют малодушия, знал, что инициатива поощряется. Но он ничего не знал о русском мироздании, не знал, что это отдельная сфера, другая стихия и не понимал тех, кто принимает решения в этом, быстро меняющемся мире.
На вид ему можно было дать тридцать лет. Может быть, больше, но никак не меньше этого возраста. А впрочем, определенно сказать было трудно, ведь война редко кого молодит, только уж совсем отмороженных убийц и садистов, находящих в ней особую сладость. Всех же остальных нормальных людей старит, сжигает отпущенные им земные годы столь быстро и неумолимо, что один день на войне идет за десять. Да прибавить сюда еще и почти трехнедельный плен, который вынес этот человек, аристократ, англичанин, если уж приоткрыть тайну его происхождения, душевную сумятицу, вынужденное одиночество и замкнутость среди недавних врагов.
Питер Стоун стоял в первой шеренге и осматривался. Фуражки и пилотки все держали в руках. Мысли его были далеко отсюда. Конечно, война уже закончилась, но только не для него. Его главная задача теперь – донести всю правду до русских офицеров и ждать принятия решения. Правильного решения. Должны же среди них быть нормальные разумные люди, которые разберутся. Конвойные, рядовые и младшие офицеры – он уже имел возможность убедиться в этом, – его не понимают и даже не хотят понять. И теперь главное – любой ценой выжить в этой новой битве за жизнь… Ни в коем случае не сломаться, не сдаться, не плыть по воле волн, как потерпевший кораблекрушение сапиенс. И при любых обстоятельствах сохранять честь и достоинство.
А навес над перроном, крышу вокзала, водостоки и ветви деревьев в этот ранний час облюбовали черно-серые вороны. Такие же, как в Лондоне, только там они просто черные. А эти, московские, жили тут всегда. Вокзал – их родной дом. Утренние поезда встречали крикливым каркающим хором. Днем улетали, растворялись по окрестностям. А ночью возвращались к навесам. Когда после Великой Победы на Белорусский вокзал стали приходить эшелоны с советскими солдатами и офицерами здесь гремели марши, праздничная музыка, звучали торжественные речи, многие окрестные жители думали, что стаи ворон исчезнут навсегда; не по ним весь этот шум. Но не тут-то было. Ворона – птица умная, облюбованное место не бросит. Чувствует себя хозяином. И злопамятная. Если представится случай, отомстит человеку за нанесенную обиду или беспокойство.
Вот и сейчас стая черно-серых птиц вдруг сорвалась с навеса и стала кружить над военнопленными и автоматчиками, оглашая воздух громким синхронным карканьем. Один из солдат что-то выкрикнул скороговоркой, взмахнув кулаком. Кто-то в шеренгах засмеялся. Вороны продолжали кружить. И тут одна из птиц метнулась вниз и, резко спикировав, почти задела клювом чью-то голову, крылом – другую, а потом тотчас же взмыла вверх и присоединилась к своим подругам. Всё это произошло за секунду.
Голова, выбранная для вороньей «вражеской атаки», сидела на плечах того самого аристократа, одетого в непохожую на остальных военнопленных форму. Стоящий слева от него унтер-офицер участливо спросил по-немецки:
– Клюнула?
Питер Стоун не ответил. Даже не посмотрел на соседа. Немецкий язык он знал, но намеренно не вступал в контакт ни с кем из военнопленных за время своего вынужденного «путешествия» из Германии в Советский Союз. Но про себя подумал: «Кажется, нет, не клюнула». Он ощупал заболевшее вдруг темя. Но это могла быть нервная боль, фантомная.
– Это дурной знак, предвестник беды, – продолжил разговорчивый унтер-офицер. – Мою лысину она не задела. По всем мистическим канонам – к долгой жизни. Я изучал Каббалу.
– Мы все рано или поздно умрем, – сердито сказал кто-то в шеренге.
– Так-то оно так. Но я имею в виду другое.
– Что именно?
– Близкую смерть. А не смерть вообще, как неизбежный итог жизни.
– От вороны это не зависит, – заспорил с ними еще кто-то. Молча стоять в шеренге скучно. – Всё это суеверие. И потом: что такое «близко» и что «далеко»? Особенно теперь, в нашем положении. Да в любом тоже. Вы знаете ответ? Тогда вы очень счастливый человек.
– О, да. Потому что война кончилась. По крайней мере, для нас. А русским еще воевать и воевать, поверьте моему слову. Союзники скоро сами передерутся.
– Возможно. Только не сразу. Надо еще на Тихом океане разобраться. А без Сталина американцам с японцами не справиться.
Питер Стоун безучастно прислушивался к разговору вокруг него, слева, справа и во второй шеренге. Всего этого он наслушался за последние дни так много, что становилось тоскливо.
– Не думаю, – возразил справа некий обер-лейтенант. – Вобьют Японию бомбами в море, как Дрезден в землю, да и утопят. Вот и вся финита.
– Теперь им всё позволено, – согласился с ним кто-то. – Мне даже немного жаль этих желтомордых и узкоглазых. Они еще не знают, что их ждет.
– Сами напросились, – ответил унтер-офицер. И добавил: – Как и вы.
– А вы?
– Что – я?
– Себя не вините?
Обер-лейтенант махнул рукой:
– Пустой это разговор.
Потом, помолчав немного, представился:
– Рихард Кох.
На вид ему было лет пятьдесят пять. Лицо интеллигентное, умное. Страдальческое.
– Ганс Шнитке, – отозвался унтер. Этот немец выглядел каким-то неунывающим рубахой-парнем. Около тридцати пяти.
– А хотите, докажу, что я прав? Насчет вороны и смерти!?
– Как?
– А вот спрыгну сейчас с перрона и рвану по шпалам.
– Наперегонки с пулей?
– Хотя бы.
– И получите очередь в спину!
– Разумеется. А теорема будет доказана.
– И тем не менее очередь людская и живая лучше автоматной и свинцовой, – усмехнулся Кох.
На его аскетическом лице виднелся небольшой шрам.
– Ваша теорема, вернее, аксиома, за уши к доказательству привязана. Это уже не мистика будет, а просто свободное волеизъявление человека. Причем слабоумного. Не фаталиста даже, а упёртого осла-каббалиста. Уж извините за столь нелестное сравнение.
– А я всё равно убегу. Только не сейчас. Меня в Гамбурге жена с дочками ждут.
– Всех ждут. Потерпите. Рано или поздно отпустят. А где же это вы изучали Каббалу? Это ведь талмудическая ересь.
– Ну и что? Да все высшие нацистские бонзы из Каббалы вышли. Гимлер вообще в ней плавал, как щука в озере. С прочими карасями. Вы слышали что-нибудь об Аненербе? Об обществе Туле? Как-нибудь расскажу. У нас еще будет время, плен долгий.
– Тут вы правы… Если не расстреляют сразу.
– Смотря что натворили.
– Мы все выполняли приказы.
– Вот-вот. Этих слов и держитесь…
«Эти двое нашли друг друга», – подумал Стоун, приглядываясь к ним. Но в разговор не вступал, хотя они переговаривались слева и справа от него. Стоявший напротив них автоматчик грозно прокричал:
– Прекратить разговоры! Молчать!
Эти русские слова все поняли без переводчика. Подобные приказы в разъяснении не нуждаются. Все замолчали. В ответ конвоиру с навеса раздалось лишь громкое карканье, а в свинцовое небо вновь взметнулась стая черно-серых птиц. Что толку сотрясать воздух людской речью, когда торжествует лишь вороний грай?
Стоун уже давно ни с кем не говорил, даже просто не общался. По крайней мере, с начала мая. Когда попал в плен. Теперь он думал об одном: неужели унтер-офицер и обер-лейтенант правы, и его заключение будет столь же долгим, как бесконечная болтовня обо всём и ни о чем? Или того хуже – расстрел? Не может такого быть. Выход всегда есть. Даже из самой безысходной ситуации. Выход через ворота, створки которых – надежда и вера. Так его учил в детстве отец Оливер. Можно сказать, семейный священник, старинный друг его родителей. Господи, как давно это было!..
Через полчаса томительного топтания на перроне часть военнопленных погрузили в несколько крытых грузовиков и машины тронулись в сторону подмосковных пересылочных лагерей. Некоторым заключенным предстоял дальнейший переезд в теплушках за Урал. Три военных грузовика отправились в Красногорск. Стоун, Шнитке и Кох тряслись во втором. Держались за деревянные борта, сверху донизу обтянутые брезентом. В конце кузова сидели два автоматчика. Они покуривали и переговаривались. Питер неплохо понимал русский язык, но эти раскатистые звуки были ему незнакомы. Какие-то среднеазиатские наречия.
– Эх, жалко Москву не видно, – задумчиво произнес Кох. – Дома, улицы… А так хотелось бы посмотреть. Ждал этого часа еще с университетских времен. Я ведь изучал русскую литературу. Дырку, что ли, в брезенте проделать?
– Чем? – усмехнулся Шнитке. – Пальцем?
– Что на неё смотреть, ослы? – грубо спросил один из немцев, трясшийся рядом. Тяжелый такой, грузный, с застывшей в глазах ненавистью ко всем. Майор Вермахта.
Ему никто не ответил. А тот продолжил:
– Вот ты, обер, говоришь: жаль, Москву не видно… А что на неё смотреть? Дрянь город. Хуже любой нашей дыры на окраине Рейха. Я стоял тут в сорок втором, нагляделся.
– В бинокль, – съязвил Шнитке. – А вот русские сейчас – в центре Берлина. И Рейхстаг видят воочию, точнее то, что от него осталось.
– Ну и что? Это временно. А всё из-за предателей. Таких, как ты! – грузный майор не унимался, полыхал гневом. – Трусы. Пораженцы. Свиньи.
Унтер-офицер слегка отодвинулся от него, хотя двигаться тут, в такой тесноте, было, в общем-то, некуда.
– Что, не нравится? – засмеялся, брызгая слюной майор. – А ты слушай, слушай! Если бы мы не сдали Берлин, война покатилась бы вспять. А в Арденнах мы англосаксов погнали. Ну, почти. Я был там, знаю. Горючего не хватило. И если бы не предатели в Генштабе. Это говорю тебе я, Фридрих Рёске, артиллерист, награжденный рыцарским железным крестом за храбрость. Всюду изменники и трусы. Подлые свиньи!
Тут он неожиданно замолчал, хотя, похоже, готовился сказать что-то еще – уже открыл перекошенный рот, но прошло полминуты – тотчас же и захлопнул его. Лишь с горечью махнул рукой и вперил неподвижный взгляд в Стоуна. Словно выбрал себе новую жертву и готовился теперь обрушить свой гнев на неё. А к атаке надо собрать силы.
– Не обращайте на него внимания, – тихо сказал Шнитке. – Его можно понять, человек не в себе.
– И таких много, – согласился с ним ещё кто-то. Стоун по-прежнему молчал.
– Странная у вас форма, – обратился к нему унтер-офицер. – Не пойму никак. У нас цвет «фельдграу» – полевой серый, с зеленым пигментом, и у вас почти тот же, с полынным оттенком. А всё же не то. И взгляд не такой, как у всех нас. Проигравших. Взгляд с другой стороны фронта. Вот в чем дело. Как так?
– Долго объяснять, – выдавил из себя Стоун по-немецки, давая понять, что разговор окончен.
Дальнейший путь до Красногорска проделали молча. Рёске всё равно помешал бы нормальной беседе… А воспоминания уносили Питера далеко-далеко, туда, где не было ни войны, ни плена. Ни смерти.
Вспоминает и рассказывает Питер Стоун – поток сознания
С чего начать? Память возвращает меня в прошлое, разум окутывает туман, плоть плохо борется с предназначением и обстоятельствами судьбы… Я устал. Картины мелькают, как в калейдоскопе, затуманенная радуга над горизонтом, там – будущее, а где оно?.. И вдруг – удар, огонь, боль, крушение…
Второго мая моя рота из четырех взводов, а это почти сто двадцать человек, располагалась на западной окраине практически опустевшего немецкого города Висмар, приближаясь к линии разграничения зон огня с союзниками и готовилась войти в город. Мы начали свой путь от берега в Нормандии одиннадцать месяцев назад, почти без потерь прошли северную Францию, Бельгию, приняли бой в Арденнах, вошли в Германию, и дошли до этого чертова города в западной Померании. Последняя болевая точка в моей войне. До полудня начнем вхождение и за два дня очистим его – времени нет. Где-то там, далеко за восточными окраинами города должны быть русские. Теперь, я знаю, что разграничительные линии огня между советскими и англо-американскими ВВС и сухопутными силами постоянно корректировались по мере продвижения союзников в глубь Германии и были больше похожи на передвижную демаркационную границу, которую пересекать нельзя. Мы продвигались с Запада, русские – с Востока. Посередине – немцы. Зажаты в тиски. Иногда мы не встречали противодействия и проходили через населенные пункты напролом, как стрела через тело кролика. Иногда немцы при поддержке французов-Вишийцев сопротивлялись отчаянно. А нам, англичанам и русским, наступавшим на них с двух сторон, главное было ненароком не задеть друг друга. Вот чего я боялся больше всего. Чтобы в этой жуткой неразберихе не подстрелить кого-нибудь из Красной Армии и не войти потом с ними в боевое столкновение. А такое, как рассказывали очевидцы, тоже случалось.
Так с чего же начать? С мирной жизни в Ричмонде? С учебы в Оксфорде? С любимой девушки? С дружбы с Джесси, моим названым братом? Как давно это было! Хотя прошло всего десяток лет, а может пятнадцать. А кажется, была совсем иная жизнь, чужая. Война напрочь изменяет твои временно-пространственные координаты, делает из одного человека двоих, а то и троих. Вот и живут в тебе несколько похожих на тебя людей, как в плену, а ты с ними то споришь и воюешь, то заключаешь перемирие. Но согласия нет. А наступит оно только в старости, перед смертью; она мирит всех.
Может быть, начать надо с апреля 1941 года, когда шли бомбардировки Лондона, а я вместе с Джесси Оуэнсом, защищал английское небо из зенитных орудий? Или с тех мест, где мне приходилось биться не на жизнь, а на смерть – в Африке, во Франции, в Бельгии и Германии?.. Где удалось выжить. Нет, главное во все времена, все-таки, не война, а любовь. Но не все это понимают. А может быть, не любовь, а любимое занятие? А было ли оно у меня, кто знает…
Последние дни войны… Но раз уж удалось преодолеть их и победить, то я знаю, что выдержу и эту тюрьму – в советском плену. Гораздо страшнее плен души, чтобы душа была свободной. А время, проведенное в лагере, станет тернистой полосой, по которой мне необходимо пройти, чтобы я мог начать разгадывать тайны жизни. А их много. По крайней мере, мне кажется, сейчас, что именно заключение, неволя дает сакральное мистическое осознание бытия. А пока хочется ясно осмыслить минувшие события, чтобы разобраться в прошедшем, понять настоящее и не потерять уверенность в будущем. Грядущее зависит от того, насколько ты познал прошлое. Жаль, не могу пообщаться с Ньютоном!
Однако начать лучше всего… с самого начала. С главного. Ведь что главнее твоего появления на свет? Я родился 9 января 1916 года в Ричмонде, предместье Лондона. В состоятельной семье, гордящейся своей родословной, но не слишком богатой. А вот мой друг Джесси Оуэнс рос в обычной интеллигентской семье, потом в сиротском приюте в одной из типичных улочек Сити, пока его не усыновили мои родители. Моя мать всегда занималась филантропией и курировала этот приют, а отец даже немного был знаком с родителями Джесси, врачами, не слишком близко, но они вместе посещали спортивные состязания по автогонкам, пока однажды не произошла трагедия. Одна из машин вылетела с трассы и врезалась в толпу. Погибло несколько человек, в том числе и родители Джесси. Сам гонщик чудом остался жив. Пострадал и мой отец, он провел в больнице около двух недель. А когда вышел, узнал, что случилось с мальчиком. И они с мамой, не сговариваясь, решили забрать его в наш дом.
Мне было тогда десять лет, Джесси – на год старше, но с тех пор мы росли вместе. И никаких сословных различий между нами никогда не было. Мои родители хоть и были аристократы, но вполне демократичные люди. И воспитывали нас обоих в том же ключе. Вначале отец хотел, чтобы Джесси носил его фамилию, но потом передумал, так как посчитал, что это будет неуважением к памяти его отца, и оставил всё, как есть. Но все равно мы были как братья. И ближе друга у меня не было.
Можно сказать, что мы были неразлучны всегда. Вместе поступили в Оксфорд, правда, на разные факультеты. Да и любили одну и ту же девушку – Мэри Леннокс. И в армию пошли вместе. Нам так хотелось повоевать всерьез, а потом встретить победу и насладиться спокойной мирной жизнью в Ричмонде, рядом с великолепным парком. Но почему-то Джесси чувствовал, что нас обоих убьют. И говорил мне об этом на полном серьезе; уж слишком кровопролитная и беспощадная предстояла война. Верю ли я сам в предчувствия? Нет. Ни о каком плене даже мыслей не было. Но случилось то… что случилось… Дальше – тишина. Как сказал гениальный Шекспир устами моего любимого Гамлета… А из всех литературных персонажей я хотел бы походить именно на него. Он сумел всё преодолеть и победить. Пусть даже ценой собственной жизни…
Красногорский Особый оперативно-пересылочный лагерь военнопленных № 27, 22 мая 1945 года, день
Три военных грузовика миновали шлагбаум и въехали на территорию лагеря, опоясанную колючей проволокой и невысоким сеточным забором. Военнопленных выгрузили и выстроили на плацу. Около часа они напряженно ждали, когда же, наконец, заработает советская бюрократическая машина. Но работала она издевательски медленно, со скрипом, хотя основательно и надёжно. А пока можно было осмотреться.
По периметру и на углах стояли металлические вышки, в каждой из которых зорко дежурил солдат-охранник, вооруженный винтовкой Мосина. Центральное место во дворе занимал большой каменный двухэтажный дом – «Комендатура лагеря № 27». Так было написано крупными буквами на русском и немецком языках на прибитой к стене над входом доске, а сзади от нее две дюжины длинных деревянных бараков, выкрашенных в ядовитый зеленый цвет. Рядом с ними росли деревья, но их было немного. В основном, чахлые березки с редкой листвой. Наверное, тоже считали себя заключенными под стражу, потому и не развивались как надо. В отличие от их сестер по ту сторону колючей проволоки. Узницей может быть и растение в цветочном горшке.
Справа и слева от комендатуры виднелись другие здания, всего не разглядишь. Вообще, территория лагеря была довольно обширной и тут давно функционировали библиотека, кухня, столовая, спортивная площадка, баня, лазарет и кинозал. Но это уже совсем непозволительная роскошь для побежденных немцев. Хотя кто их поймет, этих русских! Так, должно быть, думали вновь прибывшие военнопленные.
Они тревожно переминались с ноги на ногу на плацу перед комендатурой. У многих из них за спиной висел походный ранец с личными вещами. У Питера Стоуна, как у некоторых, его не было. Выстроенные на плацу военнопленные ждали уже довольно долго. С любопытством оглядывали место своего вынужденного временного обитания. Мало интересного, лагерь как лагерь. Хотя с чем сравнивать? В прошлом ни у кого из них ничего подобного не было. Однако в неволе твое внимание привлекает любая мелочь, и всё ранее привычное ты видишь и осознаешь по-новому. И внезапно понимаешь, что тебя касается не только то, что нас окружает и происходит в этом мире, но также и то, чего нет и не видно, но может произойти.


