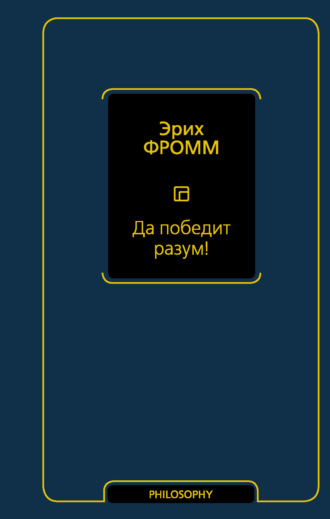
Эрих Фромм
Да победит разум!
II. Природа советской системы
Советская система является настоящим мифом для большинства американцев; вероятно, таким же мифом, каким и капиталистическая система для большинства русских. В то время как русские видят в капитализме систему эксплуатации рабов, получающих зарплату и подчиняющихся капризам Уолл-стрит, американцы видят Россию возглавляемой людьми, которые представляют собой смесь Ленина и Гитлера и стремятся силой или хитростью подчинить весь остальной мир. Так как вся наша внешняя политика основана на идее о том, что Советский Союз хочет покорить мир силой, наивысшую важность приобретает задача досконально исследовать факты и представить отчетливую и реалистичную картину природы советской системы. Это трудная задача, ибо природа советской системы полностью изменилась за время, прошедшее после 1917 года до наших дней. Она изменилась, превратившись из революционной системы, считавшей себя центром и движущей силой коммунистической революции в Европе, а затем и во всем мире, в консервативное, промышленно развитое классовое общество, пути развития которого во многих отношениях напоминают пути развития «капиталистических» стран Запада.
Это изменение, однако, не сопровождалось официальным разрывом преемственности, потому что многие базовые признаки, такие как национализация средств производства и идея плановой экономики, остались прежними. Но больше, чем преемственность экономического устройства, вызывает путаницу преемственность идеологии. По причинам, которые мы обсудим позже, Сталин, а за ним и Хрущев с невероятной религиозностью оставались приверженцами «марксистско-ленинских» формулировок и продолжали говорить на языке, характерном для периода с 1848 по 1917 год, хотя вся система уже представляла собой полную противоположность тому, что пытались предвидеть такие революционеры, как Маркс и Ленин.
Нам будет несложно выявить разницу между ритуальными идеологическими формулами и реальным положением вещей. Разве мы сами не захвачены подобным несоответствием, когда говорим об «индивидуальной инициативе» в обществе «организованного человека», или о «богобоязненном обществе», хотя на самом деле заботимся главным образом о деньгах, комфорте, здоровье, образовании и очень мало печемся о Боге? Однако ни русские, ни мы не являемся лжецами, и это делает познание реальности еще более трудным. Обе стороны верят, что говорят чистую правду, и подходят друг к другу с взаимным убеждением в том, что их идеология и, в определенной мере, идеология оппонента представляют реальность.
В мое намерение входит пробиться сквозь существующие клише и попытаться придерживаться в этой главе реалистического подхода к существующей советской системе. Я сравню короткий революционный период 1917–1922 годов с периодом постепенной трансформации этой системы в тоталитарное правление Сталина и Хрущева. Я попытаюсь показать и детально обосновать взгляд, согласно которому нынешняя советская система не является ни социалистической, ни революционной, и, более того, показать, что с момента восхождения Сталина советские правители перестали считать своей целью революцию на Западе, а коммунистические партии использовали лишь как инструменты своей внешней политики.
1. Революция: надежда, которая не оправдалась
Середина XIX века была временем социалистических надежд; эти надежды основывались на сказочном прогрессе науки и ее воздействии на промышленное производство, на успехе буржуазных революций 1789, 1830 и 1848 годов, на усиливающихся протестах рабочего класса и на распространении социалистических идей. Маркс и Энгельс, подобно другим социалистам, были убеждены в том, что близок час, когда произойдет великая революция, что очень скоро в человеческой истории начнется новая эпоха, что есть реальные перспективы, как говорил Энгельс, «превращения революции меньшинства [какими были все предыдущие революции] в революцию большинства [какой он видел социалистическую революцию]». Однако в конце XIX века Энгельс был вынужден признать: «История доказала, что мы и те, кто думал, как мы, ошибались. Стало ясно, что состояние экономического развития континента в настоящее время еще далеко не достигло уровня, при котором возможно уничтожение капиталистического производства…»[14]
Первая мировая война ознаменовала решающее изменение в истории социализма. Она показала несостоятельность двух самых главных его целей – интернационализма и мира. С началом войны все социалистические партии приняли сторону своих правительств и сражались с иностранными социалистами за «свободу». Этот моральный крах социализма был не столько следствием личного предательства некоторых лидеров, сколько следствием изменений экономических и политических условий. Обнаженная и беспощадная эксплуатация рабочих, существовавшая в XIX веке, уступила место участию рабочих в экономических прибылях в своих странах. Капитализм, который, по мнению Маркса, должен был рухнуть из-за своих внутренних противоречий, продолжал существовать, совершенствуя способность справляться с кризисами и трудностями лучше, чем ожидали радикальные революционеры[15].
Успех капитализма привел к новой интерпретации социализма. Если Маркс и Энгельс считали, что новая форма общества выйдет за пределы капитализма, став обществом, где произойдет полная реализация гуманизма и индивидуализма, то теперь адепты социализма стали интерпретировать его как движение за экономическое и политическое возвышение рабочего класса внутри капиталистической системы. В то время как социализм Маркса в XIX веке был наиболее значимым духовным и нравственным движением, антипозитивистским и антиматериалистическим по сути, то после этого он (социализм) постепенно трансформировался в чисто политическое движение с исключительно экономическими целями, несмотря на то что старые нравственные цели до конца никогда не исчезали. Интерпретация социализма в понятиях категорий капитализма привела к необходимости новой политики социалистических партий, целью которой стало благополучие государства, а не исполнение мессианских надежд, которых придерживались создатели теоретического социализма.
Война 1914 года, эта бессмысленная бойня, приведшая к гибели миллионов людей разных национальностей во имя определенных экономических преимуществ, привела к возрождению старого социалистического неприятия войны и национализма в новой, причем жизнеспособной, форме. Радикальные социалисты всех стран, глубоко возмущенные войной, стали лидерами революционных движений в России, Германии и Франции. Радикализация социалистического движения была тесно связана с Циммервальдским движением[16], попыткой социалистов-интернационалистов покончить с войной.
Февральская революция в России придала новые силы этим революционным вождям. Вначале Ленин, в соответствии с теорией Маркса, считал, что революция может стать успешной только в высокоразвитой капиталистической стране, такой как Германия. Ленин считал необходимым, чтобы такая менее развитая страна, как Россия, завершила буржуазную революцию, прежде чем двигаться дальше – к революции социалистической[17]. По этой же причине большинство в Центральном комитете Коммунистической партии высказалось поначалу против захвата власти в 1917 году, но мощная волна протестов крестьянско-солдатских масс против войны в сочетании с неспособностью царского правительства и его преемника – Временного правительства – покончить с войной и реорганизовать российскую экономику вынудили Ленина к революции. Надежды Ленина и Троцкого были связаны с германской революцией, которую они оба ожидали в самом ближайшем будущем. В Брест-Литовске они подписали мирный договор с императорской Германией, надеясь, что в Германии скоро разразится революция, что автоматически приведет к денонсации договора. Если бы промышленно развитая Германия стала советским государством и объединилась с преимущественно аграрной Россией, то тогда, следуя теории Маркса, как ее понимал Ленин, появлялся бы хороший шанс выживания и последующего процветания. Так же как Маркс и Энгельс в середине XIX века, семьдесят лет спустя Ленин и Троцкий на какое-то время поверили в то, что «социалистическое царство» близко и что будет возможно заложить фундамент истинно социалистического общества.
У надежды Ленина были свои пики и спады.
В 1917 и 1918 годах был первый пик. Через десять дней после Октябрьской революции Ленин объявил: «Мы уверенно и непоколебимо пойдем к победе социализма, которую обеспечат ведущие рабочие большинства цивилизованных стран, и дадим народам прочный мир и освобождение от угнетения и эксплуатации»[18]. После начала Германской революции в ноябре 1918 года новое германское правительство выказало большую неохоту к установлению дипломатических отношений с Россией, а германские рабочие не последовали примеру России, и тогда Лениным и Троцким начало овладевать сомнение. В 1919 году советские революции в Баварии и Венгрии оживили надежду, но очень скоро эти революции потерпели поражение. Летом и осенью 1920 года, когда Гражданская война в России близилась к концу, а советские войска стояли у ворот Варшавы, престиж Коминтерна[19] стал высок как никогда, и снова у коммунистов появилась надежда на мировую революцию[20]. Второй конгресс Коминтерна (1920) проходил на фоне большого революционного энтузиазма. Но очень скоро, после поражения Красной армии под Варшавой и отказа польских рабочих восстать, все драматически переменилось. Революционные надежды получили удар, от которого им уже не суждено было оправиться.
Ленин, отдавая приказ о наступлении на Варшаву после отражения польского наступления, поддался искушению безумной надежды на мировую революцию, но на этот раз он оказался меньшим реалистом, чем Троцкий, который (вместе с Тухачевским) советовал Ленину воздержаться от наступления под Варшавой. История еще раз доказала, что революционеры ошиблись в своей оценке революционных возможностей. Ленин признал поражение; признал, что западный капитализм обладал большей жизнеспособностью, чем он предполагал, и приступил к организации отступления, чтобы спасти то, что еще можно было спасти после случившейся катастрофы. Ленин инициировал начало новой экономической политики (НЭП), восстановления капиталистических отношений во многих секторах российской экономики, пытался убедить иностранных капиталистов вкладывать деньги в «концессии» на территории Советского Союза, старался прийти к мирному взаимопониманию с великими западными державами и в то же время силой подавил восстание кронштадтских матросов, которые чувствовали себя обманутыми революцией[21].
Я устою от искушения обсуждать здесь ошибки Ленина и Троцкого и вопрос о том, в какой мере они следовали учению Маркса. Достаточно сказать, что концепция о том, что истинные интересы рабочего класса могла отстаивать элита, состоящая из вождей, а не большинство самого рабочего класса, принадлежала Ленину, а не Марксу. В течение многих лет до начала Первой мировой войны этой концепции противостоял Троцкий, как и Роза Люксембург, одна из наиболее проницательных революционеров-марксистов того времени. Ленин не видел того, что видели Роза Люксембург и другие: что централизованная, бюрократическая система, в которой элита управляет за рабочих, неизбежно выродится в систему, в которой она начнет управлять рабочими и окончательно уничтожит все, что еще оставалось от социализма в России. Но при всех различиях между Марксом и Лениным фактом остается то, что великая надежда не оправдалась во второй раз. Правда, на этот раз неудача настигла Ленина и Троцкого, когда они, находясь у власти, столкнулись с исторической дилеммой о том, как провести социалистическую революцию в стране, где отсутствовали условия для социалистического общества. Они оба были избавлены от необходимости решать эту проблему. Ленин не смог оправиться после первого инсульта в 1922 году и умер в январе 1924 года. Несколькими годами спустя был отстранен от власти, а затем и выслан из страны, Троцкий; верх взял Сталин, с которым Ленин порвал все личные отношения за несколько месяцев до смерти.
Смерть Ленина и поражение Троцкого лишь подчеркнули конец периода революционных движений в Европе и конец надеждам на новый социалистический порядок. После 1919 года революция пошла на убыль, а к 1923 году ни у кого не осталось сомнений в ее неудаче.
2. Сталинская трансформация коммунистической революции в управленческую
Сталин, умный циничный авантюрист с ненасытной жаждой личной власти, оказался перед необходимостью ликвидации последствий неудачи. Учитывая склад его личности, социализм никогда не виделся ему сквозь гуманистическую призму Маркса и Энгельса. Поэтому Сталин без малейших душевных колебаний принялся за насильственную индустриализацию России под лозунгом социализма «в одной, отдельно взятой стране»[22]. Эта формула была всего лишь прозрачным прикрытием цели, которой надо было достичь, – построения тоталитарного государственного управления в России[23] и быстрого накопления капитала (и мобилизации людских ресурсов), необходимого для достижения этой цели.
Сталин ликвидировал социалистическую революцию во имя «социализма». Он использовал террор для того, чтобы обеспечить согласие народа на материальные лишения, которые стали результатом быстрого построения основ промышленности за счет уменьшения производства потребительских товаров; больше того, террор служил для создания новой рабочей морали путем мобилизации сил и ресурсов сельского населения и принуждения его работать в темпе, необходимом для быстрого построения промышленности. Сталин использовал террор в гораздо большем масштабе, чем это, вероятно, было необходимо для выполнения его экономической программы, так как обладал невероятной жаждой власти, параноидной подозрительностью в отношении возможных соперников и испытывал патологическое удовольствие от мести[24]. Если целью Сталина и было создание централизованного российского государственного менеджеризма, то, естественно, он не мог вслух и честно сказать об этом. Одним только террором, каким бы страшным он ни был, Сталину не удалось бы склонить массы к сотрудничеству, но он оказался в состоянии повлиять на души и умы людей. Конечно, он мог бы изменить политику на противоположную, провозгласить идеологическую контрреволюцию под фашистскими и националистическими лозунгами. Так он смог бы получить идеологическое средство, которое привело бы к тем же результатам. Сталин не выбрал этот курс, и, таким образом, ему ничего не оставалось, как только использовать ту идеологию, которая только одна и была действенна в массах того времени, – идеологию коммунизма и мировой революции. Коммунистическая партия принизила религию, отказалась от национализма. Марксизм-ленинизм остался единственной престижной идеологией. Мало этого, фигуры Маркса, Энгельса и Ленина обладали невероятной харизмой в глазах русского народа, и Сталин использовал ее, представив себя их легитимным преемником и последователем. Для того чтобы осуществить это величайшее историческое мошенничество, Сталину пришлось избавиться от Троцкого и в конечном счете уничтожить почти всех старых большевиков, тем самым расчистив себе путь и развязав руки для трансформации социалистической цели в типичный реакционный государственный менеджеризм. Чтобы вычеркнуть из народной памяти даже самые имена старых революционеров и их идей, Сталину пришлось заново переписать историю. Может быть, подсознательно он боялся старых революционеров и подозревал их как параноик, так как чувствовал, что предал идеалы, символами которых они являлись.
Сталин преуспел в своей цели, заключавшейся теперь не в мировой революции, а в индустриализации России, которой предстояло стать самой мощной державой в Европе, если не во всем мире. Экономическая успешность его тоталитарных государственных методов планирования была подхвачена, с некоторыми изменениями, Маленковым, а потом и Хрущевым, и эта преемственность больше не является предметом научных дискуссий. «Советская система централизованного управления экономикой доказала, что она практически не уступает рыночной экономике, например в сравнении с Соединенными Штатами»[25]. Это суждение было высказано на основании данных о российском промышленном росте[26]. Хотя данные разных американских экономистов несколько расходятся, разница эта очень невелика. Борнстайн оценивает годовые темпы роста валового национального продукта в Советском Союзе за период с 1950 по 1958 год в 6,5–7,5 % в год, а в Соединенных Штатах за тот же период в 2,9 %[27]. Каплан и Моорстеен оценивают темпы промышленного роста России за тот же период в 9,2 %. Кэмпбелл оценивает нынешние темпы роста в Советском Союзе в 6 %[28]. Если считать темпы роста с 1913 года, то есть за период, включающий разрушения Первой мировой и Гражданской войн, то получаются, конечно, совсем другие цифры. Согласно Наттеру, для гражданского промышленного производства с 1913 по 1955 год темпы роста составляют только 4,2 %, в то время как темпы роста для последних сорока лет царского периода составляли 5,2 %[29]. Однако за период с 1928 по 1940 год (то есть в мирный период) темпы советского роста составили 8,3 %, а между 1950 и 1955 годами – 9,0 %, то есть приблизительно вдвое выше, чем в США за тот же период[30],[31], и немного меньше чем вдвое по сравнению с царским периодом. Терджен считает, что если заглянуть в ближайшее будущее, то «представляется разумным предположение о том, что промышленный рост в Советском Союзе будет выше, чем в США, при условии отсутствия каких-либо радикальных институциональных изменений в обеих странах», в то время как «представляется сомнительным, что темпы роста экономики Советского Союза будут выше, чем в быстро развивающихся экономиках таких стран, как Западная Германия, Франция и Япония»[32]. Наттер, однако, сомневается в том, что в долгосрочной перспективе Советскому Союзу удастся обеспечить более быстрый рост, чем в системах, основанных на частном предпринимательстве. В противоположность промышленному производству, российское сельское хозяйство далеко отстало от запланированных показателей и до сих пор представляет большую проблему для русской экономики.
Что касается потребления, то ежегодный его прирост с учетом роста населения оценивается приблизительно в 5 % в год, учитывая недавнее увеличение потребления среди крестьян[33]. «В отношении еды и одежды, – заключает Терджен, – Советы имеют реальный шанс превысить наш уровень жизни, в то время как США остаются далеко впереди по автомобилям и долговременным потребительским товарам, а также по расходам на услуги и путешествия»[34].
Сталин заложил фундамент новой, индустриальной России. В течение менее тридцати лет он превратил самую экономически отсталую из великих европейских держав в промышленно развитое государство, которое скоро станет экономически передовым и процветающим, уступая только Соединенным Штатам. Цинично фальсифицировав социалистические идеи, Сталин добился этого путем бесчеловечности, беспощадного уничтожения человеческих жизней и счастья отдельных людей, что вместе с действиями Гитлера притупило и извратило чувство человечности у всего остального мира. Тем не менее, хотя можно спорить о возможности достижения той же цели не столь бесчеловечными методами, факт остается фактом – Сталин оставил своим преемникам жизнеспособную страну с сильной экономической и политической системой. Многие сталинские черты системы остались прежними, другие претерпели изменения. На следующих страницах я попытаюсь обсудить суть советского общества, каким оно является сегодня; общества, построенного на фундаменте, заложенном Сталиным.
3. Хрущевская система
а) Конец террора
Первое и главное, чем хрущевский социализм отличается от сталинизма, это отмена и прекращение террора. Если террор необходим в системе, где массам приходится много и тяжело работать, не получая за это соответствующего материального вознаграждения, то его можно ослабить после того, как рабочие смогут начать пользоваться плодами своего труда и надеяться на радость от этого труда. Преемники Сталина и сами в немалой степени были травмированы безумным террором последних лет правления Сталина, террором, который ежедневно грозил уничтожением каждому из высших руководителей. К решению о прекращении террора привел психологический феномен, подобный тому, который имел место во Франции в период, предшествовавший падению Робеспьера, вкупе с упомянутой выше причиной.
Все сведения, поступающие из России, подтверждают, что террор прекратился. Лагеря рабского труда, которые при Сталине были не только средством террора, но и источником дешевой рабочей силы, были уничтожены, а произвольные аресты и наказания – отменены. Хрущевское государство можно было бы сравнить с реакционным полицейским государством XIX века, а состояние политических свобод – с состоянием царской России. Однако такое сравнение было бы некорректным вследствие не только очевидной разницы в экономической структуре обеих систем, но и из-за другого, более сложного, фактора. Политическая свобода становится явной проблемой только в случае, когда существует значительное несогласие внутри фундаментальных структур данного общества. При царском режиме большинство населения – крестьяне, рабочие, средний класс – находилось в оппозиции к системе, и система, для того чтобы продлить свое существование, прибегала к репрессивным мерам. В то же время есть все основания считать, что хрущевская система смогла заручиться верностью большинства населения. Отчасти она была достигнута за счет реальных экономических успехов и удовлетворения потребностей в настоящем, а также за счет обоснованных надежд на дальнейшее улучшение и, кроме этого, за счет успешной идеологической манипуляции народным сознанием.
Из всех сообщений становится ясно, что средний русский убежден в том, что система работает достаточно хорошо, надеется на лучшее будущее и реально боится только одного – войны. Критикуя систему, советский человек критикует частности, например глупость бюрократов и жалкое качество потребительских товаров, но не советскую систему как таковую. Советский человек даже не задумывается о возможности замены советской системы системой капиталистической.
Несомненно, при сталинском терроре обстановка была совершенно иной. Беспощадный произвол террора угрожал всем, высшим и низшим, тюрьмой или смертью, не только за ошибки, но и вследствие доноса, интриг и т. д. Но этот террор остался в прошлом, и обстановка стала иной. Средний американец не имеет адекватного представления о России, так как ставит себя на место антикоммуниста внутри страны и рассуждает о степени подавления его мнения. Он забывает, что помимо писателей и социологов, которые, вероятно, склонны критиковать систему, подавляющее большинство русских не испытывает такого желания. Поэтому проблема политической свободы выглядит для среднего русского пока не так реально, как для американца. (Средний русский может чувствовать себя аналогично среднему американцу, если, позиционируя себя как коммуниста, он задумывается о тех ограничениях и опасностях, с которыми бы он сам столкнулся в Соединенных Штатах.) Все это, однако, не отменяет того факта, что хрущевская Россия является полицейским государством с гораздо меньшей свободой несогласия с правительством и его критики, чем аналогичная свобода в западных демократиях. Более того, после многих лет неограниченного террора потребуются годы для того, чтобы рассеялись остатки страха и робости, порожденных террором. Тем не менее, учитывая все факторы, можно утверждать, что хрущевский социализм ознаменовал собой значительное улучшение положения с политическими свободами в сравнении со сталинизмом.
С исчезновением террора тесно связано и изменение природы управления в России. Сталинское правление было правлением одного человека без серьезных консультаций с сотрудниками, без того, что можно было бы считать дискуссией или правлением большинства. Ясно, что такое единоличное правление нуждалось в терроре, посредством которого диктатор мог уничтожить любого человека, осмелившегося ему возражать. После казни Берии власть террористической государственной полиции была значительно ограничена, и ни один из русских лидеров не имел после смерти Сталина таких же диктаторских полномочий, какие можно было сравнить со сталинскими. Представляется, что лидер, кем бы он ни был, должен убедить верхний эшелон партии в верности своих взглядов, а это значит, что теперь имеют место дискуссии и правило большинства при принятии решений центральным комитетом партии. Все события последних лет отчетливо показывают, что Хрущеву приходится защищать свою позицию от оппонентов, что он должен демонстрировать успехи для того, чтобы удержаться наверху, и что его положение не очень сильно отличается от положения западных государственных деятелей, провалы которых в политике приводят к их исчезновению с политической арены.







