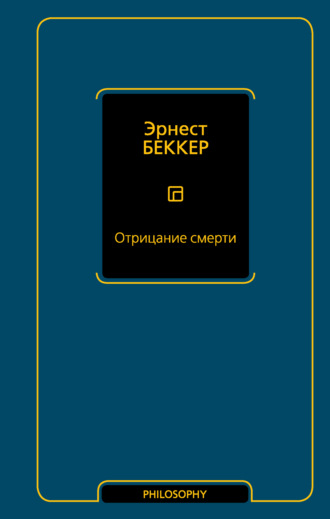
Эрнест Беккер
Отрицание смерти
Памяти моих горячо любимых родителей, невольно давших мне, помимо многого другого, наиболее парадоксальный подарок из всех возможных – сомнение в героизме.
Non ridere, non lugere, neque detestari, sed intelligere.
Не смеяться, не плакать, не проклинать, а понимать.
Бенедикт Спиноза
Серия «Философия – Neoclassic»

Ernest Becker
THE DENIAL OF DEATH
Перевод с английского А. Ерыкалина

© The Free Press, 1973
© Перевод. А. Ерыкалин, 2023
© Издание на русском языке AST Publishers, 2023
Вступление
…в настоящий момент я перестал писать – миру уже сказано достаточно правды, – так много, что ее уже некому слушать!
Отто Ранк[1]
Перспектива смерти, говорил доктор Джонсон[2], удивительным образом способствует концентрации. Основной тезис этой книги заключается в том, что перспектива смерти значит гораздо больше: идея смерти, ее страх, преследует человеческий род как ничто другое. Это движущая сила его жизнедеятельности – той самой, что имеет своей целью избавить человека от смерти, преодолеть ее, отрицая тот факт, что смерть в каком-то смысле является последним человеческим предназначением. Известный антрополог А. М. Хокарт[3] утверждал, что первобытные люди не испытывали страха смерти. Существует множество антропологических свидетельств, что смерть часто сопровождалась радостью и празднованием, и казалась больше поводом для веселья, чем для страха – вспомните хотя бы традиционные ирландские поминки. Хокарт хотел развеять убеждение, что первобытные люди, по сравнению с современными, были инфантильными и боялись окружающего мира – антропологи в этом вопросе их давно реабилитировали. Но это утверждение не касается того факта, что страх смерти на самом деле универсален для человеческого существования. Несомненно, как показывает Хокарт и другие ученые, первобытные люди часто праздновали смерть, потому что верили, что она – последний шаг, последний ритуал перехода к высшей форме жизни и, в каком-то смысле, наслаждению вечностью. Большинству современных жителей западных стран в это сложно поверить. Это и делает страх смерти столь значимой частью нашей психологической натуры.
На страницах этой книги я постараюсь показать, что страх смерти универсален и объединяет данные нескольких гуманитарных наук. Он делает ясными и понятными те человеческие действия, которые мы похоронили под горами фактов и непоследовательных утверждений об «истинных» мотивах человека. Современный образованный человек сгибается под грузом, существование которого он даже не мог себе представить: избыток правды, которую нельзя принять. Веками люди жили с верой в то, что истина тонка и неуловима, а стоит лишь найти ее, как все проблемы человечества будут решены. И вот в последние десятилетия двадцатого века – мы задыхаемся от правды. Уже было написано столько блестящих работ, сделано столько гениальных открытий, а на их основе разработано столько технологий, и все равно мозг остается безмолвным, пока мир мчится по своему многовековому пути. Я помню, как читал об одном выступлении на престижном научном собрании в рамках мировой выставки в Сент-Луисе в 1904 году. Спикеру было трудно читать доклад из-за шумной демонстрации нового вооружения, проходившей совсем рядом. Он заявил свысока, что подобное мероприятие совершенно бесполезно, а будущее принадлежит науке, но никак не милитаризму. Первая мировая война всем показала расстановку приоритетов на этой планете, и кто занимался глупостями, а кто – делом. В этом году порядок приоритетов также наглядно показан мировыми затратами на военную отрасль в 204 миллиарда долларов, и это в то время, когда условия жизни человечества хуже, чем когда-либо.
Тогда зачем, спросит читатель, добавлять еще один увесистый том правды, которую все равно никто не будет слушать? Ну, здесь, конечно, есть личные причины: привычка, целеустремленность, упрямый оптимизм. И есть Эрос, побуждающий к унификации опыта и большей осмысленности. Одна из причин, как мне кажется, в том, что знание, находясь в состоянии бесполезного перепроизводства, рассыпано повсюду и звучит в тысяче соперничающих между собой голосов. Внимание к его незначительным и бессмысленным фрагментам раздуто непомерно, а важнейшие, имеющие мировое значение озарения, остаются в тени, тщетно пытаясь привлечь к себе внимание. Не существует никакого пульсирующего жизненно важного центра. Норман О. Браун[4] замечает, что всему миру нужно больше Эроса и меньше споров, а интеллектуальному – особенно. Должна быть найдена гармония, объединяющая множество различных позиций, и способная ослабить «неэффективную и безграмотную полемику».
Я написал эту книгу в основном как попытку связать воедино Вавилонскую башню мнений о человеке и условиях его существования. Я верю в то, что наше время нуждается в синтезе лучших идей из многих отраслей знания, от гуманитарных наук до религии. Я старался избегать открытого противостояния и отрицания любой точки зрения, сколь угодно неприятной лично мне, но содержащей ядро истины. Последние несколько лет во мне росло понимание того, что задача человеческого знания не в противопоставлении и уничтожении полярных мнений, а во включении их в большую теоретическую структуру. Ирония созидательного процесса кроется в том, что он калечит себя ради функционирования. Обычно я имею в виду, что для того, чтобы выпустить статью, автор должен чрезмерно выпятить ее акценты, жестко противопоставляя их другим вариантам истины. И этот процесс постепенно захватывает автора, поскольку из преувеличенных акцентов складывается его образ как мыслителя. Но в основе позиции каждого честного ученого, по сути своей являющегося эмпириком, должна быть определенная доля истины. И не важно, насколько резко он ее сформулировал. Проблема состоит в том, чтобы обнаружить истину под этим преувеличением, убрать с нее излишние усложнения или искажения, и встроить ее в подходящее место.
Вторая причина написания мной этой книги в том, что за последние десять лет у меня было немало проблем с подбором подходящих истин. Я пытался глубже вникнуть в суть идей Фрейда, а также его интерпретаторов и преемников, погружаясь в то, что, должно быть, является квинтэссенцией современной психологии. И думаю, что наконец-то в этом преуспел. В этом смысле данная книга может принести мир в мою душу ученого, предложив ей интеллектуальное прощение. Я чувствую, что это моя первая зрелая работа.
Одна из главных целей, которую я преследую в этой книге – дать сжатое изложение психологии после Фрейда, связав ее развитие со все еще значимой фигурой Кьеркегора. Таким образом, я отстаиваю соединение психологии и мифо-религиозной точки зрения. Этот постулат я значительной степени основываю на работе Отто Ранка[5], сделав серьезную попытку передать великолепие памятника его мысли. Проникнуть в суть работы Ранка нужно было очень давно, и если я в этом преуспел, то здесь и заключается главная ценность этой книги.
Взгляды Ранка настолько заметны на этих страницах, что, наверное, во введении будет полезным сказать о нем пару слов. Фредерик Перлз[6], однажды заметил, что книга Ранка «Искусство и Художник» была «выше всяких похвал». Помню, меня настолько поразила эта оценка, что я тут же бросился к книге: просто не мог представить, как что-то научное может быть «выше всяких похвал». Даже работа самогó Фрейда казалась мне, так сказать, достойной – ожидаемым продуктом человеческого разума. Но Перлз был прав: Ранк был – как говорит молодежь – «просто отпад». Нет слов, чтобы достойно похвалить его работу, потому что она фантастическая в своей чистоте изложения. Она превосходна и самостоятельна, а мысли в ней кажутся подарком, превосходящим все ожидания. Полагаю, отчасти причина в том – в дополнение к его гениальности, – что мысль Ранка всегда охватывает несколько областей знания. Когда он пишет, скажем, об антропологии, вы ожидаете каких-то мыслей и информации об антропологии, а получаете нечто намного большее. Живя в эпоху гиперспециализации, мы уже не ожидаем такого удовольствия, потому что эксперты предлагают нашему вниманию посильные и привычные потрясения – если их работы вообще могут нас потрясти.
Я очень надеюсь, мое противостояние Ранку побудит читателя ознакомиться с его книгами. Чтение работ Ранка ничем нельзя заменить. Листы тех книг, что были у меня, испещрены большим количеством пометок, подчеркиваний, двойных восклицательных знаков. За годы размышлений и озарений я полностью проникся этим автором. Мое изложение Ранка, это обобщение его мыслей: принципов, базовых идей и всеобъемлющих смыслов. Здесь будет лишь его бледная тень. Настоящий поразительно яркий Ранк существует только внутри своих работ. Кроме того, обобщающая презентация Айры Прогоффа[7] и его оценка творчества Ранка настолько точны, настолько сбалансированы в суждениях, что очень трудно превзойти их с помощью простой лаконичной признательности. Рассуждения Ранка очень пространны, их трудно воспринимать, так что обычному читателю он практически недоступен. Сам автор переносил это очень болезненно и какое-то время надеялся, что Анаис Нин[8] перепишет его книги, чтобы у них появился шанс произвести тот эффект, которого они были достойны. На этих страницах я предлагаю свою версию Ранка, представив по-своему что-то вроде краткого «перевода» его системы, надеясь сделать ее доступной для всех. В этой книге я перескажу лишь его психологию личности, а в другой схематично обрисую взгляды на психологию историческую.
Есть несколько способов трактовать работы Ранка. Некоторые видят в нем блестящего единомышленника Фрейда, одного из родоначальников психоанализа. Своей широкой эрудированностью, он расширил ценность этого направления науки, показав, как психоанализ может объяснить историю культуры, миф и легенду. Например, как было сделано в его ранних работах «Миф о рождении героя» и «Мотив инцеста». Кто-то может сказать, что поскольку сам Ранка никогда не был у психоаналитика, подавленные страсти взяли над ним верх, и он бросил спокойную творческую жизнь вблизи Фрейда. В последние годы жизни его психика окончательно расшаталась, он скоропостижно скончался в отчаянии и одиночестве. Другие увидят в нем чересчур усердного последователя Фрейда, который слишком рано попытался быть оригинальным, и таким образом совершил даже чрезмерное психоаналитическое упрощение. Такая точка зрения обычно основывается исключительно на его книге 1924 года «Травма рождения» и не принимает во внимание другие работы. И все же некоторые считают Ранка блестящим представителем близкого круга Фрейда и его ярым поклонником. Именно Фрейд предложил Ранку поступить в университет, а позже помогал оплатить образование, а Ранк отплатил за это психоанализу проникновением во многие смежные области знания: историю, культуру, воспитание детей, психологию искусства, литературную критику, первобытное мышление и так далее. Короче говоря, он был многогранным, но не очень хорошо организованным или не умеющим себя контролировать вундеркиндом – так сказать, Теодор Райк[9] с более высоким интеллектом.
Но все эти попытки охарактеризовать Ранка ошибочны, и проистекают в основном из разговоров среди самих психоаналитиков. Они так и не простили Ранку того, что он отвернулся от Фрейда, обесценив их собственный бессмертный символ (и использовал собственный подход к пониманию их ожесточения и мелочности). Надо признать, книга Ранка «Травма рождения» дала недоброжелателям рычаги воздействия на автора, обоснованную причину выставить его личность в неприглядном свете. Это была чрезмерно утрированная книга, обреченная на провал, и испортившая имидж Ранка в глазах общественности. И это несмотря на то что впоследствии он сам изменил свое отношение к этой работе и продвинулся в своих исследованиях гораздо дальше. Будучи непросто партнером Фрейда, а всесторонне развитым последователем психоанализа, Ранк обладал собственной – уникальной – системой убеждений. Он знал, с чего ему нужно было начать, какой массив данных обработать и на чем заострить внимание. Ранк точно знал все то, что касается самого психоанализа, за пределы которого пытался выйти, и в итоге вышел. Философские смыслы его собственной системы взглядов были намечены им лишь приблизительно, но оформить их более четко он не успел. Жизнь оборвалась слишком рано. Безусловно, Ранк был таким же родоначальником новой системы, как Адлер[10] или Юнг, и его взгляды были, по меньшей мере, не менее, а может даже и более блестящи, чем их. Мы уважаем Адлера за целостность суждений, прямоту его аналитических заключений и бескомпромиссный гуманизм. Юнгом мы восхищаемся за храбрость и открытость, с которой он объединил науку и религию. Но еще больше, чем эти двое, Ранк в своей системе показал важнейшие глубинные смыслы, позволившие значительно развить социологию, смыслы, которые только начали раскрываться.
Пол Розен, работая над книгой «Легенда о Фрейде» метко отметил, что «любой мыслитель, чьи ошибки требуют так много времени для исправления, является… довольно значительной фигурой в интеллектуальной истории». Это утверждение тем более любопытно, учитывая, что Адлер, Юнг и Ранк очень рано исправили большинство главных ошибок Фрейда. Историков гораздо больше волнует вопрос, что такого было в природе психоаналитического движения, в самих идеях, в массовом и научном сознании, что эти исправления игнорировались или оставались в стороне от развития научной мысли.
Даже если в книге представлен широкий взгляд на проблему, автор должен чрезвычайно тщательно отбирать истины из того огромного массива, что давит на нас. Множество известных мыслителей упомянуто лишь мимоходом: читатель может задаваться вопросом, почему я постоянно говорю о Ранке и едва упоминаю Юнга в книге, основная цель которой заключается в соединении психоанализа и религии. Одна из причин заключается в том, что Юнг очень заметен и у него есть много прекрасных толкователей, в то время как Ранк едва известен и о нем мало кто говорит. Вторая причина в том, что, хотя мысли Ранка сложны, они всегда указывают на суть проблем, в то время как умозаключения Юнга – нет, и большая их часть скатывается в ненужную эзотерику. Как результат, он часто одной рукой скрывает то, что только что открыл другой. Мне кажется, что все тома, написанные им об алхимии, не добавили ни грана ценности к его мыслям о психоанализе.
Многим мыслям о человеческой природе я обязан общению с Марией Беккер, чья острота ума и реализм, с которым она чувствует подобные вещи, очень редки. Хочу поблагодарить (с обязательным упоминанием) Пола Розена за любезное согласие просмотреть шестую главу с учетом его прекрасного знания философии Фрейда. Роберт Н. Беллах прочитал всю рукопись, и я очень благодарен за его критический подход и точные замечания. Благодаря некоторым из них, я смог значительно улучшить книгу, а остальная их часть, похоже, поставила передо мной значительную и долгосрочную задачу по изменению себя.
Глава 1
Введение: человеческая природа и героизм
В такие времена, как наши, существует большой спрос на выработку концепций, которые могли бы помочь людям разбираться с дилеммами, существует стремление к важным идеям, к упрощению ненужной интеллектуальной сложности. Иногда это порождает большую ложь, которая позволяет разрешить напряжение и двигаться дальше, руководствуясь лишь так необходимыми человечеству оправданиями. Но это также приводит к постепенному отказу от истин, позволяя людям понять, что на самом деле с ними происходит, и указать, в чем на самом деле проблема.
Одна из таких важных истин долгое время была известна, как идея героизма, но в «нормальные» научные времена мы никогда не придавали ей большого значения, не выставляли напоказ и не использовали как основное понятие. И все же разум обывателя всегда понимал, насколько это было важно. Например, Уильям Джеймс[11] – говоривший практически обо всем – на рубеже веков отмечал: «обычное стремление человечества к постижению реальности… всегда признавало окружающий мир не чем иным, как театром героизма». Не только носителям массового сознания, но и философам всех времен, а в нашей культуре особенно Эмерсону[12] и Ницше – поэтому мы и потрясены ими, – было известно: наше главное призвание, главная цель существования на этой планете – стремление к героизму[13].
Один из взглядов на все развитие социологии со времен Маркса и психологии со времен Фрейда заключается в детальном представлении и максимальном прояснении проблемы человеческого героизма. Такая перспектива задает тон всей серьезности нашего обсуждения, ведь теперь у нас есть научное обоснование истинного понимания природы героизма и его места в жизни человека. Если «стремление человечества к постижению реальности» действительно такое, как говорил Джеймс, то мы получили прекрасную возможность представить эту реальность научным путем.
Одно из ключевых понятий для понимания человеческого стремления к героизму – это идея «нарциссизма». Как прекрасно напомнил нам Эрих Фромм, это одна из величайших и неустаревающих идей Фрейда. Последний обнаружил, что каждый из нас повторяет трагедию мифического Нарцисса: мы безнадежно поглощены собой. Если мы о ком и заботимся, то, в первую очередь о себе. Как когда-то сказал Аристотель: «удача, это когда стрела пронзила твоего соседа». За две с половиной тысячи лет ничего не изменил. Чаще всего для большинства из нас такое определение удачи все еще прекрасно работает. Одна из худших сторон нарциссизма в том, что мы считаем, будто бы пренебречь можно практически кем угодно, кроме нас. Как однажды высказался Эмерсон, нам стóит быть готовыми создать новый мир из самих себя, даже если больше никого вокруг не существует. Эта мысль пугает: мы не знаем, как это сделать без чьей-либо помощи. И все же где-то в глубине силы и средства у нас есть: нам будет достаточно самих себя, если потребуется, и если мы сможем доверять себе так, как того хотел Эмерсон. И даже если мы не чувствуем этого доверия на эмоциональном уровне, большинство из нас продолжает бороться за выживание, сколько бы ни гибло вокруг. Наш организм готов в одиночку заполнить целый мир, даже если мозг сжимается при мысли об этом. Этот нарциссизм во время войны заставляет людей идти под бьющие в упор пули: в душе каждый не думает, что умрет, а лишь чувствует жалось к тому, кто рядом с ним. Фрейд объяснял это тем, что подсознание не знает о смерти или времени: на уровне глубоких физиологохимических процессов человек чувствует себя бессмертным.
Ни одно из этих наблюдений не подразумевает человеческого лукавства. Не похоже, чтобы человек мог «удержаться» от собственного эгоизма, который, по-видимому, проистекает из животной природы. На протяжении бесчисленных веков эволюции организм был вынужден защищать свою неприкосновенность; у него была собственная физиологохимическая идентичность, и он посвятил себя ее сохранению. В этом и есть одна из главных проблем трансплантации: организм защищает себя от инородного тела, даже если это новое сердце, которое сохранит ему жизнь. Протоплазма сама оберегает себя, защищает себя от мира, от посягательств на ее целостность. Кажется, она наслаждается собственной пульсацией, расширяясь и поглощая части окружающей реальности. Если вы возьмете слепой и тупой организм, дадите ему самосознание и имя, заставите его выделиться из природы и осознать, что он уникален, то получите нарциссизм. Что касается человека, то физиологохимическая идентичность и чувство власти и действия стали сознательными.
Естественный уровень нарциссизма в человеке неотделим от чувства собственного достоинства, от базового чувства самооценки. Мы узнали, в основном от Альфреда Адлера, что человеку больше всего нужно чувствовать себя уверенным в своей самооценке. Но человек – это не просто сгусток бесполезной протоплазмы, а существо, которое обладает именем и живет в мире символов и мечтаний, а не простой материи. Его чувство самооценки само по себе символично, его взлелеянный нарциссизм подпитывается символами и абстрактной идеей собственной значимости. Эта идея состоит из звуков, слов и образов, витающих в воздухе, существующих в уме и написанных на бумаге. И это значит, что естественное стремление человека к активности, к радости от совместной деятельности и экспансии, может безгранично подпитываться символами и превращаться в бессмертие. Отдельно взятый организм может расширяться во всех измерениях пространства и времени без перемещения своей физической оболочки, и, даже умирая от удушья, может принять в себя вечность.
Мы видим, что в детстве борьбу за самооценку скрывают меньше всего. Дети не стыдятся показывать, что им нужно и чего они хотят. Весь детский организм выкрикивает требования естественного нарциссизма. И это требование может превратить детство в настоящий ад для окружающих взрослых. Особенно если несколько детей соревнуются за право безграничного самовыражения, за то, что можно назвать «космической значимостью». Это весьма серьезное понятие, поскольку именно в этом направлении и движется наш разговор. Нам нравится легкомысленно говорить о «детской ревности», как о каком-то побочном продукте взросления, как о соперничестве и эгоизме испорченных детей, еще не достигших возраста развитого члена общества. Однако эта ревность требует слишком много сил и не ослабевает ни на минуту, чтобы быть отклонением от нормы. В ней выражается квинтэссенция существа: желание выделиться, быть единственным в окружающем мире. Если объединить природный нарциссизм и базовое чувство самоуважения, получится существо, ощущающее себя объектом первичной ценности, важнейшим во вселенной, представляющим собой отражение жизни в целом. Это и есть причина ежедневной и обычно мучительной борьбы с детьми. Ребенок не может позволить себе быть вторым или обесцененным, не говоря уже о том, чтобы быть покинутым. «А ему вы дали конфету больше, чем мне! А ему вы дали больше сока!» – «Ну вот, возьми еще». – «А теперь у нее больше, чем у меня!» «Ей вы даете зажигать камин, а мне нет!» – «Ну вот, зажги этот кусочек бумажки». – «Но он меньше, чем тот, что зажгла она!». И так далее, и так далее… Существо, обладающее символическим чувством собственной значимости, вынуждено ежеминутно сравнивать себя со всеми вокруг, чтобы убедиться, что оно внезапно не стало вторым. Детская ревность – это важная проблема, отражающая базовое человеческое состояние. Дети не злобные, эгоистичные или высокомерные, они просто очень открыто выражают трагическую судьбу человека: им безумно нужно оправдывать себя как объект высочайшей вселенской ценности. Ему нужно выделяться, быть героем, совершать максимально возможный вклад в жизнь всего мира, показывать, что он стоит больше, чем другие.
Когда мы в полной мере осознаем, насколько естественно для человека стремление к героизму, насколько глубоко это заложено эволюцией в его организм, насколько открыто он демонстрирует его, будучи ребенком, тогда становится еще интереснее, насколько большинство из нас сознательно не понимают того, чего хотят и что необходимо. Как бы там ни было, в нашей культуре, особенно в современности, героизм кажется чем-то слишком большим для простого обывателя, или мы слишком малы для него. Скажите молодому человеку, что он может стать героем, и тот покраснеет в ответ. Мы маскируем нашу борьбу, добавляя нули к сумме на счету в банке, чтобы негласно отразить наше чувство героической ценности. Или имея чуть лучший дом в округе, чуть более вместительную машину и более красивых детей. Но за всем этим пульсирует болезненное чувство космической уникальности, вне зависимости от того, как тщательно мы его прячем за мелочами. Время от времени кто-то может заявить, что серьезно относится к собственному героизму, от чего большинство из нас бросает в дрожь. Например, так сделал конгрессмен США Мендель Риверс, вложивший массу денег в оборонно-промышленные предприятия и заявивший после этого, что он самый могущественный человек со времен Юлия Цезаря. Мы можем содрогаться от пошлости приземленного героизма как Цезаря, так и его последователей, но это не их вина. Дело в обществе, развившем систему героизма, и в людях, которым дозволяется играть эти роли. Нужно честно признать, что стремление к героизму естественно. И это признание может пробудить сдерживаемую силу таких масштабов, что она может разрушить общество, каким мы знаем его сейчас.
Дело в том, что общество сейчас таково, как и было всегда: символическая система действий, структура статусов и ролей, привычек и правил поведения, созданная для того, чтобы стать движущей силой земного героизма. Каждая модель поведения в чем-то уникальна, а каждая культура – это отличная от других система героев. То, что антропологи называют «культурным релятивизмом», на самом деле есть относительность героических систем по всему миру. Но каждая культурная система – это драматизация земного героизма. И каждая система отводит роли для представления различных степеней героизма: от «высокого» героизма Черчилля, Мао или Будды, до «низкого» героизма шахтера-угольщика, крестьянина, простого священника. Простой каждодневный приземленный героизм написан заскорузлыми руками, которые вытаскивают семью из голода и болезней.
Не имеет значения, является ли культурная героическая система чисто магической, религиозной и примитивной, или светской, научной и цивилизованной. Главное, это мифологическая система, и целью людей в ней является приобретение чувства собственной первостепенной ценности, космической уникальности, важнейшей пользы для окружающего мира и непоколебимой значимости. Они добиваются этого чувства, зубами выгрызая себе место в природе, создавая памятник человеческим ценностям: храм, собор, тотемный столб, небоскреб, семью, включающую в себя три поколения. Люди верят и надеются, что вещи, которые создает человек, обладают непреходящей ценностью и могут пережить и превзойти смерть и упадок; человек и плоды его деятельности имеют значение. Когда Норман О. Браун сказал, что западное общество со времен Ньютона, неважно насколько оно научное или светское, все еще остается таким же «религиозным» как любое другое, он имел в виду следующее: «цивилизованное» общество – это обнадеживающая вера в то, что благодаря науке, деньгам и товарам человек имеет большее значение, чем любое другое животное. В этом смысле все, что делает человек, становится религиозным и героическим, но все же подвергается опасности оказаться вымышленным и ошибочным.
Вопрос, который после этого становится наиболее важным из всех, что человек может задать сам себе, таков: насколько он осознает то, что делает ради достижения чувства героизма? Я полагаю, что, если бы каждый честно признал свое стремление быть героем, это стало бы сногсшибательным раскрытием истины. Это бы заставило людей требовать от культуры отдать им должное – базовое ощущение ценности человека как уникального вклада в космическую жизнь. Могут ли современные общества удовлетворить столь честное требование, и при этом не быть потрясенными до самых основ? Только общества, которые мы сегодня называем «первобытными», давали такое чувство своим членам. В современном индустриальном обществе представители национальных меньшинств, кричащие о свободе и человеческом достоинстве, на самом деле неуклюже просят о том, чтобы им дали чувство первичного героизма, которого исторически они были лишены. Вот почему их настойчивые требования расстраивают и доставляют такую массу неприятностей: как мы можем сделать такую «необоснованную» вещь в русле развития современного общества? «Они просят невозможного» – так мы обычно объясняем наши трудности.
Но не каждый может легко признать истину о потребности в героизме. Даже те, кто хочет, чтобы их требования были услышаны. В этом и загвоздка. Как мы увидим в дальнейшем обсуждении, жизненно важная проблема самоанализа заключается в том, чтобы понять, что ты делаешь для достижения ощущения героизма. Это самое болезненное и отрезвляющее, что открыл психоаналитический и религиозный гений в человеке, столкнувшемся с ужасом признания тех или иных действий, направленных на достижение самоуважения. Вот почему человеческий героизм – это слепая одержимость, приводящая людей в ярость. Для вспыльчивых людей вопли о славе – это так же некритично и инстинктивно, как лай для собаки. В более пассивных массах заурядных людей то, как покорно и жалобно они следуют моделям поведения, в которых общество предлагает им возможность геройства и развития внутри системы, скрыто от глаз. Люди носят стандартную униформу, тем не менее позволяя себе выделиться из толпы, но всегда очень тихо и осторожно, привязав маленькую ленточку или надев бутоньерку, однако ни в коем случае не встав во весь рост, чтобы заявить о себе.
Захоти мы избавиться от этого глобального обмана, от подавления человеческих попыток заработать себе славу, мы бы пришли к потенциально самому освобождающему вопросу, основной проблеме человеческой жизни: насколько эмпирически достоверна культурная система героизма, поддерживающая и направляющая людей? Мы упомянули худшую сторону человеческого стремления к вселенскому героизму, но есть и положительная сторона. Человек отдаст жизнь за свою страну, общество, своих друзей. Он накроет своим телом гранату, чтобы спасти друзей; он способен на величайшее благородство и самопожертвование. Но ему приходится чувствовать и верить, что то, что он делает, действительно доблестно, неподвластно времени и глубоко содержательно. Кризис современного общества абсолютно точно заключается в том, что молодежь больше не чувствует героизма в действиях, предписанных существующей культурой. Они не верят в то, что это эмпирически касается проблем их жизней и настоящего времени. Мы живем в период кризиса героизма, который затрагивает каждый аспект нашей социальной жизни: исчезает университетский героизм, героизм бизнеса и карьеры, героизм в области политики. Растет популярности антигероев, тех, кто был бы героическим по-своему, или как Чарльз Мэнсон[14] и его особенная «семья», тех, чей измученный героизм набрасывается на систему, которая сама по себе этот героизм уже перестала представлять. Величайшая дилемма нашего времени, буря нашего века, заключается в том, что молодежь ощутила – к лучшему или к худшему – величайшую социально-историческую истину: как в несправедливых войнах существуют бесполезные самопожертвования, так и у целых сообществ бывает подлый героизм. Это может быть агрессивный разрушительный героизм гитлеровской Германии или обычный пошлый и глупый героизм демонстративного потребления, накопления денег и получения привилегий, что ныне характеризует все образы жизни – от капиталистического до советского.


