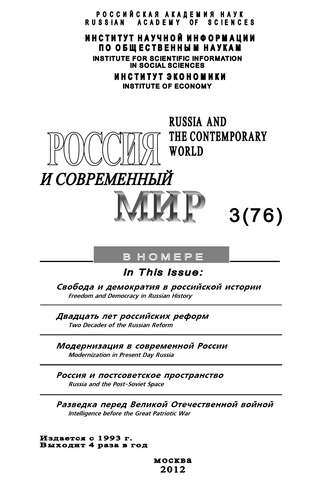
Юрий Игрицкий
Россия и современный мир №3/2012
Трудная работа освобождения в основном продвигалась в рамках земского движения. Земство стало одним из самых главных достижений Великих реформ. В 1864 г. Александр II создал органы самоуправления в ряде провинций и областей. Их число и полномочия поэтапно увеличивались. К концу 70-х годов они были созданы в 34 наиболее населенных губерниях европейской части империи. К 1914 г. их число достигло 42-х, где проживали почти 90 % населения. За пределами европейской части была еще одна земская губерния, а во всем населении империи доля земств составляла почти 65 %. При этом в Финляндии было свое самоуправление – фактически она была демократией внутри Российской империи. Свое самоуправление было в областях казачьих войск, а также среди ряда этнических общностей.
Земства руководили работой образовательных и медицинских учреждений, разрабатывали разного рода проекты, связанные с инфраструктурой и т.д. Особенно важным было то, что они проводили выборы в представительные органы, земские собрания, и определяли состав исполнительных органов, земских управ. Для России это был бесценный демократический опыт.
Тем не менее и в сознании общества, и в политической мысли по-прежнему преобладал миф «всеобщей воли», воли всего народа. Несмотря на растущее разнообразие политического и интеллектуального ландшафта постреформенной России, мысли и чувства образованного и необразованных классов были сосредоточены на идеях политического единства. Одним из самых ярких тому примеров следует считать понятие самодержавной республики, предложенное отцом-основателем русского либерализма К.Д. Кавелиным (1818–1885). Его отправной точкой было органическое единство власти и народа. Исходя из этого, он придумал следующую формулу: «Так как народ, без сомнения, по самому существу своему самодержавен, то и единая с ним власть, eo ipso должна быть самодержавной» [Кавелин: 439]. Далее Кавелин продолжает: «Царь есть единственный и самый верный оплот крестьянства против аристократических или мещанских конституций; он и в будущем лучшая гарантия против возникновения всяких привилегированных правящих классов. И нет сомнения, что всею массой своей, дружно и уверенно Россия может идти только за самодержавным, т.е. свободным царем, не зависящим ни от бояр, ни от плутократов. Сама история заставляет нас создать новый, небывалый своеобразный политический строй, для которого не подыщешь другого названия, как – самодержавной республики» [Кавелин 1989: 436].
Если попытаться найти в современной политической практике альтернативные словесные выражения самодержавной республики Кавелина, то это были бы суверенная демократия Суркова и самодержавное народовластие Грызлова–Мединского. Как это ни покажется странным, именно русское революционное движение, а не монархия, двинуло вперед кавелинский проект по объединению народных масс снизу и популистской власти сверху против плутократической буржуазии. Для этого потребовалась победа Октябрьской революции 1917 г. Однако словесно проект был оформлен иначе. Задолго до этого еще в 1905 г. Ленин начал говорить о советской власти как о новой форме политической организации или прямой демократии масс. Так что советская власть Ленина – также «русская придумка», еще один синоним все того же самодержавного народовластия.
Демократия советов
В результате очередной освободительной революции в нашей стране вновь воссоздалась самодержавная власть. Вновь великий акт всеобщего освобождения обернулся открытой диктатурой. Советская власть была крайне противоречивой. С одной стороны, она опиралась на массовое участие, что придавало ей демократические черты особенно в сочетании с институциональной формой прямой демократии советов. С другой стороны, управлять формирующейся системой смогла только в высшей степени интегрированная и дисциплинированная авангардная партия нового типа. Ленин в своей основополагающей книге «Детская болезнь “левизны” в коммунизме», написанной в 1920 г., фиксирует иерархию власти: лидеры, партия, (рабочий) класс, массы. Это была та структура-луковица, о которой впоследствии писала Ханна Арендт в своем «Происхождении тоталитаризма».
Демократический централизм был ответом на практический вопрос, касавшийся управления страной. Первоначально он представлял собой набор внутренних организационных принципов нарождающейся в России социал-демократической партии, предложенных большевиками и непосредственно Лениным. Хотя книга Ленина «Что делать?» (1902) считается основополагающей для концепции демократического централизма, эта концепция не была чисто русским нововведением. На самом деле еще в 1868 г. социал-демократ Жан Батиста фон Швейцер придумал термин «демократическая централизация» (demokratische Zentralisation) для описания структуры Объединения немецких профсоюзов (Allgemeiner Deutscher Arbeiter – verein, ADAV), президентом которого он был. В 1906 г. Ленин предложил знаменитую формулу: «свобода обсуждения, единство действий».
Когда Советская Россия достаточно окрепла, изложенные Лениным принципы демократического централизма, с изменениями, носившими чисто технический характер, легли в основу внутренней структуры советской системы правления. Однако как конституционный принцип, на основе которого организовано государство, демократический централизм был официально закреплен только в ст. 3 Конституции СССР 1977 г.: «Организация и деятельность Советского государства строятся в соответствии с принципом демократического централизма: выборностью всех органов государственной власти снизу доверху, подотчетностью их народу, обязательностью решений вышестоящих органов для нижестоящих. Демократический централизм сочетает единое руководство с инициативой и творческой активностью на местах, с ответственностью каждого государственного органа и должностного лица за порученное дело».
Считается, что советская Конституция 1936 г. стала, благодаря закрепленным в ней демократическим принципам, одним из самых передовых правовых документов того времени. Она сняла ограничения на возможность голосовать и закрепила прямое всеобщее избирательное право. Конституция также предусматривала прямые выборы всех органов власти и их реорганизацию в единую и единообразную систему. Советский период политического развития весьма последователен в своей концептуальной целостности. Тем не менее существует большая разница между довоенным и послевоенным состояниями (стадиями) одного и того же советского проекта как в структурном (конституционном), так и в институциональном (режимном) измерениях. В то время как первое состояние заключалось в вырождении прямой демократии Советов в открытый тоталитаризм, второе – обозначило демонтаж тоталитаризма и движение к гораздо более универсальным и гетерогенным формам автократического правления. Можно утверждать, что сталинский режим претерпел трансформацию в результате кризиса 1941 г. Пример Отечественной войны 1812 г. был воспроизведен во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Общее название – отечественная война – отражает их существенное сходство. Результаты этих войн также были сопоставимы. Участие во всеобщей антифашистской освободительной борьбе и твердая решимость советских патриотов бороться против иностранных захватчиков привели к господству сверхдержав на мировой арене и новому виду самодержавного режима внутри страны.
При всей инерции личной власти Сталина и ее стилистики отличие второго (послевоенного и посттоталитарного) советского режима от предыдущего намечается уже в годы войны (признание роли православной церкви, замена народных комиссариатов министерствами, административные и военные реформы) и ко времени проведения XIX съезда КПСС. Особенно ярко эти перемены проявилось во время «хрущёвской оттепели» и XX съезда КПСС.
Годы и десятилетия после смерти Сталина можно рассматривать как постепенный процесс десталинизации или как ряд структурных и сущностных изменений, влияние которых оказалось весьма значительным. Во время правления Хрущёва была выдвинута идея «всенародного государства». Заявлялось о восстановлении ленинских норм демократического централизма в партии и государстве. Партия стремилась сохранить единство народа и власти. Распространенным лозунгом в то время был «Народ и партия едины».
Институциональная система правления и действующая конституция оказались вполне способными к адаптации и трансформации. И действительно, система расширилась за счет существенного увеличения груза ее функциональных обязанностей и задач как внутри страны, так и за ее пределами. Система усложнялась и диверсифицировалась, несмотря на ее традиционную предрасположенность к единству и доктринальные требования коммунистической однородности порядка. Типичным структурным решением было появление зон исключения из такого порядка. Постепенно «дырок в сыре» становилось все больше. Под конец дырок, а с ними и потенциальных пространств освобождения, даже стало больше, чем сыра, хотя режим этого как будто не замечал. Результатом этого процесса стало постепенное ослабление и институциональной системы, и режима.
От «демократизации» – к «ущербной демократии»
К началу 80-х годов в советском обществе сформировался запрос на реформы. Здесь не место обсуждать, каковы были альтернативы и как они могли быть использованы. Признание Ю.В. Андропова, что мы не знаем общества, в котором живем, могло указывать, что подготовка к серьезному реформированию была возможна и даже началась. Фактические сдвиги наметились после того, как в марте 1985 г. Генеральным секретарем КПСС стал Михаил Горбачёв. Вновь как и во времена Великих реформ в публичный дискурс были внесены понятия перестройки и гласности. Соответствующие идеи были сформулированы и обнародованы на XXVII съезде КПСС в феврале 1986 г. Распространенные в то время лозунги «Больше демократии – больше социализма», «назад к Ленину» подразумевали встраивание демократической реформы в советскую традицию. Хотя перестройка ознаменовала радикальные перемены в политическом облике страны, конституционные положения, принятые Верховным Советом в ноябре 1988 г., не ликвидировали традиционные структуры. Предполагалось, что граждане должны были прямым голосованием избирать народных депутатов, из которых бы состоял Совет народных депутатов и который в свою очередь избирал бы двухпалатный Верховный Совет. Одна треть депутатов избиралась не по территориальному признаку, а от общественных организаций, включая КПСС, комсомол и профсоюзы. После неспокойной кампании в марте 1989 г. прошли первые соревновательные выборы, в которых потерпели поражение более трех десятков высших партийных чиновников. Вероятно, эти выборы были наиболее успешными с точки зрения соревновательности за последние 20 с лишним лет.
После распада СССР (это проблема, требующая отдельного анализа) Б.Н. Ельцин и его сподвижники заявили о радикальном разрыве с прошлым, однако новая властная структура оказалась довольно традиционной. Демократическая Конституция 1993 г. во многом воспроизвела конфигурацию власти, намеченную в самодержавной конституции 1906 г. Вместе с тем в стране ширилось понимание неэффективности и низкого качества новопровозглашенной демократии. Объяснения этому, однако, давались разные. Нельзя было отрицать наличие большого разрыва между ожидаемым и действительным. Некоторые связывали существующие проблемы с утратой независимой и консолидированной властной основы режима, другие – с неспособностью режима соответствовать нормативным идеалам и лучшим международным практикам. Первая точка зрения казалась лучше соответствующей действительности и более созвучной отечественной традиции, тогда как вторая была абсолютно непрактичной, умозрительной и чужеродной. Первая позиция постепенно возобладала как в умах власти, так и населения в целом. Второй же придерживались догматичные демократы и ревностные критики ельцинского, а затем и путинского режимов. Несмотря на все достижения конца 80-х и начала 90-х годов, как их сторонники, так и их противники отмечали существенные недостатки ущербной демократии4 – этот термин использовал даже убежденный приверженец демократизации Егор Гайдар. Подобное согласие было естественным только потому, что сторонники обеих точек зрения придерживались нормативных интерпретаций. И когда реальность оказалась далекой от воображаемого идеала, они назвали эту реальность плохой.
Другой и, вероятно, более существенной причиной безрезультатности демократических попыток в 90-х годах был быстрый автократический поворот. Двадцать месяцев, прошедших после распада СССР были своего рода периодом двоевластия президента-реформатора и «популистского» Верховного Совета. Обе власти действовали в очень неясно очерченных демократических институциональных рамках. Фактически никаких обязательств придерживаться провозглашенных правил демократического поведения не было. Эти правила никаким образом не были привязаны к текущей практике принятия решений и разрешения вопросов.
В то время как некоторые члены Верховного Совета могли искренне верить, что их законодательство обладает практическим инструментальным значением, именно Ельцин первым делом озаботился обеспечением минимального уровня управляемости в стране. Его победа была открытым реваншем самодержавия, сопровождавшимся восстановлением послевоенной системы правления, хотя и в новой нормативно-конституционной оболочке, системы, характеризующейся также отсутствием идеологического наполнения псевдодемократического дискурса. Тенденция к ослаблению режима и проведению реактивной политики и стратегии принятия решений получила второе рождение. Слабость режима можно было с легкостью интерпретировать как его либерализм. Его неспособность эффективно консолидировать личную власть Ельцина считалась признаком демократии. Кризис 1998 г., последовавший за ним финансовый дефолт и обрушение рубля четко показали, что тенденция к ослаблению режима достигла своего предела. Возможности реактивной политики были исчерпаны до дна. Этого дна Россия достигла осенью 1998 г.
В преддверье выборов 2000 г. президент-самодержец избрал своего преемника. Тот с легкостью победил на выборах, однако задачи, которые Владимиру Путину предстояло решить, были не из легких. Самая непосредственная задача Путина состояла в том, чтобы консолидировать свою власть, а в перспективе президентскую и самодержавную. Одним из его первых шагов стала отмена прямого участия губернаторов в работе Совета Федерации. Эта инициатива была направлена на предотвращение появления альтернативного, по типу боярской думы, источника власти в стране и в полной мере соответствовала логике самодержавно-автократического поворота. Однако этот поворот отнюдь не предполагал невозможности поиска альтернатив развития и осмысленной дискуссии по этому поводу и внутри режима, и в обществе. Так, одновременное с удалением губернаторов из Совета Федерации создание Государственного совета, в состав которого вошли ключевые губернаторы, также могло способствовать проведению характерных для демократических режимов дискуссий по стратегическим альтернативам развития страны.
Неопределенность была недолгой. Выбор вскоре был сделан – и не в пользу формирования базы проактивной политики. Уже к 2003 г. президентская администрация работала над ограничением и сужением повестки дня дискуссий об альтернативах развития России. Осенью того же года один из наиболее эффективных инициаторов этих дискуссий Михаил Ходорковский был арестован. После захвата террористами заложников в школе Беслана в сентябре 2004 г. Путин провозгласил политику укрепления вертикали власти. В результате открытого самодержавного поворота восстановление советских режимных характеристик стало неминуемым. Возникавший порядок по многим важным аспектам напоминал вторую или послевоенную советскую систему.
Наиболее важным, пожалуй, аспектом поворота стало идеологическое конструирование политической повестки дня. На информационных каналах доминирующее положение заняла официальная позиция, тогда как все альтернативные точки зрения отодвигались за пределы информационного поля. Для того чтобы отчетливо отделить официальный идеологический домен самодержавной власти от фрагментированных и маргинализуемых неофициальных пространств общения и был введен термин «суверенная демократия», впервые расшифрованный заместителем руководителя администрации президента Владиславом Сурковым на выступлении перед стажерами Центра подготовки партийных кадров партии «Единая Россия» 7 февраля 2006 г.
Что в имени твоем?
Большинство читателей с детства помнит железное правило капитана Врунгеля: «Как вы лодку назовете, так она и поплывет!» Из уст различных людей у нас и за рубежом можно услышать самые различные квалификации России. Однако за точку отсчета следует, вероятно, взять то, как она называет себя сама. В соответствии с собственной конституцией Российская Федерация – демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления (ст. 1). В ст. 7 и 14 уточняется, что Россия также социальное и светское государство. То, что Россия также и суверенное государство вытекает из ст. 3, а то, что конституционное, из самого факта существования конституции и из ее основных положений.
В совокупности получаются следующие квалификации в порядке базовости-дополнительности. Сначала идет суверенное, затем светское, далее конституционное, федеративное, правовое, демократическое, социальное государство с республиканской и, добавим, смешанной президентско-парла-ментской формой правления5. В этом ряду демократическое устройство примерно в середине. Демократия основана на суверенности, светскости, конституционности, федеративности и верховенстве права. Это предпосылки и основания демократии. В свою очередь сама демократия становится основой и предпосылкой для социального государства, республиканизма и президентско-парламентской формой правления. Впрочем, и социальное государство, и республика, и ее строй могут быть и не демократиями, а олигархиями (по устройству) или даже автократиями (по стилю властвования). Тогда социальность и республиканский строй приобретут олигархическую или автократическую окраску.
Добавлю, соглашаясь с Грызловым и Мединским, что демократия любой страны, а значит и России основана на своей исторической традиции с различными «придумками» в ее наследии. Однако это наследие требуется последовательно насытить всеми предпосылками. Суверенность предполагает, как минимум6, фактическое включение в сообщество современных7 государств и признание соответствующего статуса. Светскость предполагает, как минимум, разделение религиозных и светских порядков одновременно с признанием свободы и автономности религиозных культов. Конституционность предполагает, как минимум, создание общей рамки, ограничивающей как государство, так и гражданское общество, но одновременно и гарантирующей автономность каждого относительно друг друга. Наконец, верховенство права, как минимум, предполагает не только уважение законов, закрепляющих суверенность, светскость и конституционность, а также автономность судебной власти. В этом смысле оно предшествует им. Куда важнее то, что принятые народом («предприятием поколений» по Э. Берку) и тем самым ставшие неотъемлемой частью национальной традиции стандарты права и прав человека как квинтэссенция суверенности, светскости и конституционности превращаются в источник и самого суверенитета, и конституции, и любых действий законодателя и судьи. Никакой царь или герой и даже никакой плебисцит не могут посягать на стандарты права и прав человека, на то, что для всех бесспорно, справедливо и честно. В этом, кстати, неправовой характер нацистского присвоения немецкого государства, совершенный, казалось бы по избирательному закону и правилам президентско-парламентской формы8. Только поколения, постепенно меняя традицию, могут изменить и стандарты права и прав человека, но сначала они должны ее создать, либо воссоздать. Одного провозглашения прав и свобод человека высшей ценностью (ст. 2) мало. Нужна их укорененность в традиции.
Выходит, что одной исторической «придумки» недостаточно. Ее следует дополнять и насыщать путем очень трудной и интенсивной работы, многократной доделки и переделки «дополнений» одного за другим. Только после этого на исторической развилке можно приступать к выбору: сохранять ли олигархию (пусть даже соревновательную с честными и справедливыми выборами), или выходить на новый уровень организации власти со все более сложными и совершенными способами ее подотчетности, т.е. к современной демократии.
Еще раз хочу вспомнить слова Егора Гайдара, что у нас убогая демократия, но это в конце концов демократия. И – подразумевалось – мы можем сделать ее лучше. Гайдар, конечно, не мой герой. Им сделано немало просчетов и ошибок. Разглядеть наше наследие и традиции ему не очень-то удавалось. Да и понимание им демократии было, мягко говоря, поверхностным и односторонним. Однако в готовности признавать ошибки и работать над их исправлением он был прав.
Совсем иное дело, когда политики полагают, что у нас уже есть ровно та демократия, которая нам нужна и которой мы достойны. Когда они уверены, что она уже была придумана четыре столетия тому назад. Когда они полагают, что самое надежное – двигаться к чистому идеалу, когда народ и партия, сиречь начальство, едины.
Пора понять, что словом «демократия» называются разные явления, что «прилагательные» при нем существенны, даже когда опускаются из-за самоочевидности. Пожалуй, первое и самое важное «прилагательное» или принципиальная характеристика – это современность демократии. Только в современных условиях возникает запрос на систематическое и последовательное согласование решений и на всеобщую подотчетность соответствующих действий уже не в рамках отдельных сегментов общества, а в масштабах формирующихся наций и территориальных государств. Этот запрос определяется необходимостью формировать и осуществлять приемлемые для больших масс людей политические курсы, связанные существованием в условиях развития. Современная политика – это не воспроизведение раз и навсегда заданных образцов или одной 400-летней давности «придумки», а принятие решений в непрестанном потоке изменений. Как раз для этого и нужны институты и практики, которые условно можно объединить под общим рамочным названием современной демократии.
Подобное понимание демократии предполагает отсутствие одного единого «сущностного» набора нормативов и принципов, а уж тем более следование одной единственной «придумке».
Как интерпретировать в этом контексте грызловскую идею следования «придумке» 400-летней давности (см. начало статьи)? Надеюсь, это не слишком удачное упражнение в политической риторике. Если его понимать буквально, а тем более превращать в практические действия, то это чревато не просто выхолащиванием важных положений нынешней российской конституции, но демодернизацией нашего государства и общества. Отвечающее мировым императивам развитие связано не с редукцией современных форм правления к их средневековым прототипам, а с насыщением традиций современным содержанием, их развитием и приумножением. При таком подходе мы, граждане новой демократической России, сможем не только найти движущие вперед имена сегодняшнего и завтрашнего политического порядка, но и предложить миру действительно привлекательные способы организации власти со все более сложными и совершенными способами ее подотчетности, т.е. демократию по-русски.
Литература
1. Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов. Пер. с фр. / Общ. ред. и вступ. ст. Ю.С. Степанова. – М.: Прогресс-Универс, 1995.
2. Грызлов Б.В. Приветственное выступление на Международной конференции, посвященной 105-летию парламентаризма в России [http://tyumen.er.ru/?news=3574].
3. Даль Р. Демократия и ее критики. – М.: РОССПЭН, 2003.
4. Запись программы (вед. К. Ларина) радиостанции «Эхо Москвы» от 27.11.2006 [http://www.sps.ru/?id=217458].
5. Ильин М.В. Слова и смыслы. Опыт описания ключевых политических понятий. – М.: РОССПЭН, 1997.
6. Ильин М.В. Фундаментальная идея человечности и ее понятийные и контрпонятийные выражения в индоевропейской культурной традиции. – Концептуализация политики / Ред. М.В. Ильин. – М.: МОНФ, 2001.
7. Ильин М.В. Суверенитет: Вызревание понятийной категории в условиях глобализации. – «Политическая наука». – 2005. – № 4.
8. Ильин М.В. Суверенитет: Развитие понятийной категории. – Суверенитет. Трансформация понятий и практик / Ред. Ильин М.В., Кудряшова И.В. – М.: МГИМО, 2007.
9. Кавелин К.Д. Наш умственный строй. Статьи по философии русской истории и культуры. – М.: Правда, 1989.
10. Пивоваров Ю.С., Фурсов А.И. Русская система. – Полис. – 1997. – № 3.
11. Пивоваров Ю.С. Русская история как «Русская идея». – Национальная идея: История, идеология, миф / ИСП РАН; отв. ред. Г.Ю. Семигин. – М.: Современная экономика и право, 2004.
12. Пивоваров Ю.С. Русская власть и исторические типы ее осмысления. – Российская полития на рубеже веков / Отв. ред. С.В. Михайлов. – М.: Полития, 2001.
13. Родин И. Суверенную демократию придумал Иван Грозный. – Независимая газета, 28.04.2011. – С. 3.
14. Россия сегодня: Политический портрет в документах, 1985–1991. – М., 1991. – С. 449.
15. Рощин Е. История понятия суверенитет в России. – Копосов Н., Кром М., Потапова Н. (ред.) Исторические понятия и политические идеи в России. – СПб.: ЕУСПб, Алетейя, 2006.
16. Рощин Е. Суверенитет: Особенности формирования понятия в России. – Ильин М., Кудряшова И. Суверенитет. Трансформация понятий и практик. – М.: МГИМО, 2008.
17. Стенограмма заседания Государственной думы 22 апреля 2011 г. [http://transcript. duma.gov.ru/node/3427/].
18. Цымбурский В.Л. Идея суверенитета в посттоталитарном контексте // Полис. – М., 1993. – № 1.
19. Цымбурский В.Л. Scripta minora. – М.: Европа, 2010.
20. Benveniste E. Le Vocabulaire des institutions indo-européennes 1 et 2. – Paris, Minuit. 1969.
21. Elgie R. & Moestrup S. Semi-presidentialism outside Europe. A Comparative Study. – L., N.Y.: Routledge, 2007.
22. Haxthausen, August von. Studien über die innern Zustände, das Volksleben und insbesondere die ländlichen Einrichtungen Russlands. Bd. 1. Hannover, 1847; Bd. 2. Berlin, 1847, Bd. 3. Berlin, 1852.
23. Lincoln, W. Bruce. The Problem of Glasnost’ in Mid-Nineteenth Century Russian Politics. – European Studies Review, 1981. – V. 11, N 2. – P. 171–188.
24. Riasanovsky Nicholas V. Russian Identities: A Historical Survey. – New York: Oxford University Press, 2005.
25. Shugart M. Semi-Presidential Sytems. Dual Executive and Mixed Authority Patterns. MSS. 2005 (http://dss.ucsd.edu/~mshugart/semi-presidentialism.pdf).
26. Shugart M.S. & Carey J.M. Presidents and Assemblies. Constitutional Design and Electoral Dynamics. – Camb.: Cambridge univ. press, 1992.
27. Tilly Ch. Contention and Democracy in Europe, 1650–2000. – Camb.: Cambridge univ. press, 2003.







