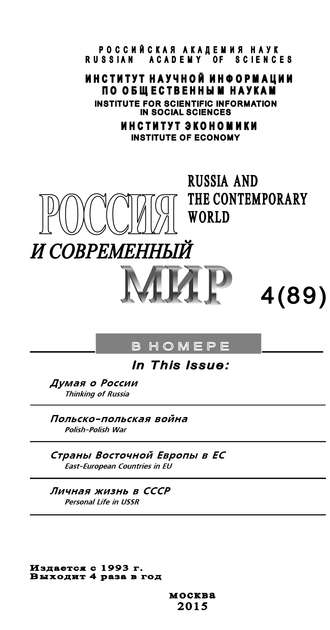
Юрий Игрицкий
Россия и современный мир №4 / 2015
Россия вчера, сегодня, завтра
«Из-под каких развалин говорю…»1
Ю.С. Пивоваров
Пивоваров Юрий Сергеевич – академик РАН, научный руководитель ИНИОН РАН.
Посвящается Адаму Михнику
Поставив в название работы эту знаменитую ахматовскую строчку, подумал: а ведь для меня «развалины» не только политическая метафора, но и совершенно трагическая практика. Это и есть тот контекст, в который я помещаю свои беглые размышления о нашей действительности. Она стремительно меняется, и я не могу даже приблизительно ответить на вопрос: «Куда движется Россия?» Во всяком случае, как говорил Арнольд Тойнби: «History is again on the move». Я всегда ощущал себя поздним потомком русских «лишних людей». Временами мне казалось это внутренним пижонством. Но происходящее все-таки убеждает, что эта идентификация не столь уж неточна. И мне очень близко самоощущение Раймона Арона начала тридцатых годов: «Я приехал в Германию, я был еврей, и знал это, но, если можно так сказать, осознавал это не вполне»…2
Стилистически эта работа состоит из ряда отрывков – маленьких эссе, заметок, воспоминаний. Все они навеяны тревогой и предощущением грозных событий. Надеюсь, что повышенная эмоциональность и местами – увы! – пафосность не заслонят главную тему: «Что с нами будет?» Также не теряю надежды, что мозаичность текста не перечеркивает стремления автора к целостному ви́дению.
ПОЧЕМУ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ
Памяти Юрия Нагибина
Этот умный наблюдатель и пониматель (если так можно сказать, но о Юрии Марковиче хочется) советской жизни записал в ноябре 1969 г. (хорошо помню это время и ощущение – одновременно давящей тоски и поэтического, не в смысле стихосложения, порыва…): «Нет ничего страшнее передышек. Стоит хоть на день выйти из суеты работы и задуматься, как охватывает ужас и отчаяние. Странно, но в глубине души я всегда был уверен, что мы обязательно вернемся к своей блевотине. Даже в самые обнадеживающие времена я знал, что это мираж, обман, заблуждение и мы с рыданием припадем к гниющему трупу. Какая тоска, какая скука! И как все охотно стремятся к прежнему отупению, низости, немоте. Лишь очень немногие были душевно готовы к достойной жизни, жизни разума и сердца; у большинства не было на это сил. Даже слова позабылись, не то что чувства. Люди шугались даже призрака свободы, ее слабой тени. Сейчас им возвращена привычная милая ложь, вновь снят запрет с подлости, предательства; опять – никаких нравственных запретов, никакой ответственности – детский цинизм, языческая безвинность, неандертальская мораль»3.
Точный диагноз. Но от этой точности – тошно. Через сорок пять лет (почти полвека!) вновь всё то же самое. А может и похуже тех времен. Что-то не видно нынче активного правозащитного движения, сахаровых, солженицыных, буковских. Нет атмосферы Окуджавы – Галича – Высоцкого. Маргинализировалась переживавшая тогда подъем весьма широкая (в смысле и массовости, и палитры убеждений) гуманистическая интеллигентская культура. Церковь, зажатая железным обручем официального атеизма и гэбэшного конвоя, хотели того сами церковники или нет, в ту пору стала для многих (прежде всего молодых) пристанищем другой (лучшей) действительности, пространством обретения новых смыслов и укреплением в противостоянии злу. Сегодня же…
Тогда, на рубеже шестидесятых–семидесятых и далее, вплоть до перестройки, наличный пессимизм уходящей жизни в значительной степени уравновешивался оптимизмом воображения и надежды. У многих, в рамках той самой интеллигентской культуры, были свои варианты лучшего будущего для Отечества (и в них верили). Вернуться в семью цивилизованных (читай: европейских) народов, вновь пойти по органическому историческому пути (т.е. обратиться к дореволюционным порядкам), построить общество демократического социализма («с человеческим лицом») и т.д. И под каждый вариант будущего подводился солидный идейный и научный фундамент. Ныне же по прошествии почти двадцати пяти лет с момента краха СССР дискредитированы, провалились все релевантные, когда-то авторитетные концепции социального развития (либерально-правовые, социал-демократические, христианско-демократические, европейски-консервативные и т.п.). Как по другому поводу говорил Б. Пастернак: «Все накопленья и залоги / Изжеваны до одного. / Хватить бы соды от изжоги! / Так вот итог твой, мастерство?..»
Действительно, все «приличное», доказавшее свою адекватность и эффективность в других странах (в том числе и бывших «социалистических»), у нас девальвировалось намного сильнее, чем рубль. За них теперь не дадут «и даже ломаной гитары». В общем интеллектуальный и психологический климат хуже некуда. Разумеется, сохранились кучки доктринёров, долбящих свои «истины». Но это так, по инерции.
Что же сегодня? Полный вакуум, совсем нет идей, виденья будущего? – Да, есть, конечно. Зайдите в любой книжный магазин (но не в маленькую лавку какого-нибудь академического института), включите телевизор, почитайте газеты, я уж не говорю об Интернете с его возможностями. И вы убедитесь: все в порядке. Книги, статьи, интервью, круглые столы, заявления. В таком количестве! И все об одном! – Великий Сталин, «Братья и сестры»4, великий сталинский СССР, предательство перестройки, заговор Запада против России, свой особый путь, православная вера, православная цивилизация, либерасты, «пятая колонна», новая опричнина, жидобандеровцы, третья мировая уже идет… В общем приехали. Мракобесие, ложь, клевета, ненависть, примитивизм…
Но такой образ прошлого, но такое понимание настоящего, но такие планы по обустройству будущей России положительно воспринимаются большой (если не большей) частью нашего населения. То есть опаснейшая по своим близким и дальним последствиям идеология (имеются, естественно, различные ее изводы, но суть, безусловно, одна на всех) находит отклик в сердцах и умах возлюбленных сограждан. Байка, согласно которой народ, большинство не ошибаются, по выражению блатных, не катит. Еще как ошибаются. Недавний двадцатый век лучшая иллюстрация этому. От этого, правда, не легче. – Как же так? Что произошло с моим народом? Откуда взялось такое количество разжигателей вражды и сторонников зла? Как могли современники забыть или позволить себе не знать обличающего и неотменимого (амнистии не будет и по давности лет) приговора А.И. Солженицына: «…на всей планете и во всей истории не было режима более злого, кровавого и вместе с тем лукаво-изворотливого, чем большевистский, самоназвавшийся “советским”… ни по числу замученных, ни по вкоренчивости на долготу лет, ни по дальности замысла, ни сквозной унифицированности тоталитарности не может сравниться с ним никакой другой земной режим…»5. Или его же, горчайшее: «Кто помнит великий исход населения с Северного Кавказа в январе 1943 – и кто ему даст аналог из мировой истории? Чтобы население, особенно сельское, уходило бы массами с разбитым врагом, с чужеземцами – только бы не остаться у победивших своих, – обозы, обозы, обозы в лютую январскую стужу с ветрами»6.
А вот же не хотят знать этого. А хотят вернуться в «мир опекунской кабалы, где бедность… справедливо распределена в обмен на повиновение»7. У меня нет ответа: почему. Подобно множеству исследователей говорю: у нас не было глубокой десталинизации, десоветизации, декоммунизации. Но дело, видимо, не только в этом. Мы, все те, кто мечтал о свободе – осознанно или не очень, – исходили из убеждения, что, когда «оковы тяжкие падут», наши люди, скажем выспренно, выберут добро, реализуют задавленное режимом. Выбрали…
Правда, схожие процессы шли и в странах Центрально-Восточной Европы. А. Михник говорит: «Коммунизм был своего рода морозильной камерой. Многоцветный мир напряженностей и ценностей, эмоций и конфликтов был покрыт толстым слоем льда. Процесс “размораживания” происходил постепенно: сначала мы увидели красивые цветы, а потом грязь и отвратительную пену. Сначала был пафос мирного падения берлинской стены и “бархатной революции” в Чехословакии. Потом – волна ксенофобской ярости, охватившая Восточную Германию в 1992–1993 годах, распад Чехословакии в 1992 году, внезапный рост антитурецких настроений в Болгарии, антивенгерских в Румынии и Словакии, антицыганских во многих странах…»8. Вот именно, была разморожена морозильная камера.
Выходит, свободой воспользовались во зло. Выходит, свобода может стать новым шансом для него. Эк, открытие! Ведь предупреждали нас об этом и русские, и зарубежные мыслители. Ведь все мы помним революционно-радикальный и черносотенно-погромный подъем 1905–1907 гг., когда самодержавие пошло на уступки. А Февраль и его последствия! Но в обоих случаях нормальная часть общества сопротивлялась и далеко не безуспешно.
Почему же сейчас этого нет? Или почти нет?
О Борисе Ельцине и о нас (о его и нашей неудаче)
В нашей стране господствует стойкое неприятие двух исторических личностей недавнего прошлого – Михаила Горбачёва и Бориса Ельцина. Притом, что в реальной политике они были антагонистами, вменяются им одни и те же «преступления»; развал империи – СССР и подрыв того, что нынешние их критики полагают некой основой, сердцевиной, эссенцией русской жизни (и досоветской, и советской). Слава Богу, окончательно подорвать не удалось, а в последние годы мы даже переживаем ренессанс этих первородных стихий, говорят ревнители советского и «исконно» русского.
В таком историко-психологическом контексте у меня возник вопрос: а что я могу сказать о Борисе Николаевиче, уже завершившем свой жизненный путь? Что главное о нем дóлжно знать? Разумеется, не его пьяные выходки, не его какую-то природную дикость, неокультуренность, не демагогические обещания, не его, видимо, полное непонимание экономических материй. Да, это и, наверное, другое было. И все же, кажется мне, не этим и не с этим Борис Ельцин вошел в Историю.
Ельцин – это псевдоним нашей попытки преодолеть коммунизм (наряду с Горбачёвым). Его имя уже выбрано для обозначения важнейшего периода русской жизни. Далее. Он дважды спасал Родину. В 1991 и 1993 годах. При этом проявил несравнимое мужество и решительность, а также высшую степень ответственности. И оба раза не казнил путчистов. Простил их, дал им возможность вернуться к общественной деятельности. Это предотвратило «большую» кровь, поскольку стало единственно возможной тогда прививкой против гражданской войны. И не следует забывать: победи путчисты девяносто первого и девяносто третьего годов, они свернули бы ему (и нам) шею.
Ельцин – это и псевдоним девяностых. Сегодня об этом времени говорят – «лихие». Неправда, не лихолетье было содержанием эпохи. Но – возможности и выбор, столь редкие в русской истории. Тема «возможностей и выбора» связана со «свободой», хотя последняя и шире, и глубже ее. Предполагает определенный уровень благосостояния, господство права и др. В девяностые, кто бы ни пришел к власти, это было недосягаемо. Однако «возможности и выбор» открывали нам дорогу к свободе. Мы не сумели воспользоваться тем, что имели. И все же опыт тех лет не забыт. Нынешнее стояние за свободу имеет свои корни и там.
Но Ельцин это и псевдоним неудачи выхода из тоталитаризма. – На мой взгляд, сегодня главный русский вопрос – наша неудача. Нам не удалось решить основные проблемы этого (несостоявшегося) «транзита». Навскидку назову некоторые, далеко не все. – Декоммунизация, десоветизация. Запрет на распространение коммунистической идеологии. Глубокая реформа правоохранительных органов и спецслужб (гражданский контроль над ними и армией). Серьезные изменения в кадровом составе госслужбы. Законодательное ограничение вмешательства государства в деятельность средств массовой информации. Соблюдение Конституции, минимизация ее «монархических потенциалов», акцент на демократические, федералистские «правозащитные» начала Основного закона с осторожной, постепенной подготовкой пересмотра сверхпрезиденциализма, вписывание фигуры президента в систему разделения властей. Недопущение симбиоза Государства и Церкви. Преодоление милитантности сознания российских граждан. Создание просветительски-образовательной системы, направленной на формирование демократически-правового, антитоталитарного мышления. Отказ, насколько это возможно в специфических российских, постсоветских условиях, от государственного капитализма (госмонополии, госкорпорации, верхушка власти в роли владельцев основных богатств страны, «скорохваты»-миллиардеры в качестве мальчиков на побегушках у власти; особое отношение к тем, кто имеет доступ к сырьевому комплексу и оборонке, включая торговлю оружием). Обязательная ориентация на создание социально ответственной рыночной экономики. Партнерская, союзническая по отношению к демократическим государствам внешняя политика с дальним прицелом на вхождение в систему евроатлантической безопасности и кооперации. Тем самым (нескорое, конечно) превращение ее в евроазиатско-атлантическую.
Список нерешенных проблем можно продолжить. Я же говорил: «навскидку». – Однако дело не в этом. Каждый раз, когда называлась новая проблема, возникал вопрос: а кто ее будет решать? То есть речь идет о социальном субъекте, который инициирует нечто, а затем и приступает к реализации. Таких субъектов (субъекта) не нашлось. Ельцинские годы показали, до какой степени русское общество было раздавлено коммунистами. И хотя в хрущёвско-брежневский период оно потихоньку начало восстанавливаться, ему еще было очень далеко до состояния «civil society».
Но, тогда непонятно, кто же осуществлял перестройку? Один лишь Горбачёв со товарищи? – Неубедительно. Роль реформистской верхушки КПСС громадна, но без широкой массовой опоры (поддержки) ничего бы не вышло. Тем более в Великую Преображенскую революцию августа 1991 г. и Великую Антисоветскую октября 1993 г. (при всей значимости Ельцина и его соратников). Действительно, еще в самые густые советские семидесятые стало ясно, что в СССР сформировался массовый слой людей достаточно образованных, информированных, с определенным уровнем потребления и еще бóльшим запросом на него. А. Амальрик (один из тех, кто диагностировал появление этих людей) в своем эссе «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года»9 писал о слое специалистов, который со временем захочет для себя более свободных социальных условий.
Действительно, если в 1917 г. доля горожан в структуре населения России составляла 17,9% (на самом деле и того меньше; к горожанам относили и тех, кто временно жил в городе, а городами зачастую числили фактически полусельские поселения), то в 1989 г. в СССР – 66% (в РСФСР – 74%; для примера, в США – 72%). Доля работников умственного труда в 1987 г. равнялась 28% (в 1940 – 15%). Законченное высшее образование в том же году было у почти 21 млн человек (90 на 1000; в 1939 г. – 1,2 млн, 8 на 1000). Напомним, что в 1989 г. в СССР проживали 286,7 млн человек. Следовательно, если исключить из этой цифры детей, то более 10% советских людей имели высшее образование. К этому следует добавить 3,5 млн – с незаконченным высшим и почти 31 млн – со средним специальным. То есть около 55 млн человек (примерно 1/4 взрослого населения) можно отнести к типу современного человека. – И еще одно: в 1987 г. 1,5 млн человек имели ученые степени (в 1960 г. – ≈ 340 тыс.).
Этот слой, «средний советский класс», и был «материальной» основой перестройки и исторических событий начала девяностых. Этим людям было тесно в СССР. Кстати, по всем социологическим опросам нулевых и самого начала десятых примерно такая же (15–20%) доля российских граждан хотела бы жить в европейском (по типу) обществе. Свобода, право, конкуренция, социальная защищенность и т.д. – вот главные параметры такого социума.
Тогда почему эта достаточно многочисленная и общественно «продвинутая» страта оказалась не в состоянии стать историческим субъектом выхода страны из коммунистического тоталитаризма? С опорой на них, выражая их интересы, удалось разбить тюремные оковы, но не получилось всерьез двинуться к нормальной системе политики и экономики. Негативная программа была выполнена (правда, далеко не до конца, но все же…), а на позитивную сил не хватило. Почему?
Когда-то А.И. Солженицын ввел в русский политический лексикон слово «образованцы». Оно носило негативную коннотацию. Так он назвал своих идейных оппонентов либерально-плюралистических воззрений (статья «Наши плюралисты»). Думаю, что в целом в этой полемике Александр Исаевич был неправ (что не отменяет восхищения и благодарности ему). Но все это дела давно минувших дней (хотя, как сказать…). Мы же попробуем использовать этот термин (разумеется, без его обижающего смысла) в наших целях.
Так вот, страта продвинутых и современных советских людей состояла (в подавляющем числе) из образованцев. – Кто это? Что за люди? Когда-то я писал о рождении в середине ХХ в. (особенно в пятидесятые–семидесятые; в восьмидесятые это был уже зрелый и даже отчасти «перезревший продукт») массового модерного человека. Это индивид эпохи городской Современности (Modernity). Но – советской. Он не знал религиозного воспитания, был обязан к «исповеданию» низкокачественной и злобно-воинствующей идеологии (грубой смеси наивного натурализма-материализма, элементов поверхностного гуманизма, провинциального социал-дарвинизма и фальшиво-оптимистического, низкопробного исторического телеологизма). Он ничего не слышал об основах предпринимательства: не в смысле вора-«скорохвата», какими некоторые из этих людей явились в последние два с половиной десятилетия, но в духе, скажем, «Протестантской этики». Он практически не имел никаких связей с Россией дореволюционной, исторической. С Россией, созидавшей гражданское общество и правовое государство (это – не штампы, это – то, главное, что мы должны знать об Отечестве XIX – начала XX в.). Он был оторван от мейнстрима мировой культуры и социальной эволюции.
…По всему этому такой человек оказался не в состоянии решать положительные политические задачи. Еще в конце шестидесятых это предвидел Мераб Мамардашвили: «Отсутствие исторического накопления личностного развития как причина… невозможности политики». Как причина невозможности политики, которая есть поле конкуренции и сотрудничества юридически равных субъектов в рамках права.
Из «вакуума» в «ничто»? (почему Россия не Польша)
Ну, хорошо (на самом деле плохо), нам не удалось (надеюсь, пока) вырваться из тоталитаризма, пройти точку невозврата. А вот у наших бывших солагерников (по «социалистическому лагерю») вроде бы, худо-бедно, получилось. Знаю: на эту тему написаны горы профессиональной литературы. И, наверное, не стоило бы ломиться в открытую дверь. Однако для нас сейчас это вопрос высшей важности: почему не сумели? И поэтому хочу напомнить некоторые особенности транзита в Польше. Для русских это не просто страна, другая, соседская или какая-то еще. Польша – часть нашей судьбы, истории, настоящего.
Адам Михник, «антисоветский русофил» (как он сам себя определяет), один из ключевых участников и свидетелей всех этих «польских дел», говорит: история знает два способа (или пути) выхода из тоталитаризма – немецкий и испанский (по которому и пошло большинство транзитеров). Понятно: немецкий путь Польше был заказан. Тогда – испанский. Эволюция от диктатуры к демократии через компромисс и национальное примирение.
Профессор-правовед Альваро Хиль-Роблес, принявший активное участие в постфранкистском транзите, позднее ставший Уполномоченным по правам человека, писал: «…мы выбрали… путь мирного перехода, а не резкого разрыва со старой системой… Мы решили, что даже если нам это и не нравится, нам придется сесть за стол переговоров с франкистами, с военными, чтобы найти приемлемое для страны решение..: избежать разрыва и противостояния. Мы не собирались никого призывать к ответу, хотя не следует забывать, что многие из тех, кто сел за стол переговоров, либо прошли через тюремное заключение, либо побывали в изгнании»10.
В польском случае это выглядело так. В качестве площадки для диалога коммунистов и анти(не)коммунистов был создан «Круглый стол». Основными игроками на этом столе являлись, с одной стороны, Польская объединенная рабочая партия (ПОРП) и ее, к тому времени немногочисленные некоммунистические союзники, с другой – Католическая церковь и профсоюз «Солидарность», в который вошла сеть антикоммунистических комитетов КОС–КОР (в основном представители интеллигенции). Оппозиционные (антипорповские) организации находились в весьма сложных взаимоотношениях (в результате – худо-бедно в решающий момент договорились).
Итак, в Польше конца 80-х имелись: а) коммунистическая власть, которая была вынуждена лавировать (может, точнее – вертеться) между собственным обществом и Москвой; б) церковь, которая, помимо прочего, была хранительницей традиционного польского духа и социально-духовным пространством, независимым от ПОРП. Избрание Кароля Войтылы Римским папой (Иоанн Павел II) усилило общественные позиции церкви и, так сказать, актуализировало ее влияние. Вместе с тем это событие играло на руку всем некоммунистическим силам; в) «Солидарность» – мощный всепольский профсоюз, альянс рабочего класса и некоммунистической интеллигенции (как католической, так и светской); г) КОС–КОР – комитеты польской антикоммунистической интеллигенции, включавшие в себя немало людей, имевших опыт подпольной борьбы, тюрем, даже эмиграции. В 80-е годы КОС–КОР действовал вместе с «Солидарностью» и, как отмечалось, стал его частью.
Ко всему этому следует добавить, что польское крестьянство (весьма многочисленное, это вообще одна из самых «крестьянских» стран Европы), к счастью, не пережило тотальной и кроваво-насильственной коллективизации, как это случилось у нас. В коллективные хозяйства попало 13% от их общего числа, остальным было позволено сохранить свое частничество (частную собственность). То есть хотя по традиционному укладу сельской жизни и был нанесен удар, но далеко не сокрушительный.
Удаче польского транзита способствовало и то, что в послевоенный период, вплоть до конца 80-х годов на Западе (Франция, Великобритания, США) существовала (и периодически пополнялась) активная польская эмиграция. Да и режим выезда за границу был относительно либеральным. Можно было, как это сделал А. Михник, после окончания школы несколько месяцев провести в Париже и позже между посадками в тюрьму выезжать в Европу. Это, как если бы у нас инакомыслящие шестидесятых-восьмидесятых отправились за советом к П. Струве, Г. Федотову, М. Вишняку и т.д. «Мы» не совпали ни во времени, ни в пространстве.
Наряду с этим в правящих кругах США и некоторых других стран имелись влиятельные пропольские лоббисты (и других восточных европейцев тоже). С давних пор Польша (и не только она) находилась под известной опекой «старших» евроатлантических держав. Впоследствии «младших» включат в ЕС и НАТО. Тем самым исход транзита был предрешен.
И еще одно важное обстоятельство. Отказ от коммунистической системы был одновременно национальным освобождением от владычества Москвы. Это и само по себе способствовало поднятию градуса борьбы и было, пусть ненадолго, платформой для объединения разнородных сил. В девяностые и позже не столь актуальный уже антикоммунизм был заменен традиционным для поляков антирусским комплексом (я пишу это с тяжелым сердцем, поскольку люблю Польшу, но все-таки закрывать глаза на это было бы нечестно). То есть антироссийские настроения сплачивают польское общество и, если можно так сказать, ориентируют его на скорейшее возвращение в Европу.
Называя ряд положительных факторов, способствовавших успешному (в целом) переходу к демократии, необходимо сказать о «центрально-европейской идее». В 1997 г. А. Михник писал: «Несколько десятилетий назад писатели, художники и философы придумали Центральную Европу, как царство духа свободы, неоднородности и толерантности»11. Они «…прочли заново и представили миру духовное богатство этого региона, находящегося на стыке народов, религий и культур, – как воплощение в жизнь идеала много-культурного общества, как миниатюрную модель Европы, созданную по принципу: максимум неоднородности на минимуме пространства»12. Конечно, описывая феномен Центральной Европы, автор берет несколько через край. Но ведь это идея, идеал, идеализация, а не фотография или научный анализ. Вчитываясь в эти строки А. Михника, начинаешь понимать: действительно у Польши (и в разной степени у других бывших наших сателлитов Старого континента) имелись гораздо более веские основания для успеха демократического транзита (хочу подчеркнуть: этот термин я использую в несколько ином смысле, чем классические транзитологии).
«Преимуществом малых народов было отсутствие имперских черт, что превращало их в естественного союзника свободы и терпимости. Этот исторический опыт – десятилетия и столетия существования в условиях угнетения и репрессий – создавал специфическую духовность, характеризующуюся достоинством и самоиронией, упорным стремлением сохранить духовные ценности и смелостью веры в романтические идеалы. Здесь национальное и гражданское сознание складывалось в результате межчеловеческих уз и отношений, а не по приказу государственных институтов. Здесь легче было сформулировать идею гражданского общества, поскольку суверенное национальное государство оставалось обычно в сфере мечтаний. Культурная неоднородность этого региона… представляла собой самое лучшее оружие самозащиты против претензий этнических или идеологических держав»13.
Далее А. Михник рассказывает о тех трудностях, с которыми столкнулась концепция Центральной Европы в девяностые годы, после падения коммунизма. Но как бы там ни было, наряду с общеевропейской и евроатлантической идентичностями, в конце ХХ в. Польша обрела еще одну (крайне важную и перспективную) – центральноевропейскую. Им было куда идти. В отличие от нас. Когда-то, четверть столетия назад замечательный мыслитель и ученый А.Б. Зубов назвал одну из своих статей так – «Из империи в ничто?» В известном отношении оказалось «в ничто». Не менее адекватно было осторожное наблюдение тех же примерно лет знаменитого Эрнста Геллнера: «Мы можем теперь изучать Россию, чтобы понять, как гражданское общество может возникнуть из вакуума (если оно может из него возникнуть)»14. Так что из «вакуума» в «ничто». Конечно, это слишком суровый и прямолинейный приговор. Наличная жизнь гораздо сложнее и не абсолютно бесперспективна. Но как тенденция это так.
* * *
Правда, в начале десятых годов у меня была надежда на то, что в России возможна широкая, структурированная, конструктивная демократическая оппозиция. Ведь сумели же мы в конце восьмидесятых – начале девяностых – худо-бедно – сделать это (да, не очень структурировано, не всегда конструктивно, но…). И разве не свидетельствовали об этой возможности социологические опросы. До 20% населения хотели бы жить в правовом государстве, свободном, конкурентном обществе. И это не менее 30 млн взрослых людей (в основном жители больших и средних городов). С количественной точки зрения все в порядке.
Но не получилось. Не оказалось готового к преобразованиям и борьбе за них исторического субъекта (мы уже говорили об этом). Что же нам остается? – Ну, прежде всего, осознать: что происходит. Судя по всему, нас ждет довольно длительное существование в условиях радикальной несвободы и подавления инакомыслия. В большинстве своем граждане России приветствуют (с разной степенью вовлеченности и энтузиазма) установление подобного порядка.
Можно, конечно, списать все на губительную советскую систему, на грабительские девяностые, на падение цен на нефть, подкосившее наше историческое здание… Однако посмотрим на наличное (не вымышленное, не чаемое) общество. Газета «Ведомости» (28 мая 2015 г.) публикует данные: живущие на зарплаты, пенсии, госпособия – 66,3% населения; бизнесмены, люди свободных профессий, отходники – 15,2%; лишенные свободы, судимые, бомжи – 13,4%; представители власти – 5,1%. За последние двадцать лет каждый восьмой мужчина прошел через заключение; знаком с криминальной субкультурой каждый четвертый мужчина.
Да, структура современного русского общества «впечатляет». И, наверное, объясняет, почему не получается. Конечно, социологи и историки назовут причины становления подобной «конфигурации». Но мы же не только это хотим и должны знать. Ведь главный наш вопрос: как выздороветь? И возможно ли это?
ТРИ ЭТЮДА О ПРАВЕ
Право как инструмент возрождения тоталитаризма
Что обязательно предполагает право в классическом (европейском) его смысле? – Носителя права, субъекта права, правообладателя15. При отсутствии такового оно становится орудием (дубиной) власти. В России середины десятых годов XXI в. стало очевидным: право (повторю, классическое) невозможно во властецентричной культуре, только – в антропоцентричной.
Когда-то В.О. Ключевский сказал о Петре I: «Узаконил отсутствие закона»16. Сегодня у нас узаконено отсутствие права (нет его носителей), бесправие. Все знают марксистский постулат: право – воля господствующего класса, возведенная в закон. Это полностью применимо к России начала XXI столетия.
Мы уже на своей шкуре убедились: право и диктатура несовместимы. Этот вывод не очень впечатляет своей новизной? Что ж, зато он весьма ощутим. О чем говорит опыт России последних пятнадцати лет? – Если процесс детоталиризации не доведен до определенной черты, до точки невозвращения, когда уже реставрация невозможна, то начинают возрождаться сохранившиеся потенциалы тоталитарного. Конечно, это не повтор прошлого, даже не новодел а ля совьетик. Эссенция тоталитарного стремится вылиться в какие-то иные формы, обретает новые качества и свой собственный алгоритм роста. И что очень важно: они обладают способностью «тотализировать» новые явления, институты, процедуры. Те, что возникли в ходе постсоветского развития, в целом либеральные по своей природе.
Хорошо известна точка зрения крайне правых и крайне левых идеологов: либерализм является питательной средой фашизма (шире – тоталитаризма), порождает его (не стоит удивляться схожести позиций антагонистов; вспомните Иосифа Виссарионовича: пойдешь налево, придешь направо; или – наоборот, точно не помню). Мне всегда был отвратителен этот вывод; он казался оскорбительным для высокой либеральной мечты и порядка. Сегодня я думаю так же. Но… опыт жизни в постсоветском обществе открыл мне следующее: там, где либеральное есть лишь фрагмент, набросок, «немейнстрим», оно может быть переработано в тоталитарное.







