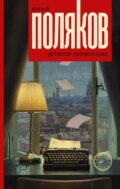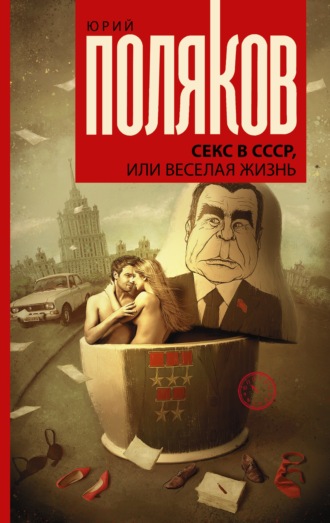
Юрий Поляков
Секс в СССР, или Веселая жизнь
26. Вдоль оврага
Заунывно бубнил Виктор Цой.
БАМ вгрызался в таежные дали.
Мы куда-то бежали трусцой
И по Брэггу потом голодали…
А.
Утром сквозь вязкий сон я услышал треньканье будильника, хотел нажать кнопку, чтобы еще подремать, но найти не смог. Очевидно, Нина зашила будильник в матрас и правильно сделала, но тогда как его теперь заводить и ставить на нужное время? Каждый вечер вспарывать матрас и зашивать? От удивления я проснулся, разлепил глаза и понял: звонит телефон. Аппарат у нас на длинном шнуре, и перед сном мы ставим его под кровать, чтобы не наступить в темноте. Я нащупал трубку, поднес к уху и услышал бодрый голос Жеки Ипатова:
– Бежим?
– Бежим…
Жена вскинулась и посмотрела на меня с сонной ненавистью: ей оставалось до подъема еще целых полчаса. Стараясь не шуметь, я умылся и позавтракал чаем с бутербродом. Через пятнадцать минут, досыпая на ходу и здороваясь по пути со знакомыми собаководами, я, в олимпийке и кедах, выскочил на улицу. Несчастные люди! Лучше бы детей завели. Жека ждал меня, разминаясь. Алое солнце уже взошло и расточилось. Над лесом розовели облака, похожие на креветки. Но окна многоэтажек еще горели лимонным или апельсиновым огнем – в зависимости от цвета абажуров.
– Салют, суперфосфат! – Мой друг любил это странное приветствие.
– Ура! – отозвался я.
Мы потрусили вдоль оврага. Под ногами шуршали листья, нападавшие за ночь. Мы бежали, как в фильме «Осенний марафон». Нет, это вовсе не художественная выдумка сценариста и режиссера, в СССР на самом деле вошел тогда в моду бег трусцой. Считалось, оздоровительный кросс вкупе с дыханием по Бутейко, голоданием по Брэггу, закаливанием по Порфирию Иванову, очищением организма соками и клизмами по Шаталовой – это бессрочное здоровье, залог активного долголетия, почти бессмертия.
На бегу мы с Жекой переговаривались, хотя это и было против правил.
– Ты чего сегодня такой грустный? – спросил я, заметив в его лице суровую сосредоточенность.
– Сберкнижку нашел.
– Где?
– В гардеробе, под бельем.
– И много там денег?
– Почти полторы.
– Ну, так и хорошо!
– Чего ж хорошего? Это Нюркина книжка. Секретная.
– Как это так – секретная? – Я даже остановился от удивления.
– А вот так… – Жека, превозмогая обиду, наоборот, ускорил бег.
Ну и дела! По моим представлениям, в семейной жизни секретной могла быть только радость на стороне, а денег всегда так мало, что делать из них тайну смешно. Даже если захочешь, все равно не выйдет. Недавно я получил в «Молодой гвардии» за внутренние рецензии 300 рублей. Деньги приличные, но ведь сколько дряни пришлось перечитать и обоснованно зарубить на дальних подступах к тематическому плану! К тому же есть ритуальные обязанности: проставиться редакторам, которые тебе эти рукописи припасли, выпить с заведующим отделом и так далее… Утром я проснулся от следовательского взгляда Нины, она сидела передо мной на стуле с растрепанной пачкой денег в руке.
– Это что? – спросила жена.
– Где ты взяла?
– На полу возле книжного шкафа валялись.
– Гонорар за рецензирование, – сознался я, ибо никакие другие версии в тяжелую голову не вступили.
– Ты не говорил, что получишь так много.
– Сюрприз! – улыбнулся я, вспомнив, как хотел спрятать заначку в книгах, но не совладал с купюрами, а потом и с равновесием.
– И сколько же тебе выдали?
Больной мозг попытался прикинуть растрату: шампанское и коньяк в издательстве, шашлык и водка на Сущевке, пивная на Маросейке с ребятами из горкома, раблезианский ужин в ЦДЛ с кем уже не помню… Напоследок – такси в Орехово-Борисово. Полтинник, а то и шестьдесят рублей я точно просадил, к гадалке не ходи. За такое расточительство семейных средств положен расстрел. (Кстати, без шуток, в СССР приговаривали к высшей мере, если ты украл у государства больше десяти тысяч рублей.) Сникнув под карательным взором Нины, я соображал: в разбазаривании пятнадцати рублей хотя бы для достоверности надо сознаваться, иначе вообще не поверит. За такую сумму, вырванную из бюджета, получу всего лишь порицание и карантин. Не привыкать – переживу.
– На руки выдали двести пятьдесят с мелочью, – объявил я после мучительных арифметических действий в похмельном уме.
– Ясно. Лгун! Не можешь не соврать! Здесь двести шестьдесят три. Конфискуются за вранье. Ребенку и мне носить нечего!
«Ну, конечно, голые они у меня ходят!» – разозлился я и догнал друга. Некоторое время мы бежали вровень, он обиженно сопел по Бутейко, потом сердито объяснил:
– Рылся в тряпках, ветошь искал – велосипед на зиму протереть хотел. Нашел! Она эту книжку четыре года назад завела, каждый месяц откладывала по двадцать пять рублей, мне же говорила: денег до зарплаты не хватает: мало зарабатываю. А я как дурак каждую копейку в дом… Нет, представляешь, тайком от мужа! Теперь точно разведусь!
– Ну и правильно.
– Съеду к Иветке! Поможешь вещи перевезти?
– Как машину починят – сразу.
– Спасибо, ты друг!
Мы замолчали: одновременно бежать и возмущаться женским вероломством трудно, а дышать при этом по Бутейко и подавно. Съехать к любовнице Жека собирался каждый раз, когда ссорился с Нюркой. Иветка, его сослуживица, заманчивая дама с ребенком, жила тоже в Орехово-Борисово, но по другую сторону Каширского шоссе, на улице Генерала Белова. Она то ли развелась, то ли просто разбежалась с мужем. Друг как-то в начале их романа зазвал меня к ней на чай, чтобы узнать мое мнение. Ничего особенного: смешливая толстушка с вертким задом, но ему нравится. Женщины – они ведь как галстуки. Почему одни тебе подходят, а другие нет – понять невозможно, но посмотришься в зеркало – и все ясно: твой галстук.
Жека и бегать-то начал, чтобы в процессе оздоровления без помех проведывать смешливую подругу. Потрусит от инфаркта, на полчаса заскочит к даме, потом вернется домой и поет в душе, смывая грешный пот и чуждые ароматы. Меня же он вовлек в бег во избежание ненужных подозрений. Нюрка однажды уловила посторонний парфюм, исходящий от мужа после кросса, и вяло забеспокоилась. Впрочем, Жека купил ей к 8 Марта флакон «Пуассона», каким душилась Иветка, и решил проблему.
Судя по скупым признаниям, у моего друга с женой был даже не рутинный брачный секс, который всегда бледноват, как прошлогодний праздничный лозунг. Нет, ему выпала унылая борьба за огонь с помощью трения. Подозреваю, Нюрка и замуж-то за него вышла без особых чувств – просто время подперло, а тут подвернулся напористый, влюбчивый выпускник мехмата. С мужем на людях она держалась так, словно он не очень приятный попутчик в купе. Больше всего ее раздражало, как Жека ест, особенно закусывает спиртное…
– Тебе попадались женщины, которым вообще ничего не надо?
– Вроде бы не попадались, – ответил я и не солгал.
Нина была не холодна от природы, а просто слишком требовательна к предпосылкам телесного единения. Нам еще в школе объясняли: не хватает хотя бы одной занюханной предпосылки – и никакой революции не будет, на баррикады народ не заманишь.
– А вот мне попалась! Если бы не Лизка, я бы давно уже… Эх!
Из подъезда кооперативного дома Внешторга выскочил еще один бегун, одетый в непромокаемый «адидас», синий с бело-голубыми вставками. На голове красовалась бордовая бейсболка той же фирмы, а на ногах – белые кроссовки с тем же заветным трилистником. На груди висел плеер-«сонька», а к ушам тянулись красные проводки. Мы с другом обменялись взглядами, исполненными классовой неприязни. В те годы человека, работавшего за рубежом или часто туда выезжавшего, можно было узнать сразу – по неповторимой одежке, какой в Союзе не добудешь ни за какие деньги. Можно, конечно, купить чеки (они шли по два «деревянных» за один инвалютный рубль) и отовариться в «Березке». Но эти шмотки грешили качественным единообразием, и, надев в театр «чековую» обновку, ты рисковал встретить кого-то, облаченного в точно такой же пиджак или свитер. «Как приютские!» – говаривала в таких случаях моя бабушка Анна Павловна. Другое дело – тряпки, снятые с вешалок, как с веток, прямо там, в капиталистических кущах! Сразу видно…
«Инобегун», пробираясь между «жигулей», плотно стоявших у подъезда внешторговского дома, надменно глянул на нас, одетых с неброской советской простотой, и направил кроссовки в противоположную сторону. Еще бы, ему с нами не по пути.
– А ты ей сказал, что нашел книжку? – спросил я.
– Нет. Назад положил.
– Зря.
– Все равно вклад на ее имя. Пусть подавится! Точно разведусь.
– Правильно!
– Лизку жалко…
– Хорошая у тебя девочка! – вздохнул я.
Дети не виноваты, что их матери сходят с ума из-за денег и превращают супружеские объятия в разновидность исправительных работ по месту жительства.
– Вырастет – поймет! – сам себя приободрил Жека.
– Конечно, поймет.
Его дочь Лизу, востроносую смышленую девочку, однажды на уроке спросили, каких она знает писателей. «Пушкина и дядю Жору!» – резво ответила она. «Какого еще дядю Жору?» – оторопела учительница. «Нашего соседа. Папа с ним пиво пьет, а мама ругается…»
– Да ни черта ты, Жека, не разведешься!
– Разведусь, Жорыч, ей-богу!
– К Иветке вечером побежишь?
– Нет. У нее ребенок заболел.
Мы замолчали, готовясь к ускорению, чтобы, как обычно, рвануть от автобусной остановки до «Детской кухни»…
– Как там твоя актриса? – спросил друг, переходя после ускорения на успокаивающую дыхание ходьбу.
– На гастролях, – соврал я.
– Шанс есть?
– Конечно!
– Расскажешь потом?
– Обязательно.
– Как ты думаешь, когда все это грохнется? – поинтересовался он, имея в виду, конечно же, социализм.
– Мы с тобой не доживем.
– Думаешь? По «Голосу Свободы» сказали, Андропов совсем плохой, снова госпитализировали. С помощью Джуны только и держится.
– И по телику он выглядел неважно, – согласился я.
– Не помер бы… А кто вместо?
– По Би-би-си говорили: Романов или Щербицкий.
– Романов отпадает. Он дочке свадьбу забабахал в Эрмитаже, до хрена екатерининского фарфора побили. Его даже на Политбюро за это разбирали. Ну что за люди! Гуляли бы по-тихому в Гатчине или в Царском Селе – слова никто бы не сказал. Нет, Эрмитаж им подавай!
– Редкие суки! – подтвердил я.
– Сталин бы за такое расстрелял.
Много лет спустя выяснилось: никакой свадьбы в Эрмитаже не было, слух пустили по приказу Андропова, толкавшего к власти Горбачева, который рулил в Ставрополе, а Юрий Владимирович наезжал к нему в Минводы – почки промыть. Задружились. Романов же был реальным конкурентом, входил в «русскую партию» Политбюро. Вот его и вывели из игры. «Злые языки страшнее пистолета!» Незадолго до смерти, кажется, в 2008-м, он появился на ТВ, говорил очень разумные вещи, а отвечая на сакраментальный вопрос о баснословной свадьбе, лишь горько усмехнулся. Фронтовик, куратор военно-промышленного комплекса, вряд ли он начал бы реформы с болтологии, как Горби. При Романове страна, думаю, пошла бы по «китайскому» пути. Эх, да что теперь говорить-то! Если Господь хочет наказать народ, Он заставляет его выбирать между Горбачевым и Ельциным.
– А что там за неприятности у Ковригина? – вдруг спросил Жека.
– Ты-то откуда знаешь? – От удивления я аж споткнулся.
– На «Немецкой волне» слышал.
– Да ты что?! – Меня удивила осведомленность вражьих голосов.
У Кленового бульвара мы развернулись и побежали назад к дому.
– И что сказали на «Волне»? – осторожно уточнил я.
– Что он какие-то антисоветские рассказы написал. Вот бы почитать!
– Рассказы как рассказы…
– Ты-то откуда знаешь?
– Сегодня полночи читал… – не удержавшись, с гордой ленцой в голосе ответил я.
Тут уж как вкопанный остановился Жека.
– Врешь!
– Честное слово.
Мой друг был потрясен. Если бы потом, в конце 1990-х, я сказал ему, что по случаю прикупил островок в Эгейском море с замком, пристанью и вертолетной площадкой, он изумился бы, наверное, куда меньше.
– Убиться веником! – это было его второе любимое присловье. – Откуда ты их взял?
– Выдали, чтобы почитал перед обсуждением.
– Перед обсуждением? Когда? Вот бы попасть!
– Оно будет закрытое.
– Тогда забил почитать! – Это было третье его любимое выражение.
– Жека, не могу! Даже Нинке не показывал. Дали под расписку на одну ночь. Мне их сегодня в четырнадцать тридцать в партком сдавать.
– В четырнадцать я их тебе верну, подвезу, куда скажешь. Ну, будь другом! Я же тебе никогда не отказываю!
Это была мольба с предупреждением. Друг деликатно намекал: если я не дам ему рукопись, то до конца своих дней буду собственными силами чинить сантехнику, электрику, электронику, собирать и присобачивать к стене секционную мебель. Кроме того, в минуту летального похмелья он больше никогда не выручит меня спасительным пивом.
– Ладно! – согласился я. – Но если потеряешь хоть страничку, меня будут убивать вместе с Ковригиным.
– А его будут убивать? За что?
– Я пошутил, пошутил… Привезешь на «Баррикадную». В тринадцать тридцать.
– Отлично! У нас как раз обед.
Мы обогнали импортного бегуна и со злорадством обнаружили, что тот вляпался белыми кроссовками в собачье дерьмо на газоне и теперь с ужасом смотрел на унавоженные «адидасы». Поделом, не заносись! Ты не на Западе, где хозяева ходят за своими псами с пакетиками и тут же подбирают за питомцами.
«А если у животного понос? – вдруг подумалось мне, но я отогнал глупую мысль: – Что за чушь! На Западе у собак поноса не бывает. Это же Запад!»
27. Чиполлино
Как хорошо быть Буратино,
Мальвину целовать взасос
И к ней под юбочку интимно
Совать свой любопытный нос.
А.
После пробежки мы поднялись ко мне, и я, скрипя сердцем, отдал другу папку с «Крамольными рассказами». Нет, читатель, ты напрасно ухмыльнулся: не «скрепя сердце», а именно «скрипя сердцем», ведь я буквально чувствовал, как мой миокард скрипит, изнемогая от опасного великодушия.
– Жека, я тебя умоляю!
– Жорыч, у меня – как в сейфе «Гохрана»!
– Ну, смотри…
Нина уже увела Алену в детский сад, а оттуда поехала через пол-Москвы в свой любимый архив, где занималась машинной обработкой единиц хранения. К делу она относилась очень серьезно, хотя, по-моему, женщины на службе в основном пьют кофе и чай, курят, вяжут варежки, хвастаются домашней выпечкой и бесят друг друга обновами. На кухонном столе лежал список продуктов, которые мне надлежало купить для дома для семьи. Поверх листка для убедительности жена положила хлебный нож.
Я тщательно побрился, подровнял маникюрными ножницами усы и, чтобы избежать вечерних обвинений в неряшливости, тщательно смыл с фаянса прилипшие волосяные обрезки. Затем я надел новый темно-синий югославский костюм-тройку, выстоянный женой в «Белграде», и повязал лучший галстук – бордовый с искрой. Пусть Ковригин видит, что «этот мудак Полуяков» не такой уж на самом деле и мудак. Экономно окропившись одеколоном «One men show», купленным в райкоме на закрытой распродаже для актива, я посмотрелся в зеркало и решил все-таки позвонить Лете, но в последний момент, обозвав себя тряпкой, придавил рычажки. Прежде чем ринуться в гущу трудового дня, оставалось проверить, выключена ли электроплита. Однажды я забыл это сделать, и если бы не теща, приехавшая постирать, все кончилось бы пожаром, пепелищем, катастрофой, что окончательно подтвердило бы мою профессиональную непригодность к семейной жизни.
Во дворе, залитом осенним солнцем, все так же стучал о стену теннисист из второго подъезда.
«Когда же этот тунеядец работает?» – подумал я, приветливо махнув ему рукой.
Клара Васильевна, как обычно, торчала в окне, сторожа кабачок.
– Заморозков не боитесь? – на ходу спросил я.
– Не-а, мы его в одеялко на ночь завернем, – с готовностью ответила селекционерка.
Влюбленный пингвин Гарик, разумеется, на линию не вышел. Я решил не связываться с автобусными доминошниками, повернул в обратную сторону, пересек Домодедовскую улицу и направился к Каширскому шоссе, где останавливался 71-й троллейбус, он ходил гораздо регулярнее. Натянутые провода под напряжением, видимо, дисциплинировали водителей. Основной народ уже откочевал из нашего спального района в места массового трудового энтузиазма, и я, человек полувольной профессии, ехал в почти пустом салоне, для разнообразия считая на фасадах лозунги, зовущие к коммунизму и славящие КПСС:
Партия – наш рулевой!
Партия – ум, честь и совесть нашей эпохи!
Да здравствует партия Ленина!
Странная все-таки у нас партия: все время сама себя нахваливает. Это мне напомнило одну смешную историю. Нина иногда ходит в Краснопресненские бани в большой бабской компании. Заправляет всем ее однокурсница Зинка Гурнова, и та однажды привела на помывку свою начальницу – дебелую крашеную блондинку средних лет, похожую на Аллу Пугачеву. Новенькая сначала скептически наблюдала за тем, как раздеваются банные соратницы, а потом, расстегиваясь, совершенно серьезно объявила: «Теперь, девки, держитесь – такого тела вы еще не видели!» Ну, чисто – наша родная КПСС.
…Войдя в редакцию, я с удовлетворением отметил, что этажерка исчезла. Из каморки Веры Павловны слышался железный клекот: вчера она где-то шлялась и теперь наверстывала. Торможенко корпел над своим голографическим романом: дома ему мешала теща с редким отчеством «Афиногеновна», она тщетно пыталась принудить зятя к семейно-полезному труду. Наивная! Гении работают только на себя. Из-за двери доносилось редкое клацанье стальных литер, похожее на звук метронома, потом вдруг наступала тишина, и после мучительного, видимо, размышления следовал одинокий удар – «цок!» «Неужели, чтобы поставить точку или запятую, нужно столько думать?» – удивился я. Дверь в залу оказалась заперта: ни Крыков, ни Синезубка, ни Макетсон на работе еще не появлялись. Убью!
В моем кабинете пахло вчерашним табаком и мышами, шуршащими за плинтусом. Прежде они существовали тихо, побаиваясь, видимо, любопытной крысы, а теперь просто обнаглели. Я сел, закурил и долго смотрел на телефон, наконец, тряпка, все-таки набрал номер Леты. Пошли длинные гудки. Я вообразил, как звонок застал ее под душем и она ничего не слышит из-за шума воды, сбегающей по ее неведомой наготе, но потом настораживается, чутко хмурится, вышагивает из ванны, накидывает на влажное тело халат и, оставляя мокрые следы, спешит к трубке:
– Алло! Ах, это ты! Как же я рада! Извини, понимаешь…
Но никто не ответил. Бабушка, наверное, ушла в магазин или в поликлинику. От досады заныло сердце, и я закурил. За пыльным подвальным стеклом мелькали спешащие ноги. Мужские в ботинках на толстой подошве, женские в осенних сапогах. Впрочем, изредка попадались модницы в ботиках и даже в туфельках. Мысли приняли философское направление.
«Каждая пара ног, – размышлял я, – бежит по своей неведомой надобности: кто-то на работу, кто-то со службы, а кто-то на свидание. Однако над всеми торопящимися конечностями тяготеет рок, и тот, кто предвкушает объятия, может, переходя Садовое кольцо, попасть под машину. «Хрусть – пополам…» У другого возьмет и внезапно остановится сердце, как будильник, который забыли с вечера завести. А вот хорошо бы заболеть, внезапно, тяжело, но не смертельно. Все меня ищут, пропал председатель комиссии парткома! Лялин в бешенстве, Бутов в растерянности, а Розенфельд, седой кардиолог из поликлиники Литфонда, вздыхает: «Какая, голубчики, комиссия, какой там Ковригин! Ваш Полуяков под капельницей лежит. Ему нужен покой. Полный покой!»
В пятом классе меня попросили под маской Чиполлино выступить на празднике детской книги в Пушкинской библиотеке, куда я ходил постоянно и засиживался до вечера. Но родители совсем за меня не боялись, хотя из нашего Балакиревского переулка до Разгуляя шлепать полчаса, даже срезая путь через проходные дворы. Главное ведь – помнить правило: перед тем как перейти улицу, сначала посмотри налево, а потом, дойдя до середины, направо. Но однажды мама меня в библиотеку не пустила, в ту пору по городу разгуливал с топором душегуб по прозвищу Мосгаз. Впрочем, его вскоре поймали и расстреляли, а в нашем общежитии потом долго еще шутили, стуча в соседскую дверь:
– Кто там?
– Мосгаз.
Итак, назвавшись Чиполлино, я стал мастерить себе маску в виде луковки с зеленым ростком на макушке. Пришить к новым «техасам», добытым мамой в «Детском мире», несколько цветных заплат, а потом после представления их спороть пообещала бабушка Маня. Без заплат нельзя: все положительные герои у Джанни Родари крайне бедны и ходят в лохмотьях, в отличие от отрицательных персонажей, вроде герцога Лимона и сеньора Помидора. Но когда я попытался склеить из цветной бумаги большую полую луковицу, куда поместилась бы моя голова, ничего не вышло. Не удалось также приспособить для этого и проволочный каркас от старого абажура, найденный на чердаке общежития. Меж тем Неделя детской книги неумолимо приближалась, а я должен был открывать праздник стихами:
Книга – лучший друг на свете,
Это знают даже дети!
Это знает и строитель,
И военный, и водитель,
И отважный космонавт.
Почитать на Марсе рад…
Я, ребята, Чиполлино,
Чтенье – мой досуг любимый!
А какой я, к черту, Чиполлино без луковки на башке? Никто же не поверит. Вот тогда-то у меня и мелькнула сладкая спасительная мысль: хорошо бы заболеть. Наутро я свалился с жаром, в полубреду умоляя маму позвонить и предупредить: Чиполлино у них не будет! Его сразил тяжелый недуг. До библиотеки я добрел, когда праздник книги давно миновал и все уже готовились к Первомаю. Придя туда, я поднялся по старинной чугунной лестнице в абонемент, сдал, изнывая от стыда, книги, прочитанные за время болезни, но никаких упреков не услышал, а только сочувствие:
– Ах, Егорушка, какой же ты бледненький!
– Двухстороннее воспаление, – объяснил я, сильно преувеличивая. – Жаль, что так с Чиполлино получилось…
– С каким Чиполлино? Ах, с Чиполли-ино… Ничего страшного. Вместо тебя вышел Петя Егошин из 312-й школы…
– Егошин? А из чего он сделал луковку?
– Он вышел без луковки.
– Как это так без луковки?
– А вот так. Просто вышел и сказал: «Я Чиполлино из солнечной долины…»
– И ему поверили?
– Конечно! Даже захлопали. Потом он прочитал твои стихи. Вот и все. Как ты себя чувствуешь, бедненький, голова не кружится?
…Из коридора донесся грохот. Я вышел на шум: переругиваясь, Крыков и Эдик Фагин втаскивали обшарпанную оттоманку с ветхой гобеленовой обивкой, обрамленной деревянными кудрями.
– Ставим здесь! – распорядился Боба.
– Это что? – спросил я.
– Первая четверть девятнадцатого века. Ампир! – гордо сообщил Фагин. – По случаю оторвали. В «комке» держали для директора гастронома, а его вчера забрали. Наводят порядок-то! Взяточников метут.
– Несите домой! Тут и так не разойдешься.
– Понимаешь, экселенс, – Боба понизил голос, – у Папы жена на кинофестиваль в Аргентину улетела, и он с «тройкой нападения» у меня застрял. Девчонки бюллетень взяли. Неудобно Папу беспокоить. Я сам у Эдика ночевал. Даже Лисенку пришлось отказать. Пусть пока мебель здесь постоит, а?
– Ладно, только недолго.
– До вечера. Спасибо! Ты-то как?
– В три встречаемся с Ковригиным.
– Да уж – учудил былинник! За один разговор с генсеком ему голову отвинтят! – усмехнулся Эд.
– Ты-то откуда знаешь?
– У Бобы взял почитать.
– А ты?
– Папа дал, – сознался Крыков.
– И что Папа говорит про это?
– Говорит, Коврига к Нобелевке примеряется.
– Нобелевку только эмигрантам дают, – со знанием дела объявил Фагин.
– А Шолохов?
– Для отвода глаз. Ладно, мне бежать надо. – Эдик обернулся к Бобе. – Ну, так и сколько заказывать?
– Пятьдесят в ледерине и сто в мягкой обложке с прошивкой.
– Не отобьем. Будет как с лифчиками.
– С руками оторвут, вот увидишь!
– Ладно, уговорил, но неликвид на тебя повешу! – строго предупредил Эд и посмотрел на меня с просительной улыбкой: – Жор, не забудь, ладно? Справку надо срочно сдавать. За мной не заржавеет.
– Помню.
– По-бе-жал! – Послав нам двойной воздушный поцелуй, он ушел.
У Фагина была странная походка: словно бы он вдруг ощутил в заднице зуд, но решил справиться с ним без рук, при помощи лишь хаотичного движения ягодиц. Сынок крупного паркетного генерала, Эдик окончил хороший вуз, но по специальности не работал, а встал на учет в профком литераторов, хитрую организацию для тех, кто зарабатывал на жизнь сочинительством, но в Союз писателей вступить не смог по разным причинам: от клинической бездарности до неладов с советской властью. Главная выгода члена профкома заключалась в том, что он имел полное право не ходить на службу, при этом его не считали тунеядцем, ему капал трудовой стаж и даже оплачивались бюллетени. Но раз в год следовало сдавать гонорарную справку, подтверждавшую, что ты живешь литературой, зарабатывая не менее 72 рублей в месяц. Минимальная тогдашняя зарплата. За эти деньги в ту пору можно было купить: отечественный мужской костюм, или 15 бутылок водки, или 560 батонов белого хлеба, или полторы тысячи раз проехать в метро, или выпить 3400 стаканов газировки с сиропом… Будь Иосиф Бродский членом профкома, суд бы его оправдал. Да что я говорю! Милиция вообще к нему близко не подошла бы! Но тогда ему Нобелевской премии точно не дали бы…
Фагин не владел ни одним литературным жанром, он вообще с трудом излагал мысли на бумаге. Но без очередной справки о заработках Эдика сразу погнали бы из профкома, поэтому я и разрешил некоторые наши заметки подписывать его фамилией, на него же выписывались гонорары, которые он, получив в кассе, отдавал подлинным авторам. Более того, провернув очередное дельце, Фагин накрывал в редакции стол. Кормился он мелкой спекуляцией, в том числе валютной, но в основном перепродавал антиквариат и дефицитное тряпье, на чем они и сошлись с Крыковым. Недавно Эд взял на складе у знакомого барыги с большой переплатой партию лифчиков, застегивавшихся не сзади, как обычно, а спереди. В таком перед изумленным отечественным кинозрителем предстала красотка Анжелика, маркиза ангелов и ветреная жена графа де Пейрака. На какое-то время бюстгальтеры-«анжелики» оживили унылый мир советского нижнего белья, скромный до убогости. Но то ли Фагин заломил слишком высокую цену, то ли наши консервативные дамы предпочли обычные крючки на спине, то ли торопливые мужики нервничали, не находя застежки в положенном месте, но товар не пошел. Коробочки, разложенные по размерам и цветам, заняли целый угол свободной комнаты в коммуналке Бобы, и он теперь по случаю одаривал «анжеликами» всех своих барышень, даже бывших. Я тоже взял для Нины парочку – черный и красный.
– И что же вы опять затеяли? – скептически спросил я.
– Да так, по мелочи, – буркнул Крыков, отводя взгляд. – Когда планерка?
– Ждем Макетсона и Жабрину.
– Как бы Синезубка его не заездила. Не мальчик уже.
– А что – может?
– Она может, – со знанием дела кивнул Боба. – Перпетуум-баба…