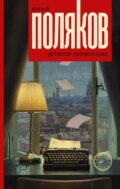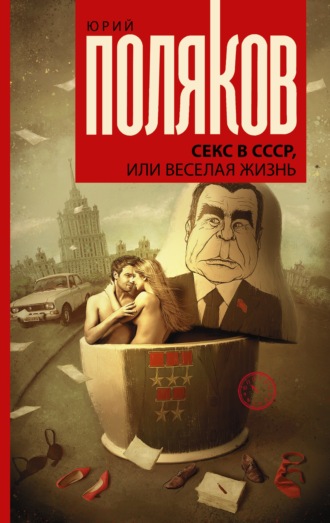
Юрий Поляков
Секс в СССР, или Веселая жизнь
23. «Крамольные рассказы»
Сияют звезды над Кремлем, алея,
И месяц проплывает, как ладья.
Выходит ночью вождь из Мавзолея
И плачет, коммунизма не найдя.
А.
Мы дружно поужинали пельменями. Нина занялась постирушками. Я мужественно перемыл всю посуду, а потом рассказал на ночь дочери воспитательную сказку про белочку, которая дружила с медведем, и косолапый щедро угощал ее медом. Но как-то раз Топтыгин доверил подружке секрет, а та по дури разболтала всему лесу, включая сорок. В результате мед болтливой белке улыбнулся навсегда. Спокойной ночи!
– А разве мед может улыбаться? – спросила Алена.
– Это образное выражение. Мы же говорим: «пошел снег», а куда он пошел? В магазин, что ли?
– Снег в магазин не ходит. Завтра меня кто забирает?
– Мама.
– Значит, мороженое мне улыбнулось, – вздохнула она и повернулась к стене.
В спальне я упал на кровать, точнее, на разложенный диван, опасно скрипнувший подо мной. Он уже дважды ломался, его отвозили в ремонт мебели, и пожилой мастер, осматривая руину, ругался:
– Ну кто ж так клеит? Разве ж это брусок? Он и мышиной етьбы не сдюжит!
Положив повыше подушку и включив ночник, я продолжил чтение, начатое в метро. И снова разочарование: милые, точные, жанровые зарисовки, наподобие «Невыдуманных рассказов» Вересаева или похмельных заметок великого бездельника Юрия Олеши. Этюды, сценки, вроде бы со смыслом, но на полноценную новеллу никак не тянут. М-да, обмелел хваленый талант! Вот, например, рассказик о литфондовском похоронном агенте Арии Бакке, хорошо мне знакомом. В середине 1960-х у известного поэта умерла жена. Арий предложил могиломесто на новом Востряковском кладбище, у самой Окружной дороги. Вдовец возмутился: мол, нельзя ли поближе? Арий утешил: «Поверьте профессионалу, это очень перспективное кладбище!» И ведь правда! Когда я в 1974-м впервые приехал с Ниной на могилу ее отца, летчика-испытателя, там был уже целый город мертвых: лабиринт крашеных оград, бесчисленные кресты, стелы, скошенные гранитные плиты, даже надгробные скульптуры…
– Ах, простите, где тут могила Изольды Извицкой?
– Там, за Новаком…
Если помирал безродный писатель (не космополит, разумеется, а просто у покойного не оказывалось родни, чтобы нести гроб), Арий звонил мне:
– Жора, поднимай комсомол!
Особенно он беспокоился, чтобы усопший хорошо выглядел в гробу.
– Поймите, человек в последний раз на людях!
Ну и что в этом рассказике антисоветского? Ничего.
В другой миниатюре Ковригин, шикарно путешествуя по Грузии, дал водителю за подвоз рубль мелочью, а тот гневно отверг, мол, металлолом не собираю! Удивительно похоже на сегодняшний случай с таксистом, швырнувшим в кусты полтинник! Может, в самом деле инфляция? Просто в Грузии заметнее: там же советской власти почти нет, на каждом шагу подпольные цеха, в магазинах с рубля сдачи не дождешься, самая мелкая купюра у них – десятка.
Следом я прочел забавную историю про то, как автор гостил в Дюссельдорфе. Местный профессор-русист повел его и еще одного советского литературного функционера в баню, а она оказалась общей для мужчин и женщин, что у немцев – обычное дело. Увидев массу обнаженных дам, функционер побледнел, попятился и крикнул: «Это провокация! Бежим!» Ну какая тут, к черту, антисоветчина? Так, легкое зубоскальство…
Я закрыл глаза, вспоминая другой случай. Прошлой зимой аппарат и актив райкома комсомола перед отчетно-выборной конференцией выезжали на двухдневную учебу в профсоюзный профилакторий на Истре. Там была сауна с отдельными раздевалками, но с общими парной и бассейном. В отличие от поздних фантазий о комсомольской разнузданности все обстояло прилично: девушки и юноши были в простынках, купальниках или плавках. Никаких вольностей на людях себе не позволяли. Ну, а если потом у кого-то сладилось, так для того природа и разделила нас на мужчин и женщин. Но случился конфуз с Верой Денисовой – маленькой, неприметной, если не сказать – невзрачной девушкой из сектора учета. Она обычно ходила по райкому как-то бочком в одном и том же сером мешковатом платье, но чаще тихо, как мышь, сидела за шкафом, не отрываясь от карточек. Так вот, выйдя из парной, бедная Верочка поскользнулась на кафеле, вскинула для равновесия руки, и стянутая узлом простынка распалась, открыв миру совершенную женскую наготу: яблочные груди с вздернутыми сосками, узкую талию, крутые бедра, точеные ноги и русый мысок меж ними. Парни от неожиданности крякнули, а Денисова взвизгнула, покраснела, как свекла, схватила простынку и умчалась в раздевалку, трепеща идеальными ягодицами.
– М-да… – сказал, задумчиво глядя вслед, первый секретарь райкома Паша Уткин. – Кто бы мог подумать?
Его вскоре сняли с работы за скандальную внебрачную связь и шумный развод. На ужине Веры за столом не оказалось: от стыда она уехала домой рейсовым автобусом, а через полгода вышла замуж за Лешу Зотова, освобожденного комсорга спецавтохозяйства. Он тоже наблюдал это невольное разоблачение учетчицы и сделал правильные выводы.
– Ты скоро? – крикнул я жене.
– Скоро… – ответила она из кухни.
Дальше пошли восторженные заметки Ковригина о замечательных чешских пивных, по которым его водил пражский профессор-русист, угощая хмельными напитками всех цветов и консистенций, а попутно рассказывая об истории, обычаях и достоинствах каждого питейного заведения. Сравнение было явно не в пользу СССР, ведь у нас даже в Москве не всегда найдешь пиво в разлив, а если и добудешь, то кислое или водянистое, с пеной, похожей на мыльную. Не зря мы в «Радуге» чуть не набили морду халдею за неприлично разбавленное «Жигулевское». Зато на немецкую пену можно положить монетку, и она не утонет. Правда, мелочь там чеканят из облегченного алюминия, но все равно впечатляет. Конечно, наши бутылочные сорта «Останкинское», «Бархатное» или «Дипломат» почти не уступают импорту, но где ты их достанешь? Честно говоря, даже «Жигулевское», если свежее, вполне можно пить, но брать его следует только в темно-коричневых бутылках, в них оно почему-то крепче и хранится дольше. Загадка! Мой сосед и друг Жека Ипатов считает: все дело в каких-то лучах, которые не пропускает темное стекло. Почему же тогда все наше пиво не разливают в правильные бутылки? Темного стекла им не хватает? А чего у нас хватает при развитом социализме?
Прав Ковригин: неужели в стране, запустившей человека в космос, нельзя сделать так, чтобы на земле люди после работы или учебы могли спокойно посидеть за кружкой хорошего пива? В чем проблема? В социализме? Но в Болгарии, Польше, Венгрии, Чехословакии и ГДР тоже социализм, а с пивом и колбасой там все в порядке. Значит, в принципе возможно? Там. А у нас? Когда я в 1974 году впервые попал в Прагу по межвузовскому обмену, меня потрясло изобилие «пивечка». И никаких очередей. Зато в Москве у ларька, даже если висит дощечка «Пива нет», все равно народ кучкуется: вдруг подвезут?
Года два назад я летал по командировке Союза писателей в Абакан. Вышел из гостиницы, чтобы пообедать в столовой редакции местной газеты: в ресторане дорого, а в общепите котлеты из китового мяса. На тротуаре меня чуть не сшибли с ног. Люди целеустремленно бежали, прижимая к груди трехлитровые банки, гремя ведрами и канистрами…
– Что случилось?
– Пиво привезли!
Я поспешил за ними и посреди немощеной площади увидел желтую бочку (в Москве из таких продают квас), а вокруг, как удав, кольцами обвивалась бесконечная очередь. Я пристроился в хвост. Мужик, стоявший впереди, поднял булыжник, протолкался к цистерне и обстукал покатый железный бок. «Не хватит!» – хмуро сообщил он, вернувшись, но не ушел. Теперь это называется социальным оптимизмом. Вдруг я услышал:
– Жора, не стой, уже осадок сливают. Пошли, я на всех взял!
Это был заведующий отделом «Абаканского комсомольца» Вася Кильчугин, сгибавшийся под тяжестью огромной канистры. Я помог ему дотащить ценный груз до редакции, а по пути Вася рассказал, что на продовольственной базе у них есть рабкор, он-то и просигналил, едва бочка выехала за ворота, благодаря чему Кильчугин оказался в начале очереди, сразу за работниками прокуратуры, милиции и загса. Пиво на вкус напоминало перебродивший квас, но если добавить водки – пить можно.
24. Постель-читальня
Как я люблю твой ждущий взгляд,
Но зря сняла ты платье…
Мне дали на ночь «самиздат»,
И должен дочитать я!
А.
Я читал и ничего враждебного советской власти в рассказах не находил: обычное интеллигентское брюзжание с русским уклоном. Дальше шла трогательная любовная новелла. Автор познакомился на научной конференции с молодой филологиней и после нудного семинара пригласил ее в ресторан. Она пришла в эффектном черном платье и была настолько хороша, что он не решился так вот сразу затащить ее в свой номер, боясь отказа. Решился Ковригин на это через двадцать лет, снова встретив ту же даму на каком-то филологическом толковище. Она явилась на званый ужин в том же самом черном платье, которое без колебаний сняла чуть позже в номере, словно упрекая робкого ухажера: «А счастье было возможно еще тогда, в первую встречу!»
Однажды, обидевшись на Нину из-за бытового тиранства, я решил отомстить ей с подружкой моей юности Леной Зарайской. В студенчестве мы с ней жутко целовались, но до постельной фазы не дошли по глупому недоразумению: она повредила ногу на катке и влюбилась во врача-ортопеда. Память сохранила лакомый образ высшей свежести. Я порылся в старой записной книжке, позвонил. Удивленный, но ничуть не изменившийся голос охотно согласился на свидание. Боже, что я увидел, встретившись с ней на Тверском бульваре! За годы разлуки у Зарайской выросли усы, нос стал похож на баклажан, бедра оплыли и смахивали теперь на фонарные тумбы. А какая прежде была французистая брюнеточка с зовущим станом! Мы поели мороженого, запив рислингом, повспоминали молодость и наши поцелуи в гулких подъездах. Лена сказала, что давно разошлась с мужем, оказавшимся бабником, живет одиноко, часто вспоминает меня и хочет вернуться в прошлое. Однако я наотрез отказался посмотреть ее однокомнатную квартиру в Беляево. Пусть уж лучше домашнее тиранство…
Позабавил рассказ Ковригина о сотрудниках нашего торгпредства в Кельне, им запретили посещать китайские ресторанчики из-за напряженных отношений с Пекином. Остро, ехидно, не напечатают. Но заводить из-за этого персональное дело?! В общем, читая и размышляя, я приходил к выводу: этот скандал – недоразумение, глупость, разберутся и исправят. Зачем травить хорошего писателя, пусть и не совсем советского? Да и где они, эти советские писатели?
Мысли потянулись вдаль, как табачный дым в открытую форточку. Пригрезилось, что мои запрещенные повести напечатаны в «Юности», мне насыпали огромный гонорар, а всесоюзная слава сжала меня в объятиях, как мускулистая нимфоманка. И вот я на потрясающей иномарке, вроде той, на которой разъезжает Палаткин, подкатываю к Театру имени М. после спектакля. Из служебной двери выходят актеры, появляется и Гаврилова. Я приветливо улыбаюсь, но букет вручаю не ей, а скромной молоденькой актриске, у которой и слов-то в спектакле нет, кроме: «Да, мадам!» Лета опускает свои незабудковые глаза, сутулится, понимая всю справедливость возмездия, и уходит в свою заурядную жизнь. Нет, не так… Я, достав из машины второй, огромнейший, букет, ее догоняю, и она просит у меня прощения до утра…
Нина доварила суп, замочила на завтра белье, заштопала Аленины рейтузы, потом долго пела в ванной под шум воды и наконец явилась в желтом пеньюаре.
– Боже, как хорошо! – вздохнула она, ложась поверх одеяла.
У советских супружеских пар, не приученных напрямую извещать друг друга о плотских желаниях и способах их исполнения, обычно имелись какие-то призывно-иносказательные знаки. В нашем случае – желтый пеньюар означал: почему бы и нет… Но это будет при условии, если я поклянусь не пить, не задерживаться на работе, забирать ребенка из сада вовремя, не разбрасывать носки и трусы по квартире, а также перестану грызть колбасу вместо того, чтобы аккуратно отрезать куски ножом… В ответ я состроил блудливо-покорную рожицу, Нина одарила меня снисходительной улыбкой и спросила:
– О чем ты думал, когда я вошла?
– О тебе!
– Врешь! – Она потрепала меня по волосам.
– Почему?
– Лицо у тебя было не такое.
– Какое?
– Досвадебное.
– Хм.
– Что читаем?
– Так, по работе.
– Вот я коза, огонек забыла убавить! – Она вскочила и умчалась на кухню, мелькнув сквозь прозрачную ткань обещанным телом.
Хорошо, что природа-мать не нагрузила людей телепатическим даром. Тогда счастливых или терпимых браков вообще не стало бы. Ну, сами посудите: входит жена в желтом пеньюаре и сразу видит, чем набита твоя голова. Там: актриса Лета Гаврилова во всевозможных ракурсах. А войди Нина чуть раньше, она нашла бы в моем мозгу усатую Зарайскую, а за полчаса до этого обнаружила бы там идеальные ягодицы Веры Денисовой. Кто ж поверит, что у меня со всеми этими женщинами ничего почти не было? Никто. И какая семейная жизнь такое выдержит? Никакая. Спасибо, спасибо, мудрая Природа, и разреши впредь именовать тебя просто Богом!
Осознав невинность «Крамольных рассказов», я почувствовал вкус к жизни. Вялые токи домашнего вожделения ожили и заиграли в теле, что апрельские ручьи на московских холмах. Нина вернулась с кухни, легла рядом и закрыла глаза, вспоминая, все ли намеченное на вечер сделано. Я молниеносным движением подтвердил зрительную догадку: трусиков под пеньюаром нет.
– Постриглась?
– Не болтай глупостей!
«Интересно, как с этим у актрис? Спортсменки, говорят, бреются наголо…» – думал я, приступая к предварительным ласкам. Переведенная с немецкого языка «Новая книга о супружестве», которой зачитывалась тогда вся страна (мне дали на день), советовала мужчине «длить прелюдию не меньше 10–15 минут, а женщине чувственно отзываться на прикосновения и массирующие движения партнера, не тая самых сокровенных порывов». Но кто же любит по книжкам?
– Подожди, давай немного почитаем. Надо отдышаться. Это у тебя что?
– Так, рассказики.
– Чьи?
– Ковригина.
– Ковригина?! – Жена рывком села на постели. – Ого! Вы будете печатать?
– Возможно. Давай об этом потом…
– Я тебя еще не простила.
– Вот я и хочу тебе помочь…
– И помог бы. Ты уже полтора часа в горизонтали, а я только легла! Эгоист!
Она с обидой залезла под одеяло, взяла ворох отчитанных мною страниц, подровняла, поправила на переносице очки и показательно углубилась в чтение. Если бы я был скульптором-монументалистом и ваял памятник неудачному браку, то вытесал бы из серого гранита супругов, которые лежат в широкой кровати, читая каждый свое. Причем у женщины на голове еще и бигуди…
Минут через десять Нина спросила:
– А ты про такую материю, «эпанж», когда-нибудь слышал?
Этот рассказец я уже прочитал, речь там шла о бабушкином отрезе, купленном еще до революции и хранившемся в сундуке полвека.
– Нет, ни разу.
– Наверное, сейчас «эпанж» хорошо бы носился.
– Почему?
– Ну, ведь велюр снова в моде.
– Велюр? – со значением переспросил я и хотел продолжить прелюдию.
– Потом.
Прошло полчаса, и жена снова спросила:
– Александр Бек в самом деле передал свой роман за границу?
– С чего ты взяла?
– Тут написано.
– Ну да, передал. – Я отметил, что Нина читает внимательнее меня.
– Может, и тебе «Дембель» передать?
– Ага, и вылететь из партии.
– А Бек вылетел?
– Нет, кажется…
– Вот видишь.
– Может, прервемся? – попросил я, пытаясь пробраться под одеяло.
– Подожди, очень интересное место!
– Про что?
– Про черное платье. Настойчивый он все-таки мужчина!
– Может, и нам не стоит откладывать на двадцать лет? – призывно прогнусавил я.
– Почему ты сегодня так поздно Алену забрал?
– Виноват – исправлюсь…
Я предпринял очередной натиск, пренебрегая советом «Новой книги о супружестве» «повышать градус близости постепенно, не забывая, что у женщин шея, плечи, уши, голова и даже локти – тоже эрогенные зоны…»
– Да подожди ж ты! – Нина сердито подоткнула бок одеялом. – Какие все-таки писатели бывают – не оторвешься…
Ясно: я в число «неотрывных» писателей не вхожу, а, возможно, никогда и не войду. Ничто так не охлаждает пыл творческого мужчины, как явное или косвенное сомнение в его очевидном таланте. Даже упрек в половой недостаточности не так обиден.
– Завтра после работы зайдешь в универсам. Список продуктов на столе. – Нина решила добить мое уязвленное вожделение.
– У меня завтра…
– Найдешь время. У писателей тоже есть семейные обязанности.
«Ага, вышла бы замуж за Рубцова, Перебреева или Торможенко, тогда узнала бы!»
Я вообразил свой немедленный уход из семьи к некой туманно-совершенной женщине, красивой, умной, тонкой, домовитой, страстной, умело отдающейся мне по первому зову и восхищающейся моим талантом. При этом сама мысль, что Нина могла тоже выйти за другого, показалась мне диковатой. За Толю она уж точно никогда бы не вышла. Пообщавшись с Торможенко на моем дне рождения, который отмечали в редакции, жена потом сказала: таких самовлюбленных зануд надо выбрасывать из поезда еще по пути из Курска в Москву. Я вздохнул: перед глазами снова возникла Лета в кринолине, с фальшивыми перстнями на длинных пальцах и нарисованными в пол-лица театральными глазами. Но трудно отмстить жене с актрисой, если та не является на свидания…
– Ах, какой русский язык! – мстительно воскликнула Нина. – Такого теперь уж нет…
25. Антисоветчина, как и было сказано
Без убогих своих агитпропов,
Без марксистских своих идиом
Разъясни нам, товарищ Андропов,
Кто мы, где мы, куда мы идем?
А.
Первые тревожные признаки настоящего инакомыслия я уловил, читая вроде бы невинную байку про поэта Феликса Чунина, который, выпив, расхвастался дружбой с легендарным сталинским соратником Молотовым. В доказательство он позвонил ему, поздравил с Пасхой, а потом передал трубку Ковригину. Бывший член Политбюро вежливо спросил у знаменитого деревенщика, какую книгу тот сейчас пишет. «Время собирать камни», – был ответ. «Какие такие камни?» – насторожился ветеран ленинской гвардии. «А те, что вы, Вячеслав Михайлович, в свое время поразбросали!» Вот оно как… Но ведь на этих самых разбросанных камнях и стоит нынче могучий СССР. Лихо!
Думаю, Чунину такой ответ не понравился, он преклонялся перед генералиссимусом. За акростих «Сталин жив» Феликса призвали в партком, начали прорабатывать, а поэт возьми и спроси: «Покажите мне, товарищи, хоть одно партийное постановление, где сказано, что Сталин мертв!» Его обозвали демагогом и оставили в покое. Чунин был человеком веселым и находчивым. Когда он уходил от первой своей жены поэтессы Томы Кузовковой, дамы с манерами библиотечной весталки и хваткой самбиста, она выкатила ему огромный и мелочный счет за все сразу: потерянную якобы девственность, съеденное питание, нажженное электричество, стоптанные тапочки. Гордый Феликс спорить не стал, разменял требуемую сумму на копейки и оставил в мешке из-под картошки у дверей жадины: подавись! Умер он в 21 веке, пережив крушение своего любимого Красного Проекта. Торопливо шел по улице и упал. Стихи его как-то подзабылись, зато часто переиздают беседы с Молотовым и сталинскими маршала́ми. Феликс, как и сам генералиссимус, делал ударение на последнем слоге – «маршала́ми».
Читая дальше «Крамольные рассказы», я споткнулся об историю про фронтовика, который покрошил из автомата дюжину русских прачек, служивших в немецком госпитале. Перед тем как нажать на спусковой крючок, он им улыбался, чтобы несчастные не разбежались, почуяв угрозу. «За что ж ты их так?» – спрашивает у ветерана автор. «А как еще с ними? Они же на немцев работали!»
Ну, ведь ерунда же полная! Я сам любил поговорить с ветеранами и наслушался от очевидцев разных суровых былей, радикально не совпадавших с тем, что показывали в фильмах о войне. Но эта история явно смахивала на клевету, причем злостную. Во-первых, как мог боец покрошить из ППШ провинившихся соотечественниц без приказа?! Это же чистый трибунал! Да и кто бы отдал ему такой приказ? Даже из власовцев и бандеровцев повесили только главарей, остальных услали в лагеря, а через десять лет отпустили восвояси. Я в Доме творчества в Пицунде лично выпивал с народным украинским поэтом Юрком Пилипенко, служившим в дивизии «Галичина». Он после графина чачи хвастался, как пустил под откос дрезину с красноармейцами, а потом ходил вдоль насыпи, добивая покалеченных бойцов штыком. В это я верю. А у Ковригина не срастается. Русских баб, сожительствовавших с немцами и родивших от врагов, тоже ведь после Победы не тронули. Они разве виноваты, что под оккупацией жили и голодали? Они, что ли, от Бреста пятились? Ну, хорошо, ославите вы матерей немецкими подстилками, сошлете в Казахстан, а как после этого «немчурят» честными советскими гражданами растить? Детские дома и так сиротами переполнены. Нет, советская власть, конечно, – дама со странностями, но никак не злобная дура…
– О чем ты опять думаешь? Читай! Я тебя уже догоняю! – поторопила Нина.
В следующем рассказе речь шла о самом большом брянском храме, который все-таки снесли, хотя министр культуры Фурцева лично обещала Ковригину по телефону: пальцем церковь не тронут! Обидно, что взорвали, но разве в каждой стране писатель может запросто позвонить министру? И вообще власть писателя не обижала: на фронт не отправила: повезло. Еще в армии Ковригин стал печататься, потом работал в самом популярном советском журнале «Огонек», объехал весь СССР и многие страны, был вхож к большому начальству, а всемогущий министр МВД Щелоков (про это Ковригин тоже написал рассказик) выдал ему удостоверение консультанта, которое наводило ужас на всех гаишников. По совести сказать, чуть не каждая вторая зарисовка в рукописи была о поездках за рубеж: Париж, Берлин, Лондон, Рим, Чикаго, Прага, Варшава, Пекин…
Про соцлагерь и говорить нечего: там он просто свой человек. Мое сердце заныло, я-то сам пока побывал только в соцстранах. Правда, меня наконец-то включили в делегацию, которая поедет на конференцию к итальянским коммунистам, но пока в качестве резерва: если приболеет кто-то из заявленных стариков. А тут человек два месяца колесит по всей Америке с лекциями, да еще, будучи в ФРГ, обижается, когда во Франкфурте его не встречает посольская машина, чтобы отвезти в Бонн…
Но все эти вояжи не радуют Ковригина, и в рассказах он постоянно с нежной ностальгией возвращается к царским временам, когда были порядок, изобилие, благолепие: в прудах плавали тучи уток, на лугах паслись несметные стада гусей, овец, коз, коров, да еще и не простых, а невиданных заморских пород. При большевиках всю живность, ясно, пустили под нож, заменив английских молочных рекордсменок тощими советскими буренками. Обидно? Конечно! Я и сам поездил по стране, читал стихи в колхозах, в том числе отстающих, где фермы светились дырявыми кровлями. Но были и передовые хозяйства – под новенькими крышами. В одном совхозе директор хотел подарить мне письменный стол на львиных лапах, оставшийся еще от помещика. Себе с прибылей он купил модное совершенство из полированных опилок. Но я, чуть не рыдая, отказался: до сносного шоссе дар надо было везти почти сто километров на грузовике по таким дорогам, что луноход не прошел бы.
Что ни рассказ, то плач о потерянной России. Вот автор проезжает мимо колхоза «Борец»: грязь, запустение, обломки техники, ветхие здания. А прежде тут было имение графа Суворова: ухоженный парк, пруды с прорвой рыбы, аллеи, куртины, клумбы… Куда все девалось? Почему? А потому что раньше тут был хозяин! И помещики-то у Ковригина все просто благодетели: лютый барин как заорет на жадного управляющего, мол, «выдать крестьянину новую кобылу вместо павшей лошаденки, а то запор-р-рю!» Может, Ковригин и сам из бывших? Вроде не похож…
Или другой сюжет: вот некогда большое – в 200 домов – село. Вообразите, там было девять чайных и семь лавок! Закуску к водке давали бесплатно. Сами на меду пиво варили. Теперь-то хорошо, если раз в квартал бочку «жигулевской» мочи привезут. (В этом месте я вспомнил абаканское пиво.) А какая ярмарка в селе была! Все что хочешь можно купить. Даже пожарную машину. «Кто ж покупал?» – недоумевает автор. «Мужички. Скинутся и возьмут для своего села…» – отвечает ему старичок-очевидец, первый председатель местного сельсовета.
«Девять чайных! – подначивает писатель. – Быть того не может!»
«Как так не может? Я же их сам все и позакрывал!»
«А теперь сколько чайных?»
«Одна. Да и то лучше не ходить…»
«Уж не из кулаков ли Ковригин?» – Я почуял легкую классовую неприязнь.
Умиление прошлым естественно перетекало у крамольника в недовольство настоящим. Ну, все у нас не так! Даже то, что хорошо, все равно плохо. Почему, например, нет безработицы? А потому что мы одно и то же по десять раз переделываем…
– Ты думаешь, напечатают? – спросила жена, дочитав новеллу «Откопали».
…Школьники в 1960 году положили в бутылку вырезку из «Правды», где Хрущев обещал коммунизм в 1980 году, засургучили и зарыли в сквере, а через 20 лет откопали. Читают про бесплатное питание и дармовой проезд, про обогнанную Америку, про изобилие по потребностям – и хохочут вместе с толпой сограждан. В общем, всех забрали куда следует…
– Конечно, не напечатают.
– Он смелый!
– Очень, – согласился я и попытался погладить жену под пеньюаром.
– Да ну тебя, после того, что он пишет, вообще настроение пропало.
Наконец я добрался до того, из-за чего, видно, и разгорелся сыр-бор, – до рассказа «Невероятный разговор». Автор накануне кровавых событий 1956 года как корреспондент «Огонька» приезжал в Будапешт и познакомился с Андроповым, в ту пору советским послом в Венгрии. Вдруг спустя без малого тридцать лет ему звонят из ЦК и сообщают: новый генсек хочет пообщаться. Присылают машину. Писатель, недоумевая, едет, гадает: зачем вдруг понадобился начальству? Его встречают и проводят в большой кабинет. Он ждет, соображая, о чем пойдет речь: о литературе? А, может, поднимай выше – о состоянии общества, об экономике, о том, как новому вождю взяться за дело, с чего начать. Наконец выходит старый, усталый человек в больших очках и спрашивает: «Ну и как там в народе ко мне относятся? Пошли уже анекдоты? Чувствую, не любит меня народ. А почему? Я, даже когда руководил КГБ, никого особо не сажал, только если за дело. Несправедливо…»
И тут Ковригин как ему врезал со всей посконной прямотой: «А за что вас любить-то? Вы еще ничего для народа не сделали!» – «А что нужно народу?» – опешил Андропов. И тут автора понесло. Прекратите войну в Афганистане. Объявите ее кровавой ошибкой. Пошлите к черту соцлагерь и прочих международных нахлебников, пока они нас не послали. Перестаньте гнать природные богатства и культурные ценности за рубеж. Сделайте рубль конвертируемым. Это же курам на смех: в стране две валюты – для внутреннего и внешнего хождения. Верните прежние названия старинным городам! Что еще за Калинин, Орджоникидзе, Киров или Горький? Тверь, Владикавказ, Вятка, Нижний Новгород! Снимите народ с унизительного пайка, избавьте от стояний в очередях, от поездок в Москву за колбасой. Освободите от сидения на скучных собраниях, от лозунгов повсюду, от вранья в книгах, в газетах, на радио, на ТВ. Не зажимайте инициативу, разморозьте мозги, не давите самодеятельность. Закройте комбинаты, отравляющие Байкал! Восстановите порушенные памятники культуры, включая храм Христа Спасителя, откройте верующим церкви и мечети… Верните народу его праздники, ярмарки, лошадей, мельницы, землю… («Точно из кулаков!» – подумал я в этом месте.) Вот тогда вас полюбят. А то устроили несколько дурацких облав в парикмахерских и пивных, а уже любви захотели…
Ковригин ждал, что Андропов крикнет «хватит!» и хлопнет по столу, но генсек молчал, а потом грустно молвил: «Что ж, пожалуй, так и поступим…»
И в этот момент автор проснулся.
Нина читает быстрее, чем я, на «Невероятном разговоре» она меня догнала, и крамольный рассказ мы глотали одновременно, сблизив головы и скользя глазами по одним и тем же строчками, а закончив, посмотрели друг на друга с ужасом:
– Его посадят!
– Могут даже из партии выгнать, – прошептал я, поняв, наконец, куда меня втянули.
Словно ища защиты, я прижал к себе теплое тело жены, подернутое тонким пеньюаром.
– А ну дыхни! – потребовала Нина. – Все-таки пил!
– Ну, киса…
– Тамбовский волк тебе киса!
Ночью мне снилась красная пожарная машина, украшенная двуглавым орлом и запряженная черными гусями…