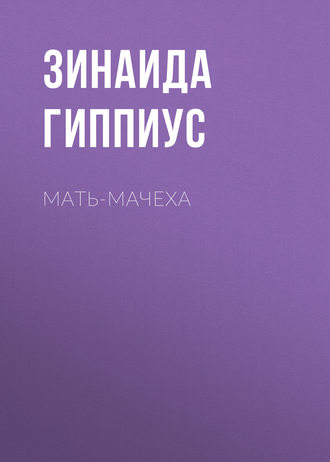
Зинаида Гиппиус
Мать-мачеха
VI
«3 июня, суббота. Белый Ключ.
Такая скука! и не скука, а злость. Агнесса много раз заставляла писать немецкий дневник, но я не писала, а теперь вот хочу русский начать. Так и слышу ее голос: „Калерия, schreiben Sie Ihr Tagebuch, das ist schon fur einjunge Fraulein“[3]. А я по-русски ненавижу и не умею писать. Мне учитель в гимназии за сочинение два ставил. Значит, уж мне тошно и одиноко, если я писать принялась. Почему они меня не учат? Может, у меня призвание; я хочу быть артисткой, как мама; ведь у меня есть голос. Что за чудо! Быть свободной, ехать куда хочешь, бриллианты, туалеты, поклонники. Самой влюбляться – это глупо, надо чтобы в тебя влюблялись. Я это лучше мамы понимаю. Нахожу, что часто она поступает, как маленький ребенок. О, я буду не такая, и полно тогда огорчаться разными историями с глупыми гимназистами да с их приятелями! Этот приятель Алешин, Шмит, – который еще недавно приехал, – меня возмущает. Что за пренебрежительные манеры? И даже не пренебрежительные, а какие-то ласково-покровительственные; самому-то едва можно дать двадцать шесть лет, и вовсе не красив: худой, высокий, ноги, как жерди (хотя он должно быть, танцует хорошо: у него какая-то гибкость), и лицо длинное и весь белокурый, белокурый, просто, просто как лен. Хорошо еще, что не прямые волосы, а курчавые немного: бородка тоже курчавая, а глаза, по-моему, злые; не то что злые, а неумолимые, и вот странно, что вместе с этой неумолимостью есть в них и ласка. Но как он себя со мной держит! Этого нельзя позволить. Подумаешь, князь какой-нибудь богатый, а просто себе – студент окончивший, посланный сюда для каких-то там исследований. Осенью он возвращается в Москву, там, говорят, дадут ему место. Незавидное, я думаю, место! Но что же это я все о Шмите? У меня ведь главная возня с Алешей. Смешной мальчик, хотя какой-то странный: упрям донельзя, но и бесхарактерен. Как он позволяет своей матери так с ним обращаться. Мать, как мне кажется, очень странная: не то эгоистка, не то полоумная. Но он так в ее руках, что тут и Шмит ничего не сделает.
Алеша в меня влюблен, я это вижу. Он мне нравится. Иногда приходит в мысль, не попытаться ли посредством любви вырвать его из рук этой ведьмы. Я много раз хотела притвориться влюбленной в Алешу, но тут был Шмит, и он мешал; мне казалось, что он непременно догадается. Но все-таки я попробую, это не трудно, раз он мне уже нравится.
Мама все со своим графом, я все с Агнессой – хорошо, что она влюбилась в этого шута, Вадима Петровича, и не надоедает мне. Он учится у нее по-немецки, а она вздыхает и глядит с томностью, – а мне тревожно и скучно. Ну чего бы я хотела? Во-первых, чтобы Шмит уехал: он совсем не у места; во-вторых, чтобы Алеша не был таким киселем, влюбился в меня как следует и оставил бы с носом мамашу; ведь я могла бы тогда его убедить поступить в университет, спасла бы его; посмотрим, что сказал бы на это Шмит. А в конце я бы хотела уехать куда-нибудь далеко, забыть все мои теперешние мысли и сделаться артисткой, петь, слушать аплодисменты… и никого не любить – ни о ком не думать, потому что это мучительно, невыносимо, гадко…»
Калерия писала дневник в саду в беседке, откуда была видна дорога. Написав последнее слово, она оглянулась и вдруг увидала подходившего к забору Алешу. Он был один… Калерия вскочила и побежала навстречу.
– А где же ваш друг? Вы одни? Ну, это отлично. Хотите пойдемте гулять? Так сейчас, сразу: я вот в этом чепце, – она называла чепцом большую изогнутую шляпу, закрывавшую ей уши, – даже без зонтика. Только скорее, а то увидит Агнесса.
Она отворила калитку и, схватив под руку оробевшего Алексея, чуть не бегом пустилась с ним к роще. Всю дорогу они молчали и только в роще, на горе, усевшись на светлый мох, озаренный предзакатными лучами, они перевели дыхание, взглянули друг на друга и улыбнулись.
– Опасность на время избегнута! – воскликнула Калерия, развязывая ленты шляпы. – Да что с вами? – прибавила она, взглянув в лицо Алексея, – я и не заметила, а вы какой-то расстроенный. Что-нибудь случилось?
– Не случилось, а… Я вам все скажу Калерия, ведь вы – мой друг, да? У меня большие неприятности. Вы меня поймете. Моя мать, знаете, странная женщина, и, вообще, жизнь моя странная. Я вполне понимаю, что ей, конечно, трудно со мной расстаться, но она, видите ли, хочет, чтобы я в здешнее юнкерское училище поступил и был офицером, а я решительно не хочу быть офицером: у меня давно склонность к естественным наукам, я и мечтал, что поеду в университет, а тут вдруг эта история. Но знаете, против матери идти трудно, так я уж решил было рукой махнуть; конечно, и Шмит меня поддерживал сильно, но, откровенно говорю, я не мог дольше бороться. Если бы вы знали мою мать, вы бы лучше поняли. Потом вдруг вы приехали… И еще другие у меня в доме неприятности, – прибавил он, перебивая самого себя.
– Ну, я приехала, что же дальше? – с любопытством спросила Калерия.
– Вы тоже мне не советуете и не хотите… И не намерен я здесь киснуть в юнкерском; вы уедете, а я все здесь, и служить потом здесь же… Разве это жизнь?
– Конечно, это невозможно. Вы должны быть твердым и настоять. Я не хочу, чтоб мой друг был солдат. Я отрекусь от вас, если вы пойдете в юнкерское.
«Не слишком ли я круто повернула? – подумала она. – Как будто неестественно».
– Вы от меня отречетесь? – растерянно повторил Алексей. – Послушайте, Калерия, да как же это? Знаете, я вот за эти три недели, что знаком с вами, совсем другим человеком стал. Я вас люблю, Калерия, я вас люблю всеми силами души! Я живу только вами! – говорил он, бессознательно повторяя фразы, вычитанные им из романа и часть которых он уже повторял Любе. – Скажите, Калерия, вы не сердитесь? Калерия, если вы меня не любите, я умру; правда, в самом деле умру, все равно моя жизнь проклятая.
Он произнес это неожиданное заключение с такой горечью и правдивостью, что Калерия невольно обернулась и протянула к нему руки.
– Нет, что за вздор, – сказала она. – Не говорите так. Я тоже вас люблю.
Алеша с несвойственной ему решимостью и смелостью вдруг обнял ее и прижал к себе. Она хотела вырваться, но потом рассудила, что все равно. Надо было не испортить начатое, к тому же Алеша ей нравился, и она подумала даже на секунду, точно ли она притворяется.
Тонкое, пронзительное ауканье заставило их вздрогнуть и отодвинуться друг от друга.
– Это Вадим Петрович и Шмит, – сказал Алеша почти шепотом. – Пойдемте дальше, в глубину леса, там мы будем одни.
– Нет, зачем убегать, – возразила Калерия, поднимая упавшую шляпу. Ее, очевидно, нисколько не пленяла мысль уединения с Алешей.
– Что ж делать, они нас ищут?
И она звонко и ясно крикнула в ответ. На повороте дорожки скоро показалась высокая фигура молодого человека в светло-серой одежде. Он был так тонок и худ, что казался еще выше. На белокурых волосах была такая же светлая шляпа. За ним шел Вадим Петрович в своем неизменном шарфе.
– Здравствуйте, Калерия Александровна, – произнес Шмит, протягивая руку. – Признаюсь, это было для меня неожиданностью, – ваш тайный побег с сим молодым человеком. Приходим на место вашего жительства и узнаем, во-первых, что вы исчезли бесследно, а во-вторых, что достойная воспитательница ваша, обуреваемая ужасом, ринулась искать вас, неизвестно куда. Она может пропасть, и, если счастливая звезда не приведет ее на ваши следы, она способна в минуту отчаяния броситься со скалы и таким образом окончить дни свои…
Калерия смеялась.
– Ничего, я знаю, где она меня ищет, дальше оврага она не пойдет: ей почему-то представляется, что я люблю берега реки; когда мне наскучит гулять, я отправлюсь туда и найду ее в отчаянии, правда, но здравой и невредимой. Да лучше бы вы пошли к ней, Вадим Петрович, – обратилась она к музыканту. – Только не говорите, что я здесь: мне воля дорога.
– Я так и думал, – сказал Вадим Петрович против обыкновения тихо и невесело, – да я за Алешей: Алеше домой нужно.
Радостный и взволнованный Алексей только теперь взглянул в лицо Вадима Петровича и невольно побледнел: он понял, что опять что-нибудь случилось.
– За мной? Что ж, надо идти.
– Идите, идите, – рассеянно проговорила Калерия, – со мной Никанор Ильич останется.
Шмит с преувеличенной галантностью свернул руку калачиком и, подавая ее Калерии, сказал:
– Останусь, останусь и в полной сохранности возвращу вас в лоно вашей воспитательницы. Иди, брат Алеша, – прибавил он с чуть заметным оттенком иронии, – торопись, не то опоздаешь.
– Пройдемтесь еще немного, – сказала Калерия, когда Вадим Петрович и Алексей ушли.
– С удовольствием, милая барышня, я вам кое-что порасскажу о моих знакомых.
Они пошли в глубь рощи. Наступал вечер. Небо между верхушками сосен было бледное, высокое, легкое. Калерия невольно подняла к нему глаза.
– Смотрите, как хорошо, – сказала она.
– Что хорошо? Небо? Да, славное, чистое небо, хорошая погода будет, и если б такое небо в деревне во время покоса, мужик бы радовался: сено не смочит.
Калерия взглянула на него с удивлением, но ничего не ответила.
– Вижу, вы к поэзии склонны, милая барышня, – сказал Шмит, – это ничего, это хорошо: всякой ягоде – свое время, – в третьем классе гимназии, поверите ли, и я стихи писал. Да что стихи – скрипку купил, в артисты чуть не записался. Вот как люди растут, да меняются.
– А вы любите музыку? – вдруг оживившись, спросила Калерия.
– Некогда этим заниматься, да и думать об этом некогда, Калерия Александровна: нам жизнь для работы дана, а не для того, чтобы песенки наигрывать. Я вам напрямик скажу: если вы рассчитываете со мной салонные разговоры вести об музыках да разных там искусствах, – так что ж, это можно, только в свободное время, по холодку – я и не о таких пустяках говорить могу, но только сдается мне, что человек вы хороший, дельный, а так это на вас только напущено, вы можете совсем в этих музыках да поэзиях погибнуть, а мне всякого гибнущего человека от души жаль. Вот, например, Алексей, – ну тот уж прямо от нелепости, от полного абсурда погибает. С задатками мальчик, со способностями, кто знает, что из него бы вышло, и вдруг – мать такая, а у него, как на грех, и душа-то кисельная. Его нужно укреплять, утверждать, а не поэзиями расслаблять, как вы делаете, Калерия Александровна, – прибавил он, вдруг строго взглянув на нее.
Калерия густо покраснела, опустила голову и не думала отпираться. Она только пробормотала, по-детски смущаясь:
– Я хотела то же, что и вы. Повлиять на него. Чтобы он против матери. И пошел бы в университет.
– Вот то-то и есть, – наставительно сказал Шмит, – вам все бы влиять, а будет ли польза или вред человеку – это вам все равно. Алексею от этого будет вдвое хуже, а вам он не нравится, так что и для вас корысти не много.
– Нет, он мне нравится, – пыталась возразить Калерия, но Шмит перебил ее, и она умолкла.
Шмит производил на нее странное впечатление: силы, смелости, противоречия ее собственным мыслям, но и какой-то привлекательности. Она выросла в кругу актеров и актрис, где все – притворно или искренно-восхваляли искусство, поклонялись искусству. Между ними были и настоящие музыканты, и музыка, помимо всех веселых песенок, которые Калерия переняла от матери, помимо всех мечтаний о блеске и радостях артистической карьеры, привлекала Калерию чем-то внутренним, необъяснимым, но неотразимым. Теперь Шмит говорил ей, что все – вздор. Он посягнул на самое заветное в ее душе, и смелость его и пугала, и удивляла ее, но не отталкивала. Она слушала его, как ребенок, и чем больше он ей нравился, тем более она верила в его слова.
А Шмит был по-своему красноречив. Бывало, среди товарищей в университете он первый вскакивал на стол и произносил речи. Увлекаясь, он с Калерией говорил так, как с товарищами. Слова его были просты, определенны, грубоваты, мечтания не широки, но уверенны, и в голосе звучала такая искренность, был такой огонь, что нельзя было не сочувствовать ему. Калерия не отделяла его слов от него самого, воспринимала все целиком, изумлялась и верила ему.
Они не заметили, как закатилось солнце и стало темнеть.
– Однако пойдемте, – прервал вдруг сам себя Шмит, – уж поздно, вас серьезно ждут.
Шмит видел, какое впечатление он производил на Калерию, и был рад. Она казалась ему и красивой, и, главное, толковой девушкой, со способностями, испорченной немного воспитанием, – но кто же воспитан нормально, – а с дельным руководителем из нее могло бы выйти кое-что.
Так думал Шмит, когда они молча спускались вниз в потемневшем воздухе. Вадим Петрович, должно быть, увел Агнессу домой, потому что ее тут не было, да Калерия не думала ни об Агнессе, ни об ее тревоге. Медленно дошли они до калитки сада, молча простились и разошлись каждый в свою сторону, Калерия – торжественная и серьезная; а Шмит – уверенный, хотя тоже чем-то слегка радостно взволнованный.
VII
Нельзя сказать, чтобы Алексей любил Калерию: он не чувствовал к ней никакой нежности, она не была ему дорога, он только изумлялся, восхищался и боялся ее. Все в ней казалось ему чудесным и новым, потому что он никогда не встречал человека, подобного ей. И эта струя внешней жизни, ворвавшаяся в его тюрьму, казалась ему счастьем. Вечно приподнятое, беспокойное чувство его к ней можно было назвать влюбленностью, но нелюбовью. Нечто подобное этому увлечению испытывала Калерия к Шмиту, конечно, без откровенного оттенка поклонения и почти не замечая этого сама.
Несколько дней Алеша не видел Калерию: мать следила за ними – убежать было невозможно, только раз вечером он встретил ее около почты и не успел сказать ей двух слов, только за углом шепнул:
– Вы меня любите? Да? А я вас так люблю, так люблю.
Калерия твердо помнила наставления Шмита, не имела охоты продолжать комедию, но тут положительно не было времени сказать что-нибудь Алексею.
Прошло еще несколько дней. Любовь Алексея от препятствий, которые делала ему мать, становилась острее и мучительнее. Он написал Калерии письмо, детское, полное неловких фраз, вычитанных из романа, но искреннее и горячее. Он говорил что решил победить все и сделать и сделать так, как она хочет – пойти в университет, что для нее – он все может.
Часто бессильные люди убеждены, что они способны на многое и на многое, и даже чувствуют в себе силу, пока не приходит время действовать. Калерия не отвечала: ей в то время было не до Алеши и его университета. Алексей написал другое письмо, коротенькое, где только говорил, что он сходит с ума и хочет ее видеть. Это письмо попало в руки Елены Филипповны по неосторожности самого Алексея и было причиной того, что случилось.







