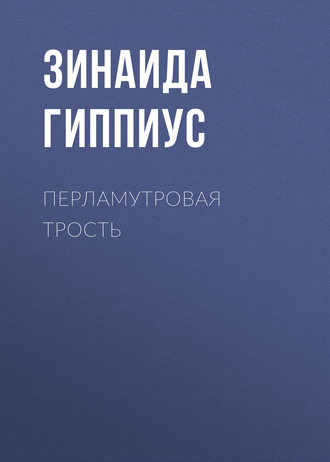
Зинаида Гиппиус
Перламутровая трость
XI. Денек
Такая яркость жаркая, такое сверканье, а в голове такая путаница идиотическая, что нет! Не выйду до вечера. Сумрака хочется, тишины.
В сумраке своей затененной комнаты я и лежал на кушетке, ничего не делая. Но вот легкий стук в припертую ставню. В дверь с балкона проскользнула Клара.
– Вы отдыхали? Я вам помешала? О, простите! Но я пришла… быть может, вы подниметесь к нам около шести, к чаю? Маленькая баронесса и sa mère, миссис Миддл, придут с прощальным визитом. Оне завтра уезжают.
– Уезжают?
– Да, в Рим, кажется. Она очень приятна, Элла, неправда ли? И ее mère adoptive тоже мила.
– Так это mère adoptive?
– Ну да. Я думала, вы знаете. Приемная мать. Значит, мы их ждем? Да?
Я подвинул ей кресло, но она не садилась. Говорила белым голосом, точно думая о другом. Мои глаза привыкли к полутьме, я видел лицо Клары очень ясно и видел его не таким, как раньше. Может быть, от вчерашнего воспоминания смотрел иначе. Мне было стеснительно, не то больно, не то стыдно, и хотелось, чтоб она скорее ушла. Поспешно обещал быть к шести и думал, что этим кончится. Но тут-то и началось.
Клара двинулась, было, к двери, потом остановилась. Обернулась.
– К Monsieur von Hallen вы пойдете позднее вечером? Да? Скажите ему, что я его люблю… Он знает. Он все знает. Но повторите ему и вы, его лучший друг, que je l'aime. Je l'aime tant…
На мгновенье я онемел. Но тотчас же пришел в себя. Лучшее, что тут нужно, – быть хладнокровным.
– Зачем же говорить ему это, милая madame Клара? Тем более, если ему известно, зачем буду повторять это я? Бесцельно, жестоко… И ведь безнадежно? Если б вы знали Франца…
– Я знаю, знаю, – спокойно перебила Клара и улыбнулась. – Я знаю, что он не любит меня, не полюбит и не может полюбить, это безнадежно. Но почему вы думаете, что я хочу от него любви?
– А чего же вы хотите? – спросил я глупо, теряя, если не хладнокровие, то всякое понимание.
– Чего я хочу – он вам скажет сам. Да, наверно, скажет. И тогда, если он спросит вас о чем-нибудь, и вы будете отвечать, помните, молю вас… Помните о моей любви. Я так люблю!
Посмотрел на нее, хоть и ничего толком не понимая, с уважением почти: ведь действительно любит, какая она там ни на есть. Любовь-то, она у всякого одна. Клара прямо на глазах похорошела.
Всю путаницу я, однако, решил сегодня же с Францем распутать. И относительно Клары, да и себя. Что, в самом деле! Приехал, хожу, как дурак, ведь не для того же Франц меня вызвал, чтобы я с его мальчишками заигрывал, тарантеллу смотрел и был конфидентом влюбленных в него дам? А через неделю я уеду. Я предполагал, по дороге, еще в Риме и кое-где вообще в Италии остановиться.
Рим… Господи, а Элла? Странно, я как будто все время о ней забываю, но, не помня, все время помню. Очень странно. Ну, завтра уедет, хоть с этим кончено.
Я даже вслух сказал: «хоть с этим». Однако радости, что «кончено», – ни малейшей. И врать перед собой не буду.
Гости уже сидели за нарядным чайным столом, когда я пришел наверх.
Клара (что она за милая, умелая хозяйка!) по-немецки певуче, вела любезный французский разговор. Представила меня… так вот она, mère adoptive! Большая, совсем не старая, белая, жирная, рыжая. Не ярко, а светло-рыжая: англичанки часто бывают такие, прославленный пепельный цвет их волос почти не встречается. Эти желто-рыжие волосы у миссис Миддл взбиты на лбу кудельками, а обширная, лилово-шелковая грудь увешана какими-то цепочками, колечками и медальонами.
Я тотчас приметил, что м-с Миддл очень слабо говорит по-французски и почти ничего не понимает. Но, нисколько этим не смущаясь, она пыталась говорить все время и даже перебила Клару несколько раз. Так была велика, что за ней, да еще за пышным букетом белых цветов, я, в первую минуту, даже не увидал Эллу. Только уж потом заметил ее маленькую фигурку, в том же сером английском костюме, слегка сутулившуюся.
Я плохо знаю по-английски, да если б и хорошо, вряд ли удалось бы мне перевести разговор на родной язык м-с Миддл: слишком нравилось ей говорить по-французски, или, может быть, считала она, что именно здесь, именно сейчас, ей хорошо и следует говорить по-французски. Этой уверенностью и своей величиной она положительно доминировала за столом.
О чем был разговор – не знаю, я не понимал и мало старался понимать. Прислушивался, когда м-с Миддл упоминала имя Эллы (а упоминала она его часто), однако и тут не все разобрал. Нет злостнее английского акцента: он всякий язык может сделать абсолютно непонятным.
К счастью, Клара что-то ловила и пыталась повторять фразы м-с Миддл. То же принялась делать и Элла, – когда речь шла не о ней. Так я узнал, что оне, действительно, едут теперь в Рим, а сколько останутся там – неизвестно, у м-с Миддл в Англии дела, путешествуют же оне Давно… Потом всякие «beautés» их путешествия, потом опять что-то о музыкальной карьере и лондонских успехах Эллы, потом о старинной вазе («la» vase), которую м-с Миддл купила в Бестре…
Элла усердно помогала «mother», как она звала м-с Миддл. Эллу я, в первое свиданье, принял за девочку очень застенчивую. Но уже на вечере Франца заметил, что она не робка и довольно самостоятельна.
Хорошо, но почему я стараюсь не смотреть на Эллу? Скользить глазами мимо, не останавливать взора на ее лице? Чего я боюсь?
Не жирной англичанки, во всяком случае. Что такое эта «mère», да еще adoptive, и почему, – я не понимаю. Но какое мне дело, когда я почти не верю, что она существует? Ни пространность ее колыхающихся телес, ни уверенный звук горлового голоса, наполняющего комнату, еще не доказательства ее бытия…
– Я тоже скоро покидаю Бестру. И тоже в Рим еду.
Сказал это почти неожиданно для себя и в первый раз посмотрел на Эллу.
Если я воображал, что увижу опять что-нибудь «такое» (кто меня знает, – ждал, вероятно), – ошибся. Глаза англичаночки (хотя она не англичанка, уверен) были опущены, и острое личико спокойно.
Непонятное мне самому заявление, что я тоже еду в Рим, пропало даром. Я уж обрадовался, было, так как ничто меня больше своих непонятностей-глупостей не раздражает. Но Клерхен сказала, вероятно, из машинальной любезности:
– Ах, так вы еще встретитесь в Риме, быть может! Вы где остановитесь, cher Monsieur?
Я хотел сказать «не знаю», но прежде, чем «не знаю» выговорилось – назвал маленький отель над Monte Pinchio, где всегда живу, когда попадаю в Рим.
Все это выскользнуло быстро, миссис Миддл ничего не поняла, а Клара уже, слышу, просит Эллу что-нибудь сыграть (пианино тут же, в углу).
– Я ведь не пианистка, chère Madame, – отозвалась Элла, улыбнулась, точно извиняясь, но встала.
– Да, да, она – композитор! Но иногда мы забавляемся вместе, и как у нас выходит! Помните, Элла, наше «Ça ira! Ça ira!»[20]. Сыграйте это, хотите?
Миссис Миддл тоже встала, – я ужаснулся ее величине, – но потом почему-то села, ожидая, вероятно, первых аккордов.
Конечно, Элла не пианистка. Что за пианистка с такими руками, детски крошечными, хотя и крепкими, мальчишескими, с чуть узловатыми пальчиками?
Видел только наклоненный профиль и над ним, острым, коричневый бобрик волос (она сняла шляпу).
Я уж говорил, у меня особенно, ни на чье не похожее, отношение к музыке; и здесь, опять, не буду его касаться. Скажу только, что все (кроме Франца) твердо знали, что я ее и не люблю, и не понимаю. Они были вполне правы, эти все: да, не любил, как они, не понимал в ней ничего, – как понимали многие, тонко и знающе. Я был невежда. Никогда не ходил ни в какие концерты, не выносил их. И особенно не любил рояля.
Но ничего как будто удивительного не случилось для меня, едва заиграла маленькая незнакомка. Только пропала комната Флориолы, Клара, рыжая толстая дама, солнечный свет. Я был у Франца, я опять стоял рядом с девочкой в белом платье, на самой черте мрака. Оттуда, из черной пустоты, и шли странные звуки, которые я слышал.
Когда они прекратились, я еще полминуты оставался в оцепенении. Кажется, и Клара: она молчала.
Отлично понимал, с первой ноты понял, что была это – вчерашняя серенада. Но откуда идет и где сила волшебства, заставившая меня не вспомнить, а снова, всеми пятью чувствами, перечувствовать бывшее, как настоящее? Талант худенькой девочки, что ли, воспроизводившей прошлое до его воскресенья? И что это за талант? Или это во мне, в меня, в темную глубину какую-то попали эти звуки, именно так, а не иначе посланные, и волшебство совершилось – во мне?
Вот и Клара молчит; а если и в ней что-то ответило, – о, по-другому совсем, – на те же звуки?
Полминуты, не больше, длилось наше молчание. Даже меньше, пожалуй. Нас троих, – м-с Миддл его и не заметила. Через полминуты, когда Элла тихо поднялась из-за пианино, «mother» воскликнула:
– Оуа, вы не хотите Ça ira?
Элла покачала головой. За мамашей поднялись и мы.
– Нам пора, mother, вы не думаете? – сказала Элла по-английски. – Нам нужно еще зайти к miss Toll. Вы устанете…
Клара уже пела какие-то любезности, превратившись в хозяйку дома. Я тоже что-то говорил. А, может быть, и нет. Помню только пожатие маленькой холодной ручки и мое спокойствие. Волшебство? Да, такие вещи бывают на свете. Мало ли что бывает!
XII. Продолжение денька
Уж темно, а какая жара. Даже здесь, у самого-самого моря, на гальках, – ни ветерка.
Оба лежим мы под скалами, что-то шуршит около нас, на небе пологий острый месяц, углами кверху, точно улыбается.
– Ну да, – говорит Франц. – Ты поедешь и узнаешь. И потом скажешь мне всю правду. Я даю год. Больше года прожить без нее не могу.
– Трудно это, Франц.
– Конечно, трудно. Но ты можешь…
– Могу. То есть, постараюсь.
Можешь. Ты один можешь. Это ничего, что ты не совсем понимаешь, зачем мне эта правда.
– Кажется, понимаю, – перебил я.
– Отвлеченно формулировал? Да ничего. Тебе же лучше. Но узнать правду ты можешь и передать мне; и тебе одному я поверю. Год. Наскоро, сразу, нельзя узнать. Будущей весной мы съедемся… все равно где, и тогда ты скажешь.
Мы замолкли. Шуршало меж гальками. Улыбался месяц.
В этот странный день ничто уже не казалось странным. Я принял, без споров, поручение Франца. Когда я вижу, что ему что-нибудь действительно нужно, я не могу, ну просто не могу, отойти без помощи. Никто, кроме меня, ему и не даст ее, а главное, ни у кого, кроме меня, никакой он не попросит. И не просил.
Франц хочет, чтобы я, за этот год, узнал правду об Отто. Не внешнюю, а внутреннюю правду его существа. (Я, конечно, сразу понял, какую правду.) Отто женился. И счастлив. Счастлив ли? Может ли быть счастлив? Любовь Франца к Отто, была ли это любовь – к «никому»? Или, на худой конец, к кому-то неизвестному, не тому Отто, какого видел Франц? Но тогда и любви не было?
Я тут, для себя, в рассуждениях путался, и скоро их оставил в покое. Понимаю, чего хочет Франц, с Отто я хорошо знаком, случай приглядеться к нему с нужной стороны – найду, кстати же, этот самый Отто всегда казался мне довольно незамысловатым: я лишь не интересовался его ларчиком, но откроется он, полагаю, без труда.
Ну и довольно. Что я не вполне, не «изнутри» понимаю даже свои собственные объяснения желаний Франца, (узнать, кого любил), и сухой ревности без любви, да еще дико – односторонней не понимаю, – Франц знает, и это неважно.
А вот…
– Послушай, есть еще… Есть еще, совсем другое.
Франц повернулся ко мне. Оперся на руку. Я привык к месяцу и видел теперь бледное лицо. Оно было удивительно доброе, с тем выражением тихой нежности, которую я знал в друге.
Но почему-то испугался. Еще? Что еще?
– Не бойся. Это не о маленькой музыкантше. Не о тебе.
Обо мне? О ней? Что он хотел сказать? Я удивленно посмотрел, не ответил.
– Это о бедной Кларе.
Ах! Я вспомнил все. Вспомнил вчерашний вечер, сегодняшнее утро…
– Подожди, выслушай меня сначала, – продолжал Франц, – верь, – да ведь ты мне всегда веришь, – но не удивляйся ничему, не смейся; пойми, как ты умеешь многое понимать.







