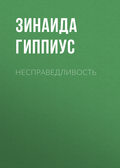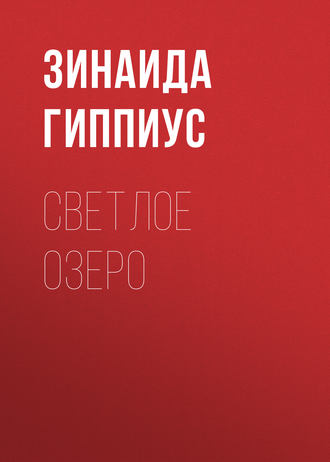
Зинаида Гиппиус
Светлое озеро
Из Игнатьевской обители, через поле, а потом через широкий болотистый луг, по очень удобным мосткам, мы перешли в Комаровскую женскую. Как здесь хорошо! Зеленая-зеленая поляна, прудок под нависшими березами, у пруда скамеечка.
За прудом, в линию, – скит: одинаковые двуоконные избушки, соединенные галерейками. Это одна «стая». Избушки чистенькие, крепенькие, – скит самый зажиточный, помогает Бугров из Н.
Мы обогнули стаю, зашли с другой стороны. И там луга; ближе – развесистые деревья, влево как будто огород. Чистенько – и заперто, словно вымерло. С галереек по этой стороне крылечки, плотно запертые. Под окнами незамысловатые цветы.
Направо – навес и каменная могила («голубец», только каменный) матери Манефы. Рядом – «било», деревянная доска, висячая, на горизонтальной палке. Тут же молоток на коже. Известно, что «било» установилось в скитах с запрещением колоколов. Есть, однако, искусницы, умеющие из «била» извлекать звуки не хуже колокольных.
Стучим в дверь, в одну, другую. Никто не выходит. Испугались? Стучим отовсюду.
Наконец вылез матерой мужик с лукавым лицом и стал утверждать, что «истинно никого нет», обе матери уехали, и что «истинно даже все ключи с собой увезли».
Из оконец тем временем высунулись полудеревянные лица молоденьких беличек. Они все подвязаны белыми платочками, есть недурные; одна, с крупной черной родинкой на подбородке, Маша, – совсем мила.
Болтаю с ними через окошко.
– Маша, а замуж пойдешь?
– Не пойду, – отвечает сурово, без искры в глазах, без улыбки, без смущения.
После долгих препирательств и лганья матерого мужика – нам все-таки отворили.
Настоятельниц, точно, не оказалось дома (или спрятались?) – но ключи налицо.
Моленная большая, с аркой, – из двух горниц, верно, – и образа хороши, но какая-то она не интимная. Благодаря отсутствию «матерей», должно быть, – нам здесь традиционного «самоварчика» не предложили, и мы были рады, что о. Анемподист заказал заранее чай на деревне, у своей знакомой «учительницы».
Захожу в «трапезную», соединенную со «стряпущей». Остальная компания где-то отстала.
«Стряпка» средних лет; тут же и девушки.
– Что же вы теперь едите? – спрашиваю.
– Капусту, грибы, а то кашу. Коли не пост – иной раз рыбу едим, а только редко. Встаем часу в пятом. В одиннадцатом часу обедаем. К вечеру ужинаем.
– Ну, а кто в огороде работает, либо в поле?
– Те еще середничают.
– А чай пьете?
– Чаю никогда не пьем. У нас и прибора этого нет.
И все, говорят, вранье. Они прехитрые. Попрощались мы с Машей. Хоть бы тут улыбнулась! Как бы не так. И любопытство-то у них какое-то мерзлое.
Пошли мы все опять через поле и горку – на деревню. В большой избе (поднятой, конечно) уже был самовар, хлеб, молоко, свежие ягоды.
«Учительница» о. Анемподиста оказалась его же недавней ученицей – девочкой на вид лет тринадцати, с косицей, в коротеньком коричневом коленкоровом платьице. Живет она и учительствует в соседнем селе, бедном, а теперь проводит у родителей-крестьян летнее «каникулярное» время.
– Печку-то тебе в твоей комнатке поправили? – спрашивает о. Анемподист.
Девочка грустно и робко отвечает:
– Нет…
Она кончила все два класса С-кого училища. Теперь получает 120 рублей в год за свою школу.
Какая странная маленькая «учительница»!
О. Анемподист был в веселом настроении духа, без конца пил чай и всех настоятельно угощал:
– Федор Кузьмич! Кушайте! Чай на чай – не палка на палку! Иван Александрович! Что же вы? Не бутылка, – раздастся!
На обратном пути со мной ехал исправник, грустно-угрюмый, добрый, удивительно простой.
Немногословно и коротко рассказывал он мне о том, как переживал его уезд голод, холеру, что было, что есть . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
О. Анемподист позвал нас вечером «в свою келью». Мы были утомлены (ведь пятьдесят верст сделали!) и, придя, посидели недолго.
Рассматривали альбомы, карточки о. Анемподиста в разные времена его жизни. Домик деревянненький, новенький, свой. Фисгармония в углу. Матушка молодая, наивненькая, от наивности, слава Богу, не робкая.
Мы думали уже завтра ехать обратно в Н., но спутник мой бредит немоляями и гадает, не презреть ли усталость, не поехать ли в село Ивана Игнатьевича, к сыну его Василию Ивановичу?
Ничего, однако, не решили. Утро вечера мудренее.
25 июня
Утром, только что сели пить чай, является наш служитель Михаил.
– Там вас, господа, мужик спрашивает. Очень спрашивает. С озера, говорит.
Вошел – худенький, маленький, невзрачный. Робкий и упрямый. Сектантский декадент. «О вере» говорить явился. Объяснил, что приехал и Василий Иванович (сын Ивана Игнатьевича) к нам. Свободно ли нам теперь?
Мы усадили «декадента», налили ему чаю.
Соображаем: сейчас придет исправник и о. Анемподист, – вести нас к молодому голове Ватрушкину, купцу, знаменитому С-кими деревянными изделиями.
– Вот что, – внезапно решаю я. – Мы сегодня еще не уедем. И приходите вы с Василием Ивановичем к нам часу в четвертом.
«Декадент» согласился. Сам он, кажется, больше насчет икон, хотя утверждает, что не Дмитрия Ивановича духовного «согласия».
– Да как вы оба сюда попали? По делу, что ли?
– И не то, что по делу, а так, понудило что-то идти говорить, и понудило. Слышно, ты, барин, не миссионер, а сам по себе. На озере, слышно, с нашими хорошо говорил. И понудило нас. Лошадей Василь Иванович запрет – да сюды. А я уж с ним.
Ушел робко.
Пока что – идем к Ватрушкину с исправником и о. Анемподистом.
Каменный дом. На дворе навесы для ложкарей и возы с товаром. Сам Ватрушкин – молодой, широкоплечий, чернобородый малый, развязный, добродушный, не без претензии на «лоск». В чесунче и в картузе. Показал товар, надарил нам ложек, повел к себе.
«Зало» разукрашено в самом вольнокупеческом духе. Лиловые лепные потолки.
– Мы что ж, нешто в Москве да в Питере не бывали! Самодоволен.
Пришла жена, не старая, но увядшая, с желтыми пятнами на лице, явно беременная.
– У вас много детей? – спрашиваю Ватрушкина.
– А сколько хотите! Штук семь есть. Все по улице бегают, сорванцы!
«Самоварчик» – в столовой. Чашки – «исправничьи», чуть не ведерные. Пирог на горчичном масле, несъедобный.
Разговор за чайком, с шуточками. Ватрушкин, кажется, не без хитринки в своем деле. К вопросам «веры» – равнодушен.
– Детишки да делишки. Тут уж не до веры. Не так ли, батя?
О. Анемподист присматривается, не без уважения. Часа в три мы дома. Опять заказали «самоварчик». Пришли наши «немоляи».
Василий Иванович – красивый, рыжебородый мужик лет тридцати пяти, с удивительно умными глазами. «Декадент» перед ним – заморыш, а он статный, здоровый, сильный. Да «декадент» и молчал больше, уступая слово Василию Ивановичу.
Говорили мы часов пять подряд.
– Пара лошадей у меня здесь, и лошадей забыл. Чудо это Божье, барин; ты книги читал, в Питинбурхе живешь, мы здесь, а в мыслях вот как сошлись. Пожалуй, будь добр, напиши нам.
Очень любопытен и опять неожидан был разговор. Они – сами знают, что их, «ищущих», миссионеры сбивают в одну кучу с молоканами, духоборами, штундистами, и что это им очень вредит во всех отношениях.
– Что ты будешь делать! Понятного такого человека не найти. Батюшки – они стараются, это что говорить, и усердные есть, а только не вникают, к чему им? Сейчас спросит, ежели приезжий какой, поважнее: ты молокан? Либо штундист? Начнешь ему свое изъяснять, а он поспешает: ну, да, да, вижу, молокан, – и про свое начнет, что там для них написано, чтобы молоканам говорить. Гладко так, доточно говорит, однако для нас неподходяще. Опять же – какая уж тут беседа? Он, батюшка-то, заране себе положил, что я в каждом словечке – заблудший, а у него вся Божья истина до последней порошинки, и нечего там и разбираться особенно, хочешь – бери, отрекайся от своего сплошь, не хочешь – оставайся заблудшим и превратным, штундистом либо молоканом. Разговоры длинные бывают, а все они короткие. Им – ну как, вот, хоть про «тайность» скажешь? Что, мол, за тайность за скрытая? Мы, мол, уже все знаем и всей полнотой обладаем. А мое такое, господин, разуменье: никакой человек не может утвердиться, что он всю истину до самого до кончика постиг, и уж дальше ей некуда в нем открываться. Много постиг, а устремляйся, и еще постигнешь; а не то, чтобы сесть, сапоги снять да упокоиться. Сподобил, мол, Бог; до кончика открыл. Истина-то она одна, да сразу не открывается. Скажем, к примеру, всхожу я на гору. Поле вижу кругом, – да не все. Взойду маленько – поле-то мне уж шире показывает, еще взойду, ан уж до леса вижу, далеко вижу. На всю-то гору не взойти, на нее, может, показано нам до второго пришествия Господа нашего Иисуса Христа идти, ну а всходить надо, пока твой час не придет. Истину-то познавать. Трудно, да надо. Поодиночке оно уж очень тяжело. А у нас народ упокоенный. Либо «духовное согласие»… Как пойдешь это все по-духовному понимать – и докатишься до точки, всего решиться можно. Однако и духовное соображение вначале много помогает. Вот хоть взять наш народ по деревням, которые православными считаются.
– А что?
– Да что. Вовсе без соображения живут, и ни к чему оно им. Господа миссионеры и батюшки верными овцами их считают, потому что они слова против них не говорят, в церковь по праздникам ходят, иконам молятся. «Во всем согласны?» – «Согласны». Благословит их приезжий батюшка-миссионер, порадуется и уедет. А то и вовсе о них не вспомнит – миссионеры-то, ведь, к нам, а не к ним, приезжают. Ну, а мы между народа живем, – так и знаем ихнюю-то веру. Иконы, скажем. Икона, вот ты говоришь, как бы портрет. Это пусть. Вхожу я в комнату, где высокого лица портрет – я шапку сниму. Уважение. А тем пуще, ежели и не человек изображен. Это дело одно. А у наших есть ли такое понятие? Войдет в избу: «Где у вас Бог-то? В какой угол молиться-то можно?» Ведь вот какое понятие. Что, мол, я пустому-то месту молиться буду? Бог-то, мол, и не видит, что молюсь. Оттого и нас, которые «духовного согласия», за безбожников считают. Нет икон – Бога нет. Вот ведь какое рассуждение. Или там баба приходит к священнику: «Отслужи ты мне, батюшка, Казанской молебен. Да мотри, не ошибись, не Смоленской отслужи, а Казанской!» Спросишь такую бабу: сколько, тетушка, Богородиц? Она те и начнет высчитывать, коли усердная к церкви: Смоленская – раз, Казанская – два, Толгская – три, Нечаянная Радость – четыре, Троеручица – пять… и пошла, и пошла, вон, мол, сколько их, ну…
Тощий мужик, «декадент», кажется, не перешел еще «к настоящему разумению» и упрямо начал что-то опять свое про иконы. Пытаюсь ему говорить о безбожии детей, если их воспитывать без икон, без всякого образного представления о Боге. Ведь сразу «духовно» понять все они не могут. Не убедился, но замолк. Не убеждает его и Василий Иванович; он, вероятно, надеется, что со временем «декадент» сам войдет в его «согласие».
Нам понятно все, что говорит Василий Иванович. Понятна и разница нашего положения, среды. Мы «интеллигенты», живущие в «Питинбурхе» – боремся с окружающим нас рационализмом, скепсисом, религиозным равнодушием, их боимся, – а они, здешние ищущие, борются с темным невежеством, стоящим на месте религии. И тем удивительнее, что они не пали окончательно, не остались в «духовном» рационализме («духовное согласие» – это один из видов рационализма, конечно) – а перейдя через него – победили эту реакцию. Евангелие они понимают реально и мистически. «Декадент» начал было что-то такое об Евхаристии как о «напоминании», а не «претворении» – но тотчас же вызвал горячие речи о «тайности» того необходимого и всеизменяющего «огня», который входит в человека, огня, несомненно, «чудесного»…
– И было у них одно сердце и одна душа, – говорит Василий Иванович про древних христиан. – Воистину «единомыслием исповедимы»… Откровение Святого Иоанна тоже мы много читаем. Ибо тут мудрость. Нельзя эту книгу откинуть. Сказано: если кто хоть слово единое откинет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Беседа наша с Василием Ивановичем затянулась. Мы говорили ему все, что думали сами, чего ждем, на что надеемся. Говорили о грядущем. Он жадно расспрашивает нас, что написано обо всем этом в книгах, что думают другие «образованные» люди, к которым они далеки, а мы близки. Увы! Как было им сказать, что «образованные» люди большею частью вовсе об этом не думают, не ищут ни «правды», ни «веры», ни «любви»? А книжки? Какие книжки могли мы им посоветовать читать? «Нравоучительные» или просто «занимательные» издания «для народа»? Или Ренана? Или Толстого? Или, может быть, «Миссионерское Обозрение»? – этот темный ужас хамства и варварства?
Василий Иванович – тонкий, культурный человек в высшем смысле. Читать «Миссионерское Обозрение» – ему было бы оскорбительно, а Толстого бесполезно; Толстого как религиозного проповедника, он уже внутренно прошел и ушел дальше (отчасти и внешне; помню, он сказал вскользь: «Читали мы Толстова намеднись; не ндравится»)… Толстой же как художник не пленит Василия Ивановича: он от эстетики дальше, чем ребенок. В этой точке – у нас с ним глубокое различие, которое мы поняли не сразу. Мысли, и даже ощущения наши часто пересекаются, но пути, по которым мы пришли к ним, разнятся. И потому в цвете, в форме мысли – едва уловимая разница. Нам часто кажется, что Василию Ивановичу чего-то недостает но, Боже мой, нам столько самого нужного, недостает (не по нашей воле, может быть), чего у него много! В нем – жизненность, борьба серьезная, и жизнь – не помимо главного вопроса. И жизнь не подделанная под вопрос, а естественно сливающаяся с ним . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Случайно, во время беседы, выхожу в другую комнату. Вижу – незнакомый грустный мужик наполовину всунулся в открытое окно. Удивляюсь, – тем более, что этаж, хоть и очень низкий, но второй.
– Ты что?
– А мне послушать лестно. О вере говорят.
– Ты сам из каких?
– Мы-то? Мы плотники… И прибавил грустно:
– Из православных мы.
«Православные» здесь – или вполне равнодушны, или скучают и жаждут нового какого-нибудь движения, прочь от неподвижной полицейской и косной церковной духоты.
Долго наши «немоляи» (?!) не могли с нами расстаться. Этот разговор я считаю самым значительным и выясняющим положение дел и в настоящем и в будущем.
Наконец ушли. Солнце заходило, но ветер, дувший целый день, не лег. В многочисленные окна нашей угловой горницы видна была пустая базарная площадь с низкими серыми «рядами» вокруг, немощеная, но плотно убитая, как ток. На току неподвижно стояла одинокая лошадь без всякой упряжи, даже без уздечки, и ветер развевал ее жидкий хвост. Больше никого не было, и ничего. Глухой город, унылая земля! Казалось, тут ли быть живыми душам?
А нам страшно думать, что завтра мы уезжаем отсюда, возвращаемся в наш «центр культуры» – парадиз Петра Великого, городок Петербург.
Около девяти вечера пошли к о. Анемподисту. Сидели недолго. Тучи, грузные, иссиня-черные, завалили небо. Начиналась гроза и буря.
26 июня
Выезжаем утром в Н., в нашем «ковчеге».
Нас пришел проводить о. Анемподист с матушкой, принесли С-ских баранок на дорогу. Светило солнце, какое-то мокрое после ночной грозы, то и дело набегали и пробегали тучи. Было душно.
По дороге мы еще хотели заехать взглянуть на могилу о. Софонтия. Она в глубоком лесу. Раз в год староверы ходят туда на поклонение. А то и в одиночку ходят, по обету. Очень чтится батюшка Софонтий.
Верстах в семи от С, при лесной дороге, у края – «часовенка» (столбик с иконкой). От нее вьется вглубь частого, сырого елового леса чуть видная тропа.
Покинули на дороге «ковчег» наш и ямщика, – идем. Лес темный, душистый, еловые ветви, как лапы, тянутся поперек тропы, низко. Долго шли, все лес. Тихо так. Вот мостик и полянка, вся в длинных лиловых цветах. Рву их по дороге, смешивая с красной гвоздикой, яркой (лиловые цветы – бледные).
Мой спутник торопится:
– Скорее! Вон и ограда.
За полянкой – серый забор, кольями. Калиточка, тщательно припертая. Вошли. Высокие деревья и могилки. Посредине – избушка без окон, с широкою дверью, запертою, – могила старца. Отперли двери, вошли.
Много икон; место фоба, как везде, огорожено деревянной решеткой. Чисто, лавки кругом. Ладан в шаечке, свечи, выцветшие подушечки для «метаний». Тишина, глушь лесная. Постояли мы, гривеннички положили, – в головах пристроено место, где стоят иконы и свечи, – пошли. На калитке старая надпись печатными буквами, большая: «Б-ы-ли гре-шные Никита…» – дальше не разобрать.
Парило, солнце так и падало на плечи. Прошли мимо колодезя, который своими руками выкопал Софонтий. Здесь он спасался, здесь же и принял вольную кончину ради веры – сжег себя в срубе.
Отойдя несколько саженей – вспоминаю о своем лилово-красном букете. Надо было оставить на могиле. Ведь это его цветы, с его поляны. Спутник мой уже далеко, но я возвращаюсь. С трудом отмыкаю калитку, потом тяжелые двери могилы. Цветам хорошо в прохладной мгле, около темной иконы Богоматери.
А мне было страшно. Солнце опаляющее, глухая тишина яркого полдня, странная могила, – и тишина; главное – она. Тот неподвижный, блистающий час, когда одинокого человека тишина зовет по имени…
Быстро дошли назад, поехали. Надвигался Дождь. Полил. Потом опять стало ясно и жарко – надолго. И снова дождь. И снова солнце.
К вечеру приехали в Н. Воды, воды! Тут только мы поняли, как нам хочется мыться. В С, несмотря на все усилия, мы не могли достичь, чтобы купили глиняный таз на базаре. Михаил поливал нам из ковша над ведром!
Гостиница «Россия» (на этот раз мы остановились наверху, в Кремле) – «культурна» и дорога.