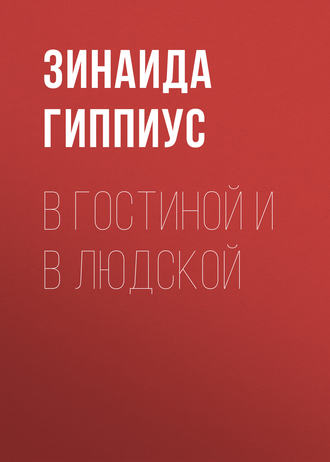
Зинаида Гиппиус
В гостиной и в людской
– Отчего же Агаша хочет уйти? – спросила Лидия Ивановна.
– С Борей сладу нет. Восемь лет мальчику, а такой озорник, щиплется, дерется. Никакая горничная жить не будет.
– Чего ж мать смотрит?
– А ей что? Ей лишь бы с графом. Тоже – и дела господские! А прислугу – рады укорять.
Лидия Ивановна мало-помалу, вяло и туго, но все-таки заинтересовалась разговором.
Лиза охотно, даже с оттенком хвастливости, рассказывала, как сильно влюблен в нее прежний Агашин жених, унтер-офицер Корвин, какие приносит апельсины и какие пишет письма. Она описывала это вперемежку с известиями о новом фасоне платья, которое она отдавала шить, и о досаде и злобе Агаши-толстой.
Лидия Ивановна почувствовала что-то похожее на зависть. Окна гостиной выходили на север, и с бледно-зеленого мартовского неба лился грустный, отраженный свет. Сейчас Лиза уйдет, и бедная Лидия Ивановна останется одна в этих тусклых комнатах, убранных на восточный лад, без всяких забот и горестей, но и без всякой надежды. Даже Петра Петровича нет. – Ну, а если он и придет? Какую новую радость даст ей этот молчаливый, домашний, известный, аккуратный человек?
А кухня, куда пойдет Лиза печь пироги, выходит на солнце, и верно там теперь на полу лежит светлый, вытянутый четырехугольник, и кошка греется на солнышке, а нежный Корвин собирается читать Лизе новые стихи…
Позвонили. В одно мгновение Лидия Ивановна преобразилась. У нее стало другое лицо. Только бы не муж! Все равно кто, новый живой человек, письмо… Письмо нужно прочесть, на письмо, пожалуй, можно ответить…
В голове ее даже пронеслась смутная и нелепая мысль: а вдруг это тот офицер, который ухаживал за ней в прошлом году? Если Петр Петрович бывает в ложе у Губинской, так… Но это оказалось письмо от знакомой коротконосой курсистки, приглашение на вечер.
Лидия Ивановна улыбнулась чему-то и с непривычным прилежанием мысли стала обдумывать, что она наденет на вечер.
III
Лиза между тем вернулась к своим пирогам.
В кухню действительно светили желтые веселые лучи. Агаша-маленькая, бойкая девочка с розовым лицом и уже нечистыми глазами, лениво гладила на столе какое-то кружево и все посматривала в сторону.
Мать, отпуская Агашу с господами в Петербург, уверяла, что она – девочка способная, живо по-городскому выучится. И Агаша, точно, оказалась необыкновенно способной.
Через два-три месяца она поняла, что следует во всем как можно усерднее подражать господам, а самих господ – где только можно – надувать, потому что чем больше и ловче надуешь, тем слаще поешь. Она ухитрялась покупать ветчины меньше фунта на две копейки – а две копейки прятала в уголок, в дырочку. А накопив гривенник – ехала с торжеством кататься на извозчике. Вскоре она не замедлила влюбиться в какого-то лупоглазого и невинного кадета, приезжавшего на праздник к старой барыне в первом этаже.
Из скромности кадет всегда ходил по черной лестнице. Агаша стала ему назначать свиданья на дворе у конюшен, в сумерки; приносила ему апельсины, конфеты, даже пастилу и варенье из господского буфета. Кадет любил сладкое и пожирал принесенное с молчаливой алчностью.
И маленькая Агаша гордо рассказывала, что у нее есть «кавалер». Она думала, что первый петербургский стыд – не иметь кавалера.
За столом, у окна, далеко от плиты (кухня была просторная) сидела пожилая, полная дама в шляпке, чиновница Анна Маврикиевна. Подле нее толпилась часть ее семейства: Зойка, Олька, Лелька и Сонька. Одинаковые, малорослые девочки с хитрыми глазами вели себя не по летам сдержанно. Зойка, на вид лет двенадцати, имела решительно гордый вид. Они все давно помогали отцу и матери. Зимой на праздниках танцевали в Манеже, а все лето – в Зоологическом. В Манеже за день хорошо платили, в Зоологическом хуже, да и мазаться много приходилось, потому что девочек выпускали в виде негритят.
Анна Маврикиевна пила кофе и рассуждала о чем-то с Корвиным.
Без шинели и шапки Лаврентий Корвин был гораздо хуже. Бритые по-солдатски волосы чуть отливали бледным золотом. Узенький, маленький, тоненький, с немного кривыми ногами и смазливым лицом – он почти казался мальчиком. И в лице его было что-то детское, преданное, упрямое и беспомощное. Глуповатая задорливость у него быстро сменялась жалобным и покорным выражением губ. Он словно не знал, может ли сбыться, чего он хочет – и даже не знал, чего он хочет.
Беспрестанно желая быть небрежно молодцоватым, он поправлял пояс книзу и выдвигал грудь.
Лиза с шумом переставляла сковороды и делала вид, что – зла.
Не смущаясь присутствием Анны Маврикиевны, Корвин возобновил прерванное объяснение.
– Позвольте вас спросить окончательно, Лизавета Максимовна, решаетесь вы ехать в Гатчину на маскарад или же нет?
– Сказала я тебе – отвяжись. Мое дело! Хочу и поеду.
– Увидим это, как вы поеде!
– А не угодно ли на лестницу? Поди, подежурь там, поплачь за дверью, а то к Агаше-толстой постучись. В маскарад, знаешь, кто меня приглашал? Знаешь? Он человек свободный, не солдат, и со средствами. Захочу – завтра повенчаюсь.
– И мы не век солдатами будем. Через год и с нами венчаться можно.
– Слыхала я это.
Дверь отворилась и вошла Агаша-толстая. Днем она была не так свежа; с осени она похудела, особенно лицом; неловко сшитое ситцевое платье не красило ее.
Она мельком взглянула на Корвина и отвела глаза.
– А, гости дорогие! – приветствовала ее Лиза не без иронии. – Откуда с покупками?
– Из суровской, по дороге забежала, – ответила Агаша, пришепетывая. – Вчера я мать в больницу свезла, – прибавила она без выражения особой печали, как будто речь шла о серьезном, но обыденном деле.
Мать была у Агаши строгая, даже суровая старуха, прежней веры. Дочь любила ее, и не то что боялась, а просто привыкла без размышления и прекословия не преступать ее малейших желаний, как если б физически это было невозможно. Мать никогда не позволила бы Агаше выйти не за старовера.
Корвин знал Агашину мать. Она была из-под Москвы, оттуда же, где жили и его родители.
– Что так, в больницу? – сказал он, немного цедя слова. – Но не очень больны?
– Не то что больны, – возразила Агаша скромно и тихо, – а ведь стары они, так умирать собрались.
На Корвина этот простой ответ не произвел особенного действия, но Лиза и Анна Маврикиевна сочли долгом всплеснуть руками.
– Как так умирать? – воскликнула Лиза. – Почему же ты знаешь?
– Да они сами сказали. Человек, конечно, старый. Вот велели мне купить полотна, розовых лент да кружев, за работу засяду.
– Что это?
– А саван. Они мне велели при себе скроить, а прошивочки куда вшить – они покажут. Они такие аккуратные.
И опять в голосе Агаши была серьезность, когда она говорила о таком простом, неизбежном деле.
Анна Маврикиевна и Лиза не могли выразить словами, что их, собственно, удивляет в поведении Агаши, и потому сочли лучшим промолчать. Одна Агаша-маленькая задумчиво произнесла:
– Матка помирает, а она не боится… И не воет…
Но сейчас же забеспокоилась, не есть ли это петербургский обычай, которого она, по-своему деревенскому необразованию, еще не знает.
– Чего реветь-то? – сказала наставительно Агаша-толстая. – Еще наревусь. А пока они живы – надо их волю исполнять. Они же человек старый.
Рассуждения эти прервала Лиза.
– А и богачка ты будешь, Агаша! У матери наверно рублей четыреста есть, да шуба лисья.
– Уж это, конечно, мне все откажут, – произнесла Агаша, помолчав. – Ну, прощайте, мне надо за работу, – некогда.
Она поклонилась, грустно взглянула на Корвина и вышла.
– Вот теперь тебе дело ясное, – сказала Анна Маврикиевна, обращаясь к Корвину. – Попроси у Агаши взаймы для брата шестьдесят рублей. Вот и выручишь брата.
Брат Корвина служил где-то конторщиком, проиграл много на скачках (он имел эту «господскую» страсть) и теперь должен был потерять место. Брата следовало выручить, потому что, прослышав худое, отец мог приехать из-под Москвы, а этого и унтер-офицер Корвин боялся как огня.
– Может быть, я себя так низко не поставлю, чтобы у Агашки денег просить, – сказал Корвин.
– Да ведь ты женишься на ней! – подхватила Лиза. – И женись пожалуйста… Разбогатеешь…
Когда ушла Анна Маврикиевна с чадами, между Лизой и Корвиным началось настоящее объяснение. Агаша-маленькая насторожила уши.
Лиза говорила презрительно. Корвин плакал и клялся, что он любит ее необыкновенно и вечно, и что она его погубит. Плакал Корвин в очень частых случаях; это происходило от его девического характера; он быстро, при малейшем препятствии, отчаивался во всем, и тогда мог только упрямо и горько плакать, стоя на одной точке, не уступая и не идя вперед.
Лиза держала себя независимо, но это была напрасная гордость. Давно, увы, смазливое личико и вежливое обращение Корвина победили ее сердце. Еще на Рождестве, когда господа уезжали в Москву, а шустрая Агашка с восьми часов вечера уходила в комнаты наслаждаться сном на господских кроватях, – еще тогда Корвин засиживался у Лизы слишком поздно, и она верила его вечной любви – почти такой же вечной, какою любил свою жену добродетельный чиновник в романе «Петербургские трущобы». Корвин и принес Лизе эту книгу.
Теперь Лиза, несмотря на всю свою гордость, прекрасно сознавала, что без беды не обойдешься, – и злилась не в меру.
В разгар их объяснения на черной лестнице раздался хриплый визг и брань, сопровождаемые лаем собак.
Любопытная Агаша кубарем выкатилась за дверь. Не устояла и Лиза, пошла взглянуть, что случилось.
Этажом ниже, там, где в двух соединенных квартирах жил известное светило – профессор Агренев – дебелая, трепаная супруга профессора (и даже не супруга) собственноручно изгоняла горничную, сопровождая изгнание такой выразительной и пронзительной бранью, не стесняясь употреблением никаких слов, что будто ветром открылись двери всех квартир, и любопытные лица выглянули на площадку. Верхние кухарки даже спустились пониже, чтобы не проронить ни единого слова.
Изгоняемая горничная не оставалась в долгу, и это-то было интереснее всего. Она подробно исчисляла все тайные и нетайные грустные подробности жизни своих господ – и голос энергичной подруги профессора не мог заглушить голоса истины.
– И не нужно мне, не нужно твоего жалованья! – причитала горничная. – Срамись на лестнице сколько хочешь, а я без того не уйду, чтобы тебе не высказать. Не место у тебя, а каторга… Пусть к тебе порядочная прислуга пойдет! От тебя ругня, от барина щипки… Хорош тоже и барин! Настоящую жену прогнал. Не молоденький, а небось никого не пропустит… Одну дочь бьют, другую не бьют, не узнать – которы его дети, которы – ее… Господа тоже, ученые! Похуже нас грешных! А прислугу еще укоряют! Вот мы, глядя на них, тоже по-ученому будем, авось умнее станем…
Профессорша на эти рассуждения отвечала целым потоком отборных слов. Но, несмотря на ее обширный лексикон, сочувствие публики осталось на стороне горничной.
И, расходясь по своим этажам, многие задумчиво повторяли:
– Да… Так-то… Господа… А еще прислугу укоряют…
IV
У людей, даже самых исполнительных, твердых и разумных, есть слабости. Были слабости у непоколебимого, аккуратного Петра Петровича.
Не боялся он ни характера жены своей, ни даже ее тетеньки, – тем более, что известный капитал выдан был в день свадьбы жениху на руки, – не боялся ни начальства, ни риска в служебных делах; а между тем стоило ему заметить, что в комнате три огня, или тринадцать за столом, или что-нибудь в этом роде – и ему становилось не по себе, тоскливо, томно и скучно. Один раз он не пошел на службу потому, что едва он отворил двери подъезда – как через дорогу промчалась черная кошка.
Лиза привыкла, что господа ничему не верят; ей странно было видеть такое свойство в барине; однако она ему сочувствовала, потому что сама непоколебимо верила дурным предзнаменованиям.
Временами, особенно после столкновений Лизы с барином, дом наполнялся самыми зловещими приметами: зеркало трескалось, ножи складывались крестом, часы останавливались. Лиза приходила и докладывала, что в бариновой комнате под постелью мыши завелись. Барин бледнел, а Лиза прибавляла:
– Не к добру это. Выживают.
И Петр Петрович часто пережаренную телятину находил прекрасной, только бы Лиза, омраченная выговором, не отыскала нового дурного предсказания.
Лидия Ивановна с удобством пользовалась этой слабостью супруга.
– Знаешь, – говорила она, – я видела сегодня во сне, что ты идешь по озеру, а вода под тобою черная-черная.
Петру Петровичу начинало казаться, что у него уже давно болит голова. Он оставался дома, жена ехала на «журфикс» – и оттуда ее провожал Перлов.
Перлов был тот самый офицер, который начал ухаживать за нею в прошлом году. Лидия Ивановна находила, что она сделала неумно, когда послушалась тетки и лишила себя единственного возможного развлечения. Пробуя новую забаву – кокетство с офицером, она гораздо меньше скучала. И подумать, что она боялась за свою репутацию! Это надо быть такой институткой, как она. Все делают так, и никто не теряет своей репутации. Конечно, надо, чтобы он себе не позволял… Петр Петрович может быть вполне спокоен…
Петр Петрович и не беспокоился. Он даже высказывал удовольствие, видя жену менее вялой.
На Пасху приехала тетка. Она поселилась в будуаре Лидии Ивановны, и там сейчас же стало пахнуть, как пахнет из старых шкатулок с письмами и высохшими цветами.
Лиза в душе злилась и ужасалась, а наружно всячески прислуживала, ходила на цыпочках и говорила шепотом.
Корвин исчез из кухни, свиданья происходили только на лестнице. Агаша-маленькая стащила как раз перед этим громадный кусок пастилы для своего кадета и так испугалась важной тетеньки, что немедленно положила пастилу на прежнее место в целости, хотя явно помятую пальцами.
Тетенька увидала сразу перемену в своей возлюбленной племяннице и поняла также – она была умная женщина, – что время беспрекословного повиновения прошло – Лидия Ивановна выросла. Тетка подумала, погадала, разложила пасьянс, с нескрываемым презрением посмотрела на Петра Петровича, которого всегда считала ничтожеством, и кончила тем, что уговорила Лидию Ивановну приехать к ней в деревню на все лето. А чтобы племянница не скучала, она пригласила еще двух кузин, нескольких приличных молодых людей, в том числе и «красавчика» Перлова. Это название шло Пер-лову: он был так красив, что никому не приходил в голову вопрос – умен ли он. Глядя на его розовое лицо, всякий невольно жалел, что он не герой чувствительного романа, а лишь капитан какого-то полка.
Петр Петрович, занятый службой, не мог уехать далее Парголова. Он, впрочем, не казался огорченным и жену отпустил без возражений.
Лидия Ивановна сшила себе несколько нарядных батистовых платьев и засыпала каждый вечер в радостном нетерпении.
Скуки не было. Наконец-то она узнала, какое естественное занятие молодых дам! Это так просто! И не надо скучных вопросов: для чего? что выйдет? Время существует для того, чтобы его весело проводить. А до всего остального – какое дело!







