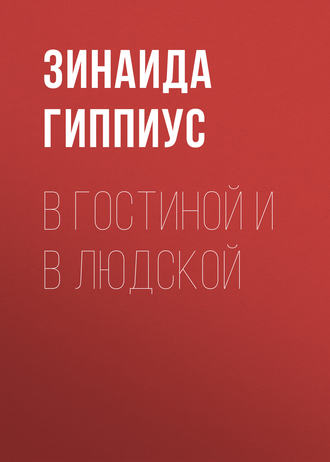
Зинаида Гиппиус
В гостиной и в людской
VII
Скоро все вошло в свою колею. Лиза по-прежнему жарила бифштексы, не ладила с барином и бранила Корвина, который бывал чаще прежнего, с соизволения господ и на правах жениха Лизы.
Но бедный ребенок Лизы не находил себе пристанища. Отдали было его к одной прачке за шесть рублей в месяц, брусок мыла и фунт кофе; но у прачки, во-первых, не было своего грудного, а потому и молока; во-вторых же, прачка жила в мокром подвале и ее собственные дети были так бледны, что когда они поднимались на улицу, казалось, что они поднялись из могилы.
Анна Маврикиевна, которая пока сама кормила Витю, говорила, что любит его не меньше собственного сына.
И один раз вечером Лиза, вся в слезах, попросила барыню на кухню.
В углу, прижавшись, сидел неизбежный Лаврентий Корвин. Посередине кухни стояла Анна Маврикиевна в волнении.
– Вот, барыня, – сказала Лиза, – Анна Маврикиевна решается Витьку совсем к себе взять. Восемь рублей, чай, сахар, еще там кое-что… Восемь рублей! А что ж у меня-то из десяти отанется?
Лаврентий поник головою, сознавая свою вину.
– Неужели же тебе для своего ребенка жаль? – произнесла Анна Маврикиевна. – Подумай, ведь за ним уход будет! А тебе что нужно? Ты сыта, одета…
Лидия Ивановна слушала нетерпеливо. Ее ждали гости.
– Конечно, Лиза, отдайте! – торопливо сказала она. – Что деньги! Лишь бы мальчику было хорошо.
Лиза начала громко реветь и причитать. Корвин отвернулся к окну. Но судьба Вити была решена: он поступил на попечение Анны Маврикиевны или, точнее, Зойки, Ольки, Лельки и Соньки.
– Ты не беспокойся, пожалуйста, о деньгах! – говорил Корвин Лизе, прощаясь с ней на лестнице. – Я жив буду, я тебе достану. Я – ты знаешь – как Витьку люблю. Ты, пожалуйста, не беспокойся.
– Да откуда у тебя, когда ты сам есть солдат нищий! У Агаши-толстой разве возьмешь…
Сердце у Корвина упало. Неужели ей сказали? Ему мерещилось всегда во всем худшее. Теперь он Агашу давно не видел и даже не знал, что с ней.
– Она опять в нашем доме живет, – добавила Лиза. – У одинокого барина, не по нашей лестнице. Увидитесь, Бог даст.
– Нечего про Агашу, – сказал Корвин, повертывая разговор. – А ты зачем из Гатчины письма получаешь? Я, ты знаешь, какой, я за скандалами не гонюсь, а все-таки поберегись лучше, коли я что узнаю…
– Вот еще козырь! Испугались тебя! Убирайся-ка, солдат, подобру-поздорову, мало я из-за тебя горя натерпелась, убирайся! – Внезапно вспыхнув, Лиза кричала громко. Кто-то уже отворил дверь на площадку. Лиза убежала в кухню, загремел тяжелый крюк. Лаврентий покорно уселся на каменную ступеньку лестницы. Он решился просидеть хоть всю ночь, а уж выпросить у Лизы прощенье.
Пробило только одиннадцать часов. У барыни были гости. То есть, собственно, не гости, а один гость – офицер. Барин сидел запершись у себя в кабинете, занимался. Агаша-маленькая, почуяв любопытное, бегала туда и сюда в своих войлочных туфлях. Несколько раз она как сумасшедшая врывалась в кухню, падала ничком на кровать и душила себя подушкой, чтобы не слышно было, как она хохочет. Наконец не утерпела и Лиза и тоже пошла послушать у портьер, что такое говорит барыня со своим офицером.
В комнате было почти темно. Лампа с длинным малиновым абажуром неясно освещала фигуру красавчика Перлова, развалившегося на оттоманке, и Лидию Ивановну, взволнованную, бегающую по комнате в черном платье со шлейфом.
– Хорошо, но я не понимаю, зачем кричать? – лениво говорил Перлов. – Не спорю с вами, Петр Петрович – лучший и удобнейший из мужей, но все-таки, при вашей несдержанности, если он услышит, мы будем в неловком положении.
– Вы стали бояться Петра Петровича? – с досадой воскликнула Лидия Ивановна. – Кажется, он имел бы случай доказать свою проницательность, если бы только она у него была. Бросьте ненужные фразы. Я требую прямого ответа: вы меня больше не любите?
Давно Лидии Ивановне присмотрелось красивое лицо Перлова. А других достоинств он не проявил. И давно не было в нем ни новизны, ни интереса: он стал для Лидии Ивановны привычным и обыкновенным, как Петр Петрович, даже хуже Петра Петровича, потому что здесь требовалась надоевшая тайна, порой хлопоты… Все чаще и чаще прежняя, томительная скука посещала Лидию Ивановну.
Недавно она познакомилась с чиновником особых поручений; он был толстенький, черноглазый и славно читал Лермонтова. И Лидии Ивановне пришло в голову, что хорошо бы затеять новую историю с совсем новым человеком… Не все же похожи на Перлова и Петра Петровича… Может быть, новый человек и развлечет ее…
Между тем с Перловым она никак не могла порвать. Она писала ему записочки, делала сцены… Ей хотелось, чтобы какая-нибудь внешняя сила заставила их расстаться, помимо нее. А мысль, что он ее бросит, приводила ее в негодование и ужас. Это было бы унижением! И, боясь такого случая, она спрашивала беспрестанно:
– Ведь вы меня любите? Любите?
И Перлову надоела эта худая, смуглая, беспокойная женщина. Но воображая, что она его любит, он малодушно отдалял день за днем сцены и хлопоты разрыва.
– Любите или нет? Говорите, говорите! – настаивала Лидия Ивановна, топая ногой.
– Бог мой, нельзя вечно повторять одно и то же! У вас нервы расстроены, я тут, право, не виноват…
– Не любите вы меня! – закричала Лидия Ивановна и залилась потоком злых слез.
Портьера двинулась. В столовой раздались шаги Петра Петровича и шум накрахмаленного платья убегающей Агаш-ки.
Напрасно Перлов старался унять Лидию Ивановну. Ее рыдания готовы были перейти в истерические вопли. При этом она говорила что-то, вероятно, обычные речи разозлившейся и капризной женщины. Перлов сидел как на иголках. Наконец встал, сказал, что придет завтра, что все будет хорошо, что он ей напишет, – или она ему напишет, – он сам не помнил, чем он ее утешал, – и потом скоро и трусливо юркнул в переднюю, надел пальто, избегая помощи Агаши, и бросился вниз по торжественной парадной лестнице, где на дверях сияли дощечки с надписями, полными достоинства, а внизу ждал серьезный и молчаливый швейцар.
Петр Петрович услыхал стук двери и догадался, что гостя нет. Он переждал минуту и отправился к жене.
Лидия Ивановна сидела у камина и хотя уже не кричала, однако всхлипывала.
Петр Петрович запер все двери, приблизился и произнес тихо и твердо:
– Чтобы ничего подобного никогда больше в моем доме не было. Понятно? И чтобы я этого господина у тебя больше не видел. Я долго молчал, но ты не остановилась перед скандалом, а скандалов я не потерплю, хотя бы запереть тебя пришлось. Помни.
Сказав это, он вышел. Лидия Ивановна сразу притихла. Она опомниться не могла от удивления. Как, этот ничтожный Петр Петрович, суеверный, мягкий… Откуда у него такой тон? Не запрет же он ее в самом деле!.. Но Перлова, действительно, принимать больше нельзя… Тут Лидия Ивановна почувствовала радость, что, благодаря случаю, узел, связывавший ее с Перловым, отлично развязан. Да, но чиновник особых поручений? Придется выдумать что-нибудь. Это даже веселее – быть настороже. Она чересчур мало внимания обращала на Петра Петровича. Он все-таки муж.
И Лидия с интересом погрузилась в обдумывание способов обмана Петра Петровича в пользу чиновника особых поручений.
В кухне Лиза отворила дверь и впустила беспомощно-упрямого Корвина. Лиза чувствовала себя глубоко правой.
«Если сами господа так скандалят, кто меня смеет осудить?» – думала она гордо.
VIII
Маленькую квартиру в первом этаже занимал одинокий барин. Квартира эта выходила на ту же самую парадную лестницу, где жила и Лидия Ивановна с мужем, и Фомина, и важный профессор Агренев, но черный ход был другой. Поэтому Агаша-толстая, перейдя от Фоминой к одинокому барину, не могла проследить, часто ли Корвин бывает у Лизы. Она знала только, что бывает, а у нее, у Агаши – никогда.
Одинокий барин служил, имел хорошее содержание и любил ростбиф с кровью. По праздникам к нему приходила молоденькая, скромная барышня, Катенька; она жила где-то в гувернантках, отлучаться могла редко, а на барина смотрела с благоговением.
Агаша жарила ростбиф, чинила белье, но мысли ее были заняты иным. И вот, один раз, когда барин ушел в должность, она взяла большой платок, накинула его на голову и побежала на Моховую.
Агаша отправилась к гадалке. Одна гадалка – Агаша знала – жила на Песках; но та больше о пропажах говорила; эта, с Моховой, имела другую специальность.
День был туманный. Несмотря на конец ноября, санный путь еще не установился. С неба даже не падала, а оседала какая-то полузамерзшая сырость. Агаша вошла во внутренний двор высокого, грязного дома. Помои, мутная вода образовали выпуклую ледяную кору на всем пространстве двора; теперь этот лед слегка оттаивал сверху, будто потел, и становился еще грязнее.
Агаша спросила у какого-то мальчишки квартиру номер 17. Мальчишка ткнул пальцем в самую дальнюю дверь.
Лестница была совершенно как всякая другая дрянная черная лестница. Но на самом верху, где помещалась квартира 17, приходилось еще идти долгое время пустым, совершенно темным коридором. Агаша нащупала дверь и потянула ее. Дверь отворилась.
В кухне, куда вошла Агаша, было необыкновенно черно. Стены, потолок, плиту – все покрывал черновато-серый, древний налет не то пыли, не то копоти. В окошко с непромытыми стеклами попадало немного свету.
На плите шипел кофейник, очень большой. Пахло пронзительно и застарело кореньями сельдерея, которые кладут в очень жидкий суп. В углу возилась старая, остроносая женщина.
– Кого тебе? – неприветливо обратилась она к Агаше.
– Раиса Ниловна здесь живет?
– По делу, что ль?
– По делу…
– Дождись. Занята. Вон еще ждут.
У окна сидела на стуле фигура, закутанная, как и Агаша, в платок.
Агаша взглянула, и женщина в платке показалась ей знакомой. Она подошла ближе и узнала подругу, Дуню, жившую в горничных.
Дуня выставила свою бледную мышиную мордочку из-под платка и немедленно стала шепотом сообщать Агаше, зачем она пришла к Раисе Ниловне.
Дуня в два года переменила мест десять, благодаря своей страсти к познанию будущего. Сколько бы жалованья она ни получала, все оно целиком уходило на гадалок. Она хотела знать малейшие подробности того, что с ней случится, и не из каких-нибудь практических целей, а просто из непобедимой любознательности. Она побывала, кажется, у всех гадалок, все говорили ей разное, но она ухитрялась всем верить.
– Ах, Агаша, как эта хорошо говорит! – шептала она, захлебываясь от восторга. – Я уж у нее третий раз. Ты зачем? О Лаврентии своем гадать, это что в Лизку влюблен? Погадай, погадай, она все может. Увидишь. Мне сказала очень верно: будешь ты жить против церковного дома. На другой же день пошла на место – глядь – против церковного дома! Потом говорит: в пятницу опасайся врага. Я и думаю: какой такой враг? А только смотрю – приходит ко мне в пятницу кум Саша и начинает…
Но рассказ Дуни был прерван стуком отворившейся двери. Вышла дама, чрезвычайно пышно одетая, похожая на молодую купеческую жену, в синей бархатной ротонде и белом шелковом платке на голове. Пряча лицо в мех ротонды, она торопливо прошла на лестницу.
Позвали Дуню. Она пробыла недолго и вылетела сияющая. У Агаши с непривычки билось сердце.
Старуха указала ей на дверь, которую и затворила за нею плотно.
Комната была такая же черная, как кухня. В самом углу направо Агаша увидала окно, у окна небольшой стол, а за столом женщину в темном ситцевом платье.
В комнате был беспорядок, валялись какие-то тряпки, ворох неглаженого белья лежал на комоде. Под стулом хрипел мопс, весьма добродушный на вид.
– Здравствуй, голубушка! – сказала женщина. – Подойди ближе, не бойся.
Раиса Ниловна была женщина не старая и не молодая, с полным, бледным лицом, очень добрым и привлекательным. Черные волосы, почти без проседи, она зачесывала гладко, по-старушечьи. В глазах у нее была печальная серьезность и сосредоточенное, почти благоговейное выражение.
– Ты погадать пришла, милая? – приветливо сказала Раиса Ниловна. – Я сейчас раскину карты. Пятьдесят копеект стоит.
Агаша заторопилась, вынула из кошелька пятьдесят копеек и положила на стол.
Раиса Ниловна не торопясь спрятала деньги, не торопясь взяла с окна старенькие карты и разложила их.
Долго смотрела она то на Агашу, то на карты и молчала. Лицо ее становилось все серьезнее.
– Вижу, о чем гадать хочешь, – произнесла она наконец. – Это все правда, он тебя не любит, а любит девушку, что живет от тебя близко. У них ребенок есть. Та девушка ему мила, и он даже имеет намерение на ней впоследствии жениться, а только не женится…
– Не женится? – воскликнула Агаша.
– Вижу его женатым, да не знаю, на ком… Вряд ли на ней… Может, и на тебе… Да, – прибавила она, – все может быть, коли умно себя вести…
И Раиса Ниловна смешала карты.
– Вот что я тебе скажу, девушка. Слушай меня хорошенько. Хочешь, чтоб он полюбил тебя, – это можно. Сказать, что ли?
– Скажите, пожалуйста! – выговорила Агаша, готовая заплакать от волнения.
– Только исполняй свято. Сходи на кладбище, возьми с семи могил земли и тихонько ему куда-нибудь положи, чтобы он не видел, а всегда при себе носил. Потом дам я тебе кусочек сахару. Ты этот сахар положи ему либо в кофей, либо в чай. Он к тебе на восьмой день придет. А если в холодное положишь, в пиво там, что ли, так на пятый день придет, потому что сила с паром не выйдет. Но только от этого он, все равно, через семь лет должен умереть. Хочешь – решайся, не хочешь – как хочешь.
– Нет, уж дайте сахар-то! – просила Агаша, заливаясь слезами.
Раиса Ниловна вышла и через минуту вернулась с кусочком сахару, пожелтевшим и пыльным. Она дала его Агаше и повторила свои наставления. Лицо у нее по-прежнему было искреннее и торжественное.
В кухне уже дожидался сиделец из лавки и старая баба со злым лицом.
Агашу опять охватил запах сельдерея, потом, в коридоре, беспросветный мрак – и наконец она, заплаканная, но верящая и утешенная, вышла на ледяной двор. По-прежнему мокрые, гутые волны тумана двигались между небом и землею, по-прежнему стучали дрожки по мостовой и под воротами бранились дворники. Но у Агаши теперь была надежда.







