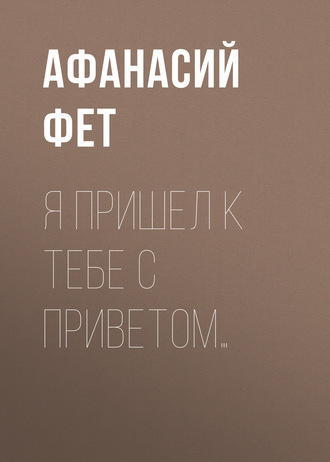
Афанасий Фет
Я пришел к тебе с приветом…
«Барашков буря шлет своих…»
Барашков буря шлет своих,
Барашков белых в море,
Рядами ветер гонит их
И хлещет на просторе.
Малютка, хоть твоя б одна
Ладья спастись успела,
Пока всей хляби глубина,
Чернея, не вскипела!
Как жаль тебя! Но об одном
Подумать так обидно,
Что вот за мглою и дождем
Тебя не станет видно.
26 августа 1892
Из разделов «Баллады» и «Антологические стихотворения»
Змей
Чуть вечернею росою
Осыпается трава,
Чешет косу, моет шею
Чернобровая вдова
И не сводит у окошка
С неба темного очей,
И летит, свиваясь в кольца,
В ярких искрах длинный змей.
И шумит все ближе, ближе,
И над вдовьиным двором,
Над соломенною крышей,
Рассыпается огнем.
И окно тотчас затворит
Чернобровая вдова;
Только слышатся в светлице
Поцелуи да слова.
<1847>
Лихорадка
«Няня, что-то все не сладко!
Дай-ка сахар мне да ром.
Все как будто лихорадка,
Точно холоден наш дом».
– «Ах, родимый, бог с тобою:
Подойти нельзя к печам!
При себе всегда закрою,
Топим жарко – знаешь сам».
– «Ты бы шторку опустила…
Дай-ка книгу… Не хочу…
Ты намедни говорила,
Лихорадка… я шучу…»
– «Что за шутки спозаранок!
Уж поверь моим словам:
Сестры, девять лихоманок,
Часто ходят по ночам.
Вишь, нелегкая их носит
Сонных в губы целовать!
Всякой болести напросит,
И пойдет тебя трепать».
– «Верю, няня!.. Нет ли шубы?
Хоть всего не помню сна,
Целовала крепко в губы —
Лихорадка ли она?»
<1847>
Геро и Леандр
Бледен лик твой, бледен, дева!
Средь упругих волн напева
Я люблю твой бледный лик.
Под окном на всем просторе
Только море – только в море
Волн кочующих родник.
Тихо. Море голубое
Взору жадному в покое
Каждый луч передает.
Что ж там в море – чья победа?
Иль в зыбях, вторая Леда,
Лебедь-бог к тебе плывет?
Не бессмертный, не бессонный,
Нет, то юноша влюбленный
Проложил отважный путь,
И, полна огнем желаний,
Волны взмахом крепкой длани
Молодая режет грудь.
Меркнет день; из крайней тучи
Вдоль пучины ветр летучий
Направляет шаткий бег,
И под молнией багровой
Страшный вал белоголовый
С ревом прыгает на брег.
Где ж он, Геро? С бездной споря
Удушающего моря,
На свиданье он спешит!
Хоть бесстрастен, хоть безгласен,
Но по-прежнему прекрасен,
Он у ног твоих лежит.
Бледен лик твой, бледен, дева!
Средь упругих волн напева
Я люблю твой бледный лик.
Под окном на всем просторе
Только море – только в море
Волн кочующий родник.
<1847>
Тайна
Почти ребенком я была…
Все любовались мной;
Мне шли и кудри по плечам,
И фартучек цветной.
Любила мать смотреть, как я
Молилась поутру,
Любила слушать, если я
Певала ввечеру.
Чужой однажды посетил
Наш тихий уголок;
Он был так нежен и умен,
Так строен и высок.
Он часто в очи мне глядел
И тихо руку жал
И тайно глаз мой голубой
И кудри целовал…
И, помню, стало мне вокруг
При нем все так светло,
И стало мутно в голове
И на́ сердце тепло.
Летели дни… промчался год…
Настал последний час —
Ему шепнула что-то мать,
И он оставил нас.
И долго-долго мне пришлось
И плакать, и грустить,
Но я боялася о нем
Кого-нибудь спросить.
Однажды вижу: милый гость,
Припав к устам моим,
Мне говорит: «Не бойся, друг,
Я для других незрим».
И с этих пор – он снова мой,
В объятиях моих,
И страстно, крепко он меня
Целует при других.
Все говорят, что яркий цвет
Ланит моих – больной.
Им не узнать, как жарко их
Целует милый мой!
<1842>
Легенда
Вдоль по берегу полями
Едет сын княжой;
Сорок отроков верхами
Следуют толпой.
Странен лик его суровый,
Все кругом молчит,
И подкова лишь с подковой
Часто говорит.
«Разгуляйся в поле», – сыну
Говорит старик.
Знать, сыновнюю кручину
Старый взор проник.
С золотыми стременами
Княжий аргамак;
Шемаханскими шелками
Вышит весь чепрак.
Но, печален в поле чистом,
Князь себе не рад
И не кличет громким свистом
Кречетов назад.
Он давно душою жаркой
В перегаре сил
Всю неволю жизни яркой
Втайне отлюбил.
Полюбить успев вериги
Молодой тоски,
Переписывает книги,
Пишет кондаки.
И не раз, в минуты битвы
С жизнью молодой,
В увлечении молитвы
Находил покой.
Едет он в раздумье шагом
На лихом коне;
Вдруг пещеру за оврагом
Видит в стороне:
Там душевной жажде пищу
Старец находил,
И к пустынному жилищу
Князь поворотил.
Годы страсти, годы спора
Пронеслися вдруг,
И пустынного простора
Он почуял дух.
Слез с коня, оборотился
К отрокам спиной,
Снял кафтан, перекрестился —
И махнул рукой.
<1843>
Греция
Там, под оливами, близ шумного каскада,
Где сочная трава унизана росой,
Где радостно кричит веселая цикада
И роза южная гордится красотой,
Где храм оставленный подъял свой купол белый
И по колоннам вверх кудрявый плющ бежит, —
Мне грустно: мир богов, теперь осиротелый,
Рука невежества забвением клеймит.
Вотще… В полно́чь, как соловей восточный
Свистал, а я бродил незримый за стеной,
Я видел: грации сбирались в час урочный
В былой приют заросшею тропой.
Но в плясках ветреных богини не блистали
Молочной пеной форм при золотой луне;
Нет, – ставши в тесный круг, красавицы шептали…
«Эллада!» – слышалось мне часто в тишине.
<1840>
Вакханка
Под тенью сладостной полуденного сада,
В широколиственном венке из винограда
И влаги вакховой томительной полна,
Чтоб дух перевести, замедлилась она.
Закинув голову, с улыбкой опьяненья,
Прохладного она искала дуновенья,
Как будто волосы уж начинали жечь
Горячим золотом ей розы пышных плеч.
Одежда жаркая все ниже опускалась,
И молодая грудь все больше обнажалась,
А страстные глаза, слезой упоены,
Вращались медленно, желания полны.
<1843>
Диана
Богини девственной округлые черты,
Во всем величии блестящей наготы,
Я видел меж дерев над ясными водами.
С продолговатыми, бесцветными очами
Высоко поднялось открытое чело, —
Его недвижностью вниманье облегло,
И дев молению в тяжелых муках чрева
Внимала чуткая и каменная дева.
Но ветер на заре между листов проник, —
Качнулся на воде богини ясный лик;
Я ждал, – она пойдет с колчаном и стрелами,
Молочной белизной мелькая меж древами,
Взирать на сонный Рим, на вечный славы град,
На желтоводный Тибр, на группы колоннад,
На стогны длинные… Но мрамор недвижимый
Белел передо мной красой непостижимой.
<1847>
«Влажное ложе покинувши, Феб златокудрый…»
Влажное ложе покинувши, Феб златокудрый
направил
Быстрых коней, Фаетонову гибель, за розовой Эос;
Круто напрягши бразды, он кругом озирался,
и тотчас
Бойкие взоры его устремились на берег пустынный.
Там воскурялся туман благовонною жертвою; море
Тихо у желтых песков почивало; разбитая лодка,
Дном опрокинута вверх, половиной в воде, половиной
В утреннем воздухе, темной смолою чернела —
и тут же,
Влево, разбросаны были обломки еловые весел,
Кожаный щит и шелом опрокинутый, полные тины.
Дальше, когда порассеялись волны тумана седого,
Он увидал на траве, под зеленым навесом каштана
(Трижды его обежавши, лоза окружала кистями), —
Юношу он на траве увидал: белоснежные члены
Были раскинуты, правой рукою как будто теснил он
Грудь, и на ней-то прекрасное тело недвижно лежало,
Левая навзничь упала, и белые формы на темной
Зелени трав благовонных во всей полноте рисовались;
Весь был разодран хитон, округлые бедра белели,
Будто бы мрамор, приявший изгибы от рук Праксителя,
Ноги казали свои покровенные прахом подошвы,
Светлые кудри чела упадали на грудь, осеняя
Мертвую силу лица и глубоко-смертельную язву.
<1847>
Нептуну Леверрье
Птицей,
Быстро парящей птицей Зевеса
Быть мне судьбою дано всеобъемлющей.
Ныне, крылья раскинув над бездной
Тверди, – ныне над высью я
Горной, там, где у ног моих
Воды,
Вечно несущие белую пену,
Стонут и старый трезубец Нептуна
В темных руках повелителя строгого блещет.
Нет пределов
Кверху и нет пределов
Книзу.
Здравствуй!
На половинном пути
К вечности, здравствуй, Нептун! Над собою
Слышишь ли шумные крылья и ветер,
Спертый нагрудными сизыми перьями? Здравствуй!
Нет мгновенья покою;
Вслед за тобою летящая
Феба стрела, я вижу, стоит,
С визгом перья поджавши, в эфире.
Ты промчался, пронесся, мелькнул и сокрылся,
А я!
Здравствуй, Нептун!
Слышишь ли, брат, над собою
Шумный полет? – Я принес
С жаркой, далекой земли,
Кровью упитанной,
Трупами тучной,
Лавром шумящей,
Мой привет тебе: здравствуй, Нептун!
Вечно, вечно,
Как бы ни мчался ты, брат мой,
Крылья мои зашумят, и орлиный
Голос к тебе зазвучит по эфиру:
Здравствуй, Нептун!
<1847>
«Питомец радости, покорный наслажденью…»
Питомец радости, покорный наслажденью,
Зачем, коварный друг, не внемля приглашенью,
Ты наш вечерний пир вчера не посетил?
Хозяин ласковый к обеду пригласил
В беседку, где кругом, не заслоняя сада,
Полувоздушная обстала колоннада.
Диана полная, глядя между ветвей,
Благословляла стол улыбкою своей,
И яства сочные с их паром благовонным,
Отрадно-лакомым гулякам утонченным,
И – отчих кладовых старинное добро —
Широкодонных чаш литое серебро.
А ветерок ночной, по фитилям порхая,
Качал слегка огни, нам лица освежая.
Зачем ты не сидел меж нами у стола?
Тут в розовом венке и Лидия была,
И Пирра смуглая, и Цинтия живая,
И ученица муз Неэра молодая,
Как Сафо, страстная, пугливая, как лань…
О друг! я чувствую, я заплачу ей дань
Любви мечтательной, тоскливой, безотрадной…
Я наливал вчера рукою беспощадной, —
Но вспоминал тебя, и, знаю, вполпьяна
Мешал в заздравиях я ваши имена.
<1847>
«Уснуло озеро; безмолвен черный лес…»
Уснуло озеро; безмолвен черный лес;
Русалка белая небрежно выплывает;
Как лебедь молодой, луна среди небес
Скользит и свой двойник на влаге созерцает.
Уснули рыбаки у сонных огоньков;
Ветрило бледное не шевельнет ни складкой;
Порой тяжелый карп плеснет у тростников,
Пустив широкий круг бежать по влаге гладкой.
Как тихо… Каждый звук и шорох слышу я;
Но звуки тишины ночной не прерывают, —
Пускай живая трель ярка у соловья,
Пусть травы на воде русалки колыхают…
<1847>
К красавцу
Природы баловень, как счастлив ты судьбой!
Всем нравятся твой рост, и гордый облик твой,
И кудри пышные, беспечностью завиты,
И бледное чело, и нежные ланиты,
Приподнятая грудь, жемчужный ряд зубов,
И огненный зрачок, и бархатная бровь;
А девы юные, украдкой от надзора,
Толкуют твой ответ и выраженье взора,
И после каждая, вздохнув наедине,
Промолвит: «Да, он мой – его отдайте мне!»
Как сон младенчества, как первые лобзанья
С отравой сладкою безумного желанья,
Ты полон прелести в их памяти живешь,
Улыбкам учишь их и к зеркалу зовешь;
Не для тебя ль они, при факеле Авроры,
Находят новый взгляд и новые уборы?
Когда же ложе их оденет темнота,
Алкают уст твоих, раскрывшись, их уста.
<1841>
Амимона
«Это у вас, на севере, все нипочем! Посмотри-ка,
Чей там, в дали голубой, парус, как чайка, блеснул?
Ты только белую точку завидел, – а я различила
Снасти и пестрый наш флаг. Это отцовский
корабль!
Знать, старику надоела в Наксо́се жена молодая…
Мать говорила, что он скоро вернется домой,
В Наполи-ди-Романию. Полно вечерней порою
В рощу лавровую мне тайно к тебе приходить!
Ах, любовь только губит нас, девушек!» —
«Милая, полно!
В этих словах две вины: город родной назвала
Ты Наполи-ди-Романьей: это названье – чужое.
Можно ли в вашей стране девам пенять на любовь?
Здесь она города созидала; по храмам и рощам
Сладостный жар не остыл в гнездах ее голубей.
Знаешь ты, как основался ваш город? Гонимый
Египтом,
С целой толпою детей в Грецию прибыл Данай.
В Арголиде, томясь жестокою жаждой, изгнанник
Всех пятьдесят дочерей ключ отыскать разослал.
Долго блуждали они, одинокие. Вдруг Амимона
Неосторожной стопой будит Сатира в лесу.
Нет пощады! – Сатир догоняет пугливую, обнял…
Но над беглянкою бог верным трезубцем взмахнул.
Быстро, как горный олень, умчался Сатир
козлоногий —
Мимо его просвистав, в землю трезубец впился.
„Амимона! – сказал Нептун, – подай мне
трезубец!“
Дева, горя от стыда, дернула ловкой рукой.
Чудо! вслед за зубцами железными почва сухая
Чистых, как горный кристалл, три извергает
ключа.
Навплия сына Нептуну затем понесла Амимона —
Город ваш Навплию он, смелый пловец,
заложил».
<1855>
Золотой век
Auch ich war in Arkadien geboren.
Schiller[5]
Я посещал тот край обетованный,
Где золотой блистал когда-то век,
Где, розами и миртами венчанный,
Под сению дерев благоуханной
Блаженствовал незлобный человек.
Леса полны поныне аромата,
Долины те ж и горные хребты;
Еще досель в прозрачный час заката
Глядит скала, сиянием объята,
На пену волн эгейских с высоты.
Под пихтою душистой и красивой
Под шум ручьев, разбитых об утес,
Отрадно верить, что Сатурн ревнивый
Над этою долиною счастливой
Век золотой не весь еще пронес.
И чудится: за тем кустом колючим
Румяных роз, где лавров тень легла,
Дыханьем дня распалена горючим,
Лобзаниям то долгим, то летучим
Менада грудь и плечи предала.
Но что за шум? За девой смуглолицей
Вослед толпа. Все празднично кругом.
И гибкий тигр с пушистою тигрицей,
Неслышные, в ярме пред колесницей,
Идут, махая весело хвостом.
А вот и он, красавец ненаглядный,
Среди толпы ликующих – Лией,
Увенчанный листвою виноградной,
Любуется спасенной Ариадной —
Бессмертною избранницей своей.
У колеса, пускаясь вперегонку,
Нагие дети пляшут и шумят;
Один приподнял пухлую ручонку
И крови не вкусившему тигренку
Дает лизать пурпурный виноград.
Вино из рога бог с лукавым ликом
Льет на толпу, сам весел и румян,
И, хохоча в смятеньи полудиком,
Вакханка быстро отвернулась с криком
И от струи приподняла тимпан.
1856
Даки
Вблизи семи холмов, где так невыразимо
Воздушен на заре вечерний очерк Рима
И светел Апеннин белеющих туман,
У сонного Петра почиет Ватикан.
Там боги и цари толпою обнаженной,
Создания руки, резцом вооруженной,
Готовы на пиры, на негу иль на брань,
Из цезарских палат, из храмов и из бань
Стеклись безмолвные, торжественные лики,
На древние ступя, как прежде, мозаи́ки,
В которых на конях Нептуновых Тритон
Чернеет, ликами Химеры окружен.
Там я в одной из зал, на мраморах, у входа,
Знакомые черты могучего народа
Приветствовал не раз. Нельзя их не узнать:
Все та же на челе безмолвия печать,
И брови грозные, сокрытых сил примета,
И на устах вопрос, – и нет ему ответа.
То даки пленные; их странная судьба —
Одна безмолвная и грозная борьба.
Вперя на мрамор взор, исполненный вниманья,
Я в сердце повторял родимые названья
И мрамору шептал: «Суровый славянин,
Среди тебе чужих зачем ты здесь один?
Поверь, ни женщина, ни раб, ни император
Не пощадят того, кто пал как гладиатор.
По мненью суетных, безжалостных гуляк,
Бойцом потешным быть родится дикий дак,
И, чуждые для них поддерживая троны,
Славяне составлять лишь годны легионы.
Пускай в развалинах умолкнет Колизей,
Чрез длинный ряд веков, в глазах иных судей,
Куда бы в бой его ни бросила судьбина,
Безмолвно умирать – вот доля славянина.
Когда потомок твой, весь в ранах и в крови,
К тому, кого он спас, могучие свои
Протянет руки вновь, прося рукопожатья,
Опять со всех сторон подымутся проклятья
И с подлым хохотом гетера закричит:
«Кончай, кончай его! – он дышит, он хрипит;
Довольно сила рук, безмолвие страданий
Невольных вызвали у нас рукоплесканий!
(Как эти варвары умеют умирать!)
Пойдемте! Кончено! Придется долго ждать
Борьбы таких бойцов иль ярой львиной драки.
Пойдемте! Что смотреть, как цепенеют даки!»
1 декабря 1856
Венера Милосская
И целомудренно и смело,
До чресл сияя наготой,
Цветет божественное тело
Неувядающей красой.
Под этой сенью прихотливой
Слегка приподнятых волос
Как много неги горделивой
В небесном лике разлилось!
Так, вся дыша пафосской страстью,
Вся млея пеною морской
И всепобедной вея властью,
Ты смотришь в вечность пред собой.
1856
Сон и смерть
Богом света покинута, дочь Громовержца немая,
Ночь Гелио́су вослед водит возлюбленных чад.
Оба и в мать и в отца зародились бессмертные боги,
Только несходны во всем между собой
близнецы:
Смуглоликий, как мать, творец, как всезрящий
родитель,
Сон и во мраке никак дня не умеет забыть;
Но просветленная дочь лучезарного Феба,
дыханьем
Ночи безмолвной полна, невозмутимая Смерть,
Увенчавши свое чело неподвижной звездою,
Не узнает ни отца, ни безутешную мать.
1858 или 1859
Из разделов «Разные стихотворения» и «Стихотворения, не вошедшие в основное собрание»
«Владычица Сиона, пред тобою…»
Владычица Сиона, пред тобою
Во мгле моя лампада зажжена.
Все спит кругом, – душа моя полна
Молитвою и сладкой тишиною.
Ты мне близка… Покорною душою
Молюсь за ту, кем жизнь моя ясна.
Дай ей цвести, будь счастлива она —
С другим ли избранным, одна, или со мною.
О нет! Прости влиянию недуга!
Ты знаешь нас: нам суждено друг друга
Взаимными молитвами спасать.
Так дай же сил, простри святые руки,
Чтоб ярче мог в полночный час разлуки
Я пред тобой лампаду возжигать!
<1842>
Мадонна
Я не ропщу на трудный путь земной,
Я буйного не слушаю невежды:
Моим ушам понятен звук иной,
И сердцу голос слышится надежды
С тех пор, как Санцио передо мной
Изобразил склоняющую вежды,
И этот лик, и этот взор святой,
Смиренные и легкие одежды,
И это лоно матери, и в нем
Младенца с ясным, радостным челом,
С улыбкою к Марии наклоненной.
О, как душа стихает вся до дна!
Как много со святого полотна
Ты шлешь, мой бог с пречистою Мадонной!
<1842>
Ave Maria[6]
Ave Maria – лампада тиха,
В сердце готовы четыре стиха:
Чистая дева, скорбящего мать,
Душу проникла твоя благодать.
Неба царица, не в блеске лучей,
В тихом предстань сновидении ей!
Ave Maria – лампада тиха,
Я прошептал все четыре стиха.
<1842>
«Не ворчи, мой кот-мурлыка…»
Не ворчи, мой кот-мурлыка,
В неподвижном полусне:
Без тебя темно и дико
В нашей стороне;
Без тебя все та же печка,
Те же окна, как вчера,
Те же двери, та же свечка,
И опять хандра…
<1843>
Венеция ночью
Лунный свет сверкает ярко,
Осыпая мрамор плит;
Дремлет лев святого Марка,
И царица моря спит.
По каналам посребренным
Опрокинулись дворцы,
И блестят веслом бессонным
Запоздалые гребцы.
Звезд сияют мириады,
Чутко в воздухе ночном;
Осребренные громады
Вековым уснули сном.
<1847>
«Полно спать: тебе две розы…»
Полно спать: тебе две розы
Я принес с рассветом дня.
Сквозь серебряные слезы
Ярче нега их огня.
Вешних дней минутны грозы,
Воздух чист, свежей листы…
И роняют тихо слезы
Ароматные цветы.
<1847>
«Я знал ее малюткою кудрявой…»
Я знал ее малюткою кудрявой,
Голубоглазой девочкой; она
Казалась вся из резвости лукавой
И скромности румяной сложена.
И в те лета какой-то круг влеченья
Был у нее и звал ее ласкать;
На ней лежал оттенок предпочтенья
И женского служения печать.
Я знал ее красавицей; горели
Ее глаза священной тишиной, —
Как светлый день, как ясный звук свирели,
Она неслась над грешною землей.
Я знал его – и как она любила,
Как искренно пред ним она цвела,
Как много слез она ему дарила,
Как много счастья в душу пролила!
Я видел час ее благословенья —
Детей в слезах покинувшую мать;
На ней лежал оттенок предпочтенья
И женского служения печать.
1844
«О, не зови! Страстей твоих так звонок…»
О, не зови! Страстей твоих так звонок
Родной язык.
Ему внимать и плакать, как ребенок,
Я так привык!
Передо мной дай волю сердцу биться
И не лукавь,
Я знаю край, где все, что может сниться,
Трепещет въявь.
Скажи, не я ль на первые воззванья
Страстей в ответ
Искал блаженств, которым нет названья
И меры нет?
Что ж? Рухнула с разбега колесница,
Хоть цель вдали,
И распростерт заносчивый возница
Лежит в пыли.
Я это знал – с последним увлеченьем
Конец всему;
Но самый прах с любовью, с наслажденьем
Я обойму.
Так предо мной дай волю сердцу биться
И не лукавь!
Я знаю край, где все, что может сниться,
Трепещет въявь.
И не зови – но песню наудачу
Любви запой;
На первый звук я как дитя заплачу —
И за тобой!
<1847>







