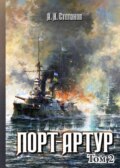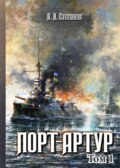Александр Николаевич Степанов
Семья Звонаревых. Том 1
Глава 2
Вскоре разошлись по другим вокзалам и остальные солдаты. Звонарёв отправился в буфет и доложил Белому о расформировании эшелона.
– Теперь можно и нам двигаться на Николаевский вокзал![8] Тут ведь только через площадь перейти, – произнёс генерал.
– Площадь простреливается с крыш домов революционерами, так что без охраны переходить её нельзя, – предупредил подоспевший фон Поппе.
– Значит, не вы, а они – хозяева положения? – иронически спросил его Тахателов.
– Не извольте беспокоиться, – козырнул капитан. – Сейчас я организую охрану для ваших превосходительств и господ офицеров, едущих в Петербург.
– Будьте любезны! – слегка кивнул ему Мехмандаров.
Фон Поппе ушёл. Генералы поднялись. Денщики стали собирать офицерские чемоданы.
Белый подошёл к Борейко, обнял и крепко поцеловал его.
– Желаю вам, Борис Дмитриевич, скорейшего выздоровления! Вот мой петербургский адрес. Пишите, всегда буду рад получить от вас весточку или помочь чем смогу. Чувствую себя как бы в долгу перед вами. Ещё в Японии я составил список офицеров, заслуживших боевые награды. Вас я представил к Георгиевскому кресту и к золотому оружию, но, сами знаете, вопрос о награждении решается на заседаниях Думы Георгиевских кавалеров. Там могут решить вопрос по-иному, – как бы извиняясь, сказал в заключение генерал.
– Спасибо на добром слове, Василий Фёдорович! – поблагодарил Борейко. – Желаю, чтобы и вы были удостоены тех наград, которые, по-моему, из генералов только вы один и заслужили в Артуре. Если, конечно, не считать покойного генерала Кондратенко.
– Значит, мы, дюша мой, не заслужили наград в Артуре? – с обиженной миной спросил Тахателов.
– Там вы и генерал Мехмандаров были ещё полковниками, – отшутился Борейко.
Распростившись с офицерами-артурцами, остававшимися на Рязанском вокзале, Белый решил идти на Николаевский вокзал, не дожидаясь охраны. Звонарёв подошёл к Борейко и торопливо сказал ему:
– Жди меня здесь, Боря. Я провожу Василия Фёдоровича и вернусь.
– Ну вот, будешь из-за меня туда-сюда мотаться. Это сейчас небезопасно, – попытался было протестовать Борис Дмитриевич, но Звонарёв и слушать его не захотел.
– Когда сдам тебя Ольге Семёновне в целости и сохранности, тогда уж избавишься от меня, – пошутил прапорщик.
Проводив взглядом Белого и Звонарёва, Борейко с помощью Блохина проковылял к печке и опустился на скамью возле неё. В печи горел дымный синеватый огонь. Сквозь разбитое стекло окна врывался морозный воздух. Слышались гудки паровозов, стук вагонных буферов, изредка – отдалённая перестрелка.
– В целости и сохранности, – горько улыбнулся Борейко, вспомнив слова Звонарёва, и обернулся к Блохину: – Как думаешь, Филя, узнает меня Ольга Семёновна?
– Как же не признать? – удивился Блохин. – Вот коли б она вас в Нагойе[9] увидела, то, пожалуй бы, не признала. Этакий здоровенный куль – с ног до головы в марле. Только и было видно – глаза да рот. А теперь ходите, без малого не танцуете. Дело на поправку идёт.
– Скорее бы увидеть её… – мечтательно промолвил Борейко.
– А вы давайте адрес, смотаюсь, – предложил Блохин.
Поручик достал из кармана письмо жены, пробежал его глазами.
– Вот… Немецкая улица, школа. Около Немецкого рынка[10], на углу. Спросить учительницу Наташу Туманову. Это Олина подруга. Она пока у неё остановилась.
Но Блохина даже не выпустили с вокзала.
– Отправлять одного денщика на поиски квартиры вашей супруги нельзя, господин поручик, – заявил фон Поппе. – Его могут арестовать на улице и расстрелять как дезертира. Я дам в провожатые своего солдата-семёновца, снабжу его пропуском. Так будет надёжнее.
– Ну и порядки! – недовольно протянул Борейко.
– Что поделаешь? Город на осадном положении! – пожал плечами фон Поппе. – С темнотой никому не разрешается выходить на улицу без специальных пропусков. Но и пропуск не всегда является надёжной гарантией безопасности. Покажется патрулям, что он поддельный, и могут пристрелить раба божьего тут же, на месте, без долгих разговоров. Потом и концов не найдёшь!
– Слушайте, это же возмутительный произвол! – воскликнул Борейко. – Интересно, кто сейчас командует тут, в Москве?
– Адмирал Дубасов[11].
– А, кремлёвский адмирал!.. – насмешливо протянул Борейко. – Слыхали про такого. Ему бы командовать бумажными корабликами на Яузе или на Москве-реке.
– Не забывайтесь, господин поручик! – вспыхнул фон Поппе. – Только ваше тяжёлое ранение и может извинить подобное высказывание. За эти слова недолго попасть под военно-полевой суд. Если хотите знать, двух прапоров уже расстреляли за порицание распоряжений адмирала…
– Надо поскорее выбираться из Москвы, пока и меня не постигла такая же участь! – шутливо проговорил Борейко, не желая ввязываться в спор с капитаном.
Фон Поппе вызвал к себе ефрейтора Семёновского полка и поручил ему помочь Блохину разыскать госпожу Борейко и доставить её на вокзал.
– Живо мне! Чтоб одна нога была здесь, другая – там.
– Я, Ваше высокоблагородие, плохо знаю Москву, – признался ефрейтор. – Дозвольте городового захватить с собой. Они хорошо знают здесь все ходы и выходы.
– Ладно, бери, – разрешил капитан и в свою очередь посоветовал достать извозчика, чтобы не тратить зря времени на ходьбу.
Блохин и ефрейтор-семёновец ушли.
Было уже больше восьми часов вечера, на дворе давно стемнело. На едва освещённых редкими керосинокалильными фонарями улицах было пустынно и глухо. Только одинокие патрули солдат и полиции неторопливо передвигались по тротуарам, держа наготове заряженные винтовки и ежеминутно ожидая выстрела из-за угла. В окнах домов тускло светились лампы и свечи. Электричества в городе не было.
Дул пронзительный, морозный ветер. Под ногами поскрипывал снег, в лицо хлестала мелкая ледяная крупа. Редкие пешеходы крались вдоль стен домов, с опаской прислушиваясь к ружейным выстрелам. Иногда пулемётная очередь разрезала сторожкую тишину.
Экипаж, на котором ехали Блохин, ефрейтор и городовой, долго петлял по затемнённым улицам и переулкам, прежде чем впереди показался тёмный силуэт какой-то церквушки.
– Вот и доехали, – сообщил извозчик. – Теперича сами ищите нужный вам дом.
– Вали вперёд! – распорядился семёновец, подталкивая городового в спину. – А мы тебя будем охранять от нападения.
Городовой барабанил во все выходящие на улицу парадные двери, но мало где отзывались на этот грохот.
– Боятся, черти! – ворчал городовой. – Грабителей развелось – страсть. Сами ж дружинники и грабят.
– Не может того быть, чтобы рабочие грабили! – возразил Блохин. – Это, наверное, настоящие грабители ходят под видом рабочих.
– Насмотрелись мы тут за эти дни, – вставил семёновец. – Идут вроде девки и бабы, а спрятались за угол – и бьют с винтовок как миленькие.
– Бабами, что ли, рабочие переодеваются? – поразился Блохин.
– Нет, самые что ни на есть настоящие бабы да девки под юбки ружья прячут и, чуть зазевался, бьют нашего брата беспощадно, – пояснил городовой.
– Выходит, весь народ в Москве супротив властей поднялся? – медленно, как бы размышляя, проговорил Блохин.
– Народ не народ, а разная там мастеровщина да железнодорожники, кое-кто из конторщиков, – сказал ефрейтор. – Словом, мелкота всякая, а порой и просто ребятишки. Вчера один сорванец, лет тринадцати, не более, офицера нашего укокошил, прямо из паршивого ливорверта в живот ему выстрелил. Помер тот офицер сегодня.
– А с мальчишкой что? – спросил Блохин.
– На штыки мы его подняли, вот что! – ответил ефрейтор. – Верещал, как поросёнок резаный. Не сразу мы его прикончили. Аж сейчас в ушах слышится, как вопил он…
Блохин внимательным взглядом глубоко запавших глаз посмотрел на семёновца.
– Жаль небось? – осторожно спросил он.
Ефрейтор не ответил на вопрос, только вздохнул:
– Такие-то тут дела!..
После долгих розысков, наконец, нашли около Немецкого рынка небольшую школу. На стук вышел мужчина средних лет и, увидев городового с солдатами, заявил твердо:
– Ежели с обыском пришли – ордер давайте. Без него в школу не пущу. Я сторож, Рудников моя фамилия.
Блохин спросил, как ему велел Борейко, учительницу Туманову.
– Сейчас её дома нету. В участок, что ли, забирать пришли?
– Да нет! Нам подруга её нужна – Борейко Ольга Семёновна. К мужу на вокзал её свезём, раненый он, из плена прибыл, – пояснил Блохин.
На шум вышла Ольга Семёновна в накинутом на плечи платке. Блохину она показалась выше ростом и значительно старше, чем была в Артуре.
– Ольга Семёновна? – неуверенно спросил он, приглядываясь к её лицу при свете огарка.
– Боже мой, кто это? – прижала руки к груди Борейко, потом вдруг рывком выхватила огарок у Рудникова и поднесла его к самому лицу Блохина. – Филипп Иванович! Вы ли? – испуганно вскрикнула она и дрожащей рукой притронулась к его руке: – Говорите, не мучьте… Что с Борей?
– Не извольте беспокоиться, Ольга Семёновна, – расплылся в улыбке Блохин. – Жив Борис Дмитриевич. Правда, ранен, трудновато ему ещё, ранение-то тяжёлое. Но ничего. Он ведь завсегда у нас молодцом был. Сидит сейчас на Рязанском вокзале, вас дожидается.
– Филипп Иванович, дорогой! – едва не задохнувшись от счастья, простонала Ольга и крепко поцеловала Блохина прямо в губы, чуть не сбив при этом папаху с его головы. – Что же я стою? – засуетилась она. – Голодный ведь, холодный… Проходите в комнату. Или лучше на кухню. Там теплее. Поешьте, обогрейтесь. А я пока соберу медикаменты да тёплые вещи для Бориса. Я скоренько.
Блохин и солдат-семёновец прошли вслед за Ольгой и Рудниковым, оставив городового в пролётке.
На кухне, в небольшой комнате, было чисто и уютно. Около стола, покрытого клеёнкой, стояли скамейка и табурет.
– Садитесь, погрейтесь немножко, – говорила Ольга, расставляя на столе тарелку с хлебом, стаканы, крынку с молоком, крутые яйца, соль. – А я сию минуту… – Но тут же спохватилась: – Филипп Иванович, дорогой мой, наверное, о Шуре хотите узнать, хотя и молчите. А? – улыбнувшись Блохину, спросила она. – Не беспокойтесь. Шура в деревне.
С потеплевшими глазами Блохин уселся поудобнее на лавке, не спеша снял шапку, большой рукой с заскорузлыми, негнущимися от мороза пальцами провёл по усам, широким кустистым бровям; расстегнул шинель и, взяв большой кусок ржаного хлеба, принялся с аппетитом жевать.
– Сейчас у нас в Москве тоже война идет, не хуже чем в Артуре, – присев напротив Блохина на табурет, принялся рассказывать Рудников. – Воюют войска с рабочими, а страдаем больше всего мы, мирные люди, особенно от войск. Убьют одного дружинника да полсотни ни в чём не повинных людей. Особенно артиллерия. Бьёт, не разбирая, кто попал под обстрел.
– А вы не прячьте тех, кто по нас стреляет, тогда и вас трогать не будут, – возразил семёновец. – В толпе не углядишь, кто в тебя стрелял. А вы, цивильные, скрываете бунтовщиков.
В шубке и белом пуховом платке, с медицинской сумкой и узлом в руках, на кухню вошла Ольга.
– Ну, Филипп Иванович, поехали, в добрый час.
На том же извозчике Блохин доставил Ольгу Семёновну на Рязанский вокзал. Там их уже поджидал Звонарёв. Ольга Семёновна бросилась к нему.
– Серёженька, здравствуйте, дорогой! Где Боря? Ведите меня к нему. Скорее, ну скорее же!
– Пошли, пошли, – подхватил её под руку Сергей Владимирович. – Только учтите… он ещё не совсем здоров… Я должен предупредить…
– Всё равно! Какой бы он ни был… Это же счастье, что он жив, вернулся, – говорила она, плача от радости.
Войдя в буфет, Ольга Семёновна сразу увидела мужа.
Навстречу ей поднялся высокий и очень худой человек. Родной до боли в груди, до слёз, самый близкий… Те же глаза, тот же упрямый рот, который сейчас пытался улыбнуться. И вместе с тем незнакомое – робкое, тревожное выражение поразило её. Сердце сжалось от любви к этому большому, сильному, но сейчас беспомощному человеку.
– Мой, мой… вернулся. Боренька! – припав к его груди, рассматривая и осыпая его лицо поцелуями, повторяла она. – Я верила… ждала… Родной!.. Как я верила… Сейчас же поедем отсюда…
– Тебе будет тяжело со мной, – горестно усмехнулся Борейко. – Может быть, мне сразу в госпиталь?
– Нет, нет, ко мне! – вглядываясь в его глаза, шептала Ольга Семёновна. – Завтра я покажу тебя врачам… и вот увидишь, быстро поставлю тебя на ноги. Ты веришь, что будет так?
– Верю! – улыбнулся Борейко.
Блохин, повинуясь взгляду Ольги Семёновны, подхватил чемоданы и понёс их к экипажу.
– Опять госпиталь, врачи, эскулапы!.. – со вздохом произнёс Борейко.
– Совсем не опять! Я ведь буду около тебя, ни на шаг от тебя не отойду. Буду жить в одной палате с тобой. Обо всём этом я договорюсь с начальником госпиталя. Ворчливый такой, но предобрый старикан. Я живо подниму тебя на ноги, – решительно произнесла Ольга Семёновна.
Звонарёв проводил чету Борейко до извозчика. Прощались долго и никак не могли расстаться.
– Смотри же, Серёжа, не забудь передать от меня привет твоей супружнице, – напомнил Борис Дмитриевич. – Уж она-то сразу возьмёт тебя в медицинский оборот. На этот счёт хватка у неё крепкая…
– Знаешь, Борька, даже не верится, что мы вернулись, – потрепал его по плечу Звонарёв. – Варя… Надюша… Семья! Оля, вы давно видели мою Варю? – порывисто обернулся он к Ольге Семёновне. – Как она, как дочурка?
– С месяц тому назад. Варя учится, Надюшка растёт… Обе ждут не дождутся своего папочку. А Надюша – вылитая Звонарёва! – особо отметила Ольга Семёновна.
– Крепко поцелуйте от меня Варю и дочку и пишите нам. Не забывайте о Борейко.
– А вы о Звонарёвых, – ответил прапорщик.
Наконец друзья расстались, и Звонарёв отправился на Николаевский вокзал, где его ждал Белый.
Супруги Борейко и Блохин благополучно добрались до Немецкого рынка и отпустили извозчика.
– Мы переночуем здесь, ты отдохнёшь, а завтра переберёмся на другую квартиру. У меня уже и ключ от неё есть, – говорила Оля, радостно заглядывая в глаза мужа.
Удобно усадив его в кресле и закутав в плед, Оля начала хлопотать об ужине. Блохин вызвался ей помочь растопить печку-голландку.
– Послушаем, Филя, как наши жёны из Артура в Россию добирались после сдачи крепости, – обратился Борейко к Блохину.
– Сейчас, только печурку растоплю. – Оля ловко уложила принесённые Блохиным дрова, зажгла пучок лучин, умело сунула его под нижний ряд сухих и тонких поленьев. – Дрова сухие, горят великолепно, – весело говорила она, присаживаясь к столу. – Ну, слушайте!
Когда русских офицеров и солдат забрали в плен и увезли в Японию, нас, женщин, принялись выселять из Артура в китайские деревни. Оставались только те, кто работал в госпиталях. Варя устроила Шуру и вашу тёщу, Филипп Иванович, в сводный госпиталь санитарками. Там после ранения лежала и я. Постепенно из Артура вывозили раненых и больных. Многие из них умерли уже после окончания войны. Лечили по-прежнему наши врачи. На весь госпиталь было четыре японских надзирателя. Приставали они к нам с ухаживаниями, но Варя была нашим верным стражем. Японцы относились к ней с почтением – генеральская дочь. Боялись – напишет отцу, а тот в Японии пожалуется кому следует. В госпитале Варя была старшей сестрой милосердия. К нам часто наведывались иностранцы – расспрашивали, фотографировали, записывали. Японцы боялись, чтобы в иностранной печати не появлялось жалоб на их плохое отношение к пленным и русскому медицинскому персоналу. Варя знала это и поэтому, чуть что не так, грозила японцам пожаловаться иностранцам…
Так дожили мы до апреля. В годовщину гибели адмирала Макарова, помню, в госпитале отслужили общую панихиду по нём.
Вскоре подошёл к Артуру немецкий пароход «Европа». Остановился он на внешнем рейде, и нас перевезли на него в шлюпках. С нашего Утёса отплывали… Перед отъездом побывали на кладбище, наплакались вволю…
– Много осталось там, на Утёсе, наших, – печально промолвил Борейко. – Вечная слава им!
– Каждый камень там кровью русской полит, – добавил задумчиво Блохин.
С минуту царило молчание.
– Наш госпиталь вместе с госпиталем Красного Креста поместили на пароход и повезли морями и океанами вокруг Азии, – продолжала Ольга Семёновна. – Я и Шура сравнительно легко переносили качки. Зато Елена Енджеевская и Шурина мать с кровати не вставали в штормовую погоду. Варю хоть и мутило порой, но держалась она молодцом.
– И долго ехали водой? – поинтересовался Блохин.
– Около двух месяцев, – ответила Ольга Семёновна. – Про цусимскую трагедию[12] в Порт-Саиде узнали от русского консула. Это известие потрясло всех нас, но особенно морских офицеров. Помню, один мичман, совсем молоденький, выбежал на палубу заплаканный, долго молчаливо смотрел в морскую даль, потом покачал головой, вздохнул тяжело. «Нельзя, – говорит, – такого позора пережить!» И застрелился тут же, на палубе. – Помолчали. Ольга, задумавшись, смотрела в окно, тихо гладила руку мужа. – Вот мы и дома, в России, снова вместе, но то, что пережили в Артуре, вовек не забудется.
– Что верно, то верно, – подтвердил Блохин. – Не забудем и не простим…
– А вам как жилось в плену, как добирались до дому? – поинтересовалась Ольга Семёновна.
– Я провалялся в госпиталях и Японии, по существу, не видел, – медленно проговорил Борейко. – А госпитали во всем мире, по-моему, одинаковы: мучают и терзают больных, а те капризничают по всякому поводу и без повода. В общем пожаловаться на японские госпитали не могу – врачи и сёстры были ко мне внимательны, донимали перевязками и операциями в меру, кормили хорошо, только на свидания со мной почти никого не пускали. Правда, наших генералов – Белого, Тахателова и Мехмандарова пропускали без разговоров и были с ними очень почтительны. Что ни говори, а генерал везде генерал, а японцы очень дисциплинированны и своих генералов весьма уважают. С Белым часто приходил и Звонарёв. Он состоял при Белом адъютантом, помогал Василию Фёдоровичу составлять отчёт о деятельности Квантунекой крепостной артиллерии во время обороны крепости. Получился у них весьма объёмистый труд. Заходил и Стах Енджеевский[13]. Того пускали реже и с большим трудом, зато Блоха с утёсовцами бывали у меня чуть ли не каждый день. Как они умудрялись пробираться, ума не приложу. Здорово они меня поддержали. Если бы не они, не знаю, что и было бы: совсем тоска заела. Чужбина, плен, одиночество. Что же может быть хуже? И болезнь… сознание, что ты беспомощен, всецело зависишь от других…
– Милый, не надо… Не вспоминай. Филиппу Ивановичу и утёсовцам спасибо. Теперь всё позади. Я всегда знала, что самые верные друзья узнаются в беде. Простой человек сам знает, почем фунт лиха, и другого не подведёт.
– Что вы, Ольга Семёновна, за что спасибо-то? – хриплым голосом, смущаясь, проговорил Блохин. – Мы с Борисом Дмитриевичем теперь вроде как породнились: вместе кровь проливали, вместе на чужбине были, вместе и о доме думали. А вот теперь вместе и вернулись. Да… А пробирались мы к Борису Дмитриевичу через мусмешек, девки так по-японски прозываются. Они прислуживали в госпитале. Полюбезничаешь с ней, цветочек подаришь аль конфетку, ну и довольна – враз в офицерскую палату пропустит. Да ещё посторожит, чтобы на доктора не нарваться. А то и ей несдобровать. Вот, доложу я вам, смешное дело получилось. Народ-то у них махонький. Нашего Бориса Дмитриевича за великана принимали, да и Сергея Владимировича тоже. С него японки просто глаз не сводили. Отбоя не было. Рослый, румяный, красивый – ну, мусмешки за ним стаей ходили. Куда он, туда и они. Сидит в палате, а сёстры да санитарки чуть ли не со всего госпиталя сбегаются и ждут под дверью, чтобы не пропустить, полюбоваться на него.
– Вероятно, Серёжа там ухаживал напропалую? – улыбаясь, справилась Ольга Семёновна.
– Нет, что вы! Они страсть степенные были, ни на кого не смотрют и ни с кем не разговаривают. Женатые ведь! Сурьёзные стали, как оженились, – хитро ухмыляясь, ответил Блохин.
– Под присмотром тестя особенно не погрешишь, – усмехнулся Борейко.
– Как жилось вам, Филипп Иванович?
– Да ничего. У русского человека жила крепкая, не то выдюжит. Всё, как говорится, было б в аккурат, одно плоховато – харчи японские жидковаты. Мы привыкли три фунта хлеба в день уминать, а нам давали фунт с небольшим. Да вместо каши рыба всякая. Сколько её надо, чтобы утробу наполнить! Ну, ясное дело, сидели впроголодь. На хозяйственные работы гоняли, порядку требовали – страсть. Чуть что оплошаешь – беда! Палками били всех, кто под руку подвернётся. Правда, книжки всякие давали читать про свободу. Но, однако, – Блохин вскинул глаза на Борейко и, помедлив немного, добавил: – путаницы там много, туману всякого напускают. Правду рабочую еле-еле отыщешь.
– Вот как, вы уже и в эсерах разбираетесь, и большевиков, наверное, знаете? – внимательно посмотрев на Блохина, живо спросила Ольга Семёновна.
– А как же, – взглянул на свою собеседницу Блохин, – рабочему человеку нужно во всём доподлинно разбираться. Самому. Чтоб никакой фальши не было.
Нужда-то – она не тётка, всему научит. А правду искать надо, пора, самая пора пришла.
– Да, – откликнулся молчавший Борейко. – Это ты справедливо заметил, Филя, друг ты мой сердечный. Правду искать надо. Не мешает это делать всегда, а сейчас и подавно. Время-то какое! Ехали и не думали, что тут война идёт. Настоящая революция! Во Владивостоке узнали – забастовка! Наш эшелон не пропускают. Потом манифест 17 октября. Что ж, говорим, свобода – даёшь Москву! Не тут-то было. Больше трёх недель держали, пока, наконец, разрешили отправку. Ну, думаю, нечего сказать – свобода! Едем дальше по Сибири, говорят – волнения в народе, революция. Ты бы видела, Оля, как забеспокоились наши генералы! А мне весело стало. Что ж, думаю, вот и дожил, посчитаюсь и я, наконец-то, со стесселями, дошёл и до них черёд. И так-то мне вдруг здорово стало. Веришь, поправляться сразу начал. Говорю себе: давай, брат, вставай, хватит разлёживаться, а то без тебя перцу на хвост Стесселю[14] насыплют. Приехали в Москву, а тут – война. Нас с пулемётами встретили, с конвоем. Что, думаю, охраняют, или нас боятся?.. А? Олечка, расскажи-ка, что у вас здесь происходит?
– Что происходит? Революция, конечно, Борис. Народ восстал. Нет больше у него сил терпеть. Не хочет. Царский манифест, о котором ты говоришь, оказался филькиной грамотой, не в обиду вам будь сказано, Филипп Иванович. Рабочие сразу это поняли. Знаешь, что они о нём поют:
Царь испугался —
Издал манифест:
Мёртвым – свобода,
Живых – под арест!
Правда, хорошо? Лучше и не скажешь. Вся суть манифеста – в двух словах. Верно и сильно! Потом правительство испугалось, начались аресты, репрессии, арестовали Петербургский Совет рабочих депутатов. Москва ответила всеобщей забастовкой. Боря, – помолчав, тихо продолжала Оля, – я познакомилась с интересными людьми через Клавочку Страхову и Наташу, моих подруг по женским курсам. Помнишь, я о них рассказывала? Они себя называют большевичками. Если бы ты знал, что это за люди! Смелые, отважные, честные, как они преданы своему делу, как верят в него! – Ольга Семёновна повернула порозовевшее от волнения лицо к Блохину: – Знаете, Филипп Иванович, этим людям нельзя не верить. Они – сильные. Будущее принадлежит им. Я это отчетливо поняла.
– Эх, милая Ольга Семёновна, это-то мы давно поняли, кому можно верить, а кому нельзя. Мы люди простые и ошибаться не имеем никакого права. А вот то, что и вы это поняли, очень даже для нас приятно. Выходит, правда-то не только нашему брату нужна. Выходит, что в нашем полку прибыло.
Глаза Блохина тепло остановились на лице маленькой учительницы. Он с удивлением для себя отметил, как изменилась она вся, эта маленькая, хрупкая женщина. Будто стала выше, строже, и голос стал звонче и увереннеё.
Внимательно смотрел на свою жену и Борейко. «Что-то в ней появилось новое… Вроде вся та же – милая, родная, добрая. И что-то новое. Что же? Да, изменились глаза. И не сами глаза, – глаза-то те же, голубые и ясные, – а выражение глаз. Не озорное, мальчишеское, беспечное. В них появилась какая-то зрелость, спокойная уверенность, будто она знает то, чего ещё не знает он, Борейко, и в то же время уверена, что он будет это знать, потому что это очень важно.
– Олечка, – Борейко взял её за руку, заглянул в глаза, – ты очень изменилась.
– Что, постарела? – лукаво сверкнув глазами, засмеялась Ольга.
– Нет, что ты! Ты красивая, даже ещё красивее стала. Но в тебе появилось что-то новое… Я даже не знаю, как это назвать, – новое выражение: что-то смелое, независимое. Что-нибудь случилось, девочка моя?
– Ничего не случилось, родной. Просто жить стало очень интересно. Помнишь, раньше, в Порт-Артуре, как было трудно, сколько вокруг было дикости, несправедливости и горя. Мы все это видели и страдали, потому что помочь ничем не могли. Стессель, Стессельша и вся эта компания были силой. А сейчас я знаю, что им пришёл конец. Да, да, не качай головой, пришёл конец, и в этом ты сам скоро убедишься.
Она встала, одёрнула туго облегающую её стройную фигурку кофточку, прошлась по комнате.
– А теперь уже поздно, давайте чай пить, и, пожалуйста, хватит серьёзных разговоров на сегодня. Я сейчас самая счастливая: ко мне вернулся ты, мой муж. Я тебя долго, очень долго ждала. И я хочу быть с тобой: смотреть на тебя, гладить твои волосы, целовать твои глаза. Понимаете, Филипп Иванович, я могу всё это исполнить. Не думать об этом, не мечтать, а просто подойти и обнять его, поцеловать. Это ли не счастье?
Она подошла к креслу, в котором откинувшись сидел Борейко, положила ему на плечи руки, прижалась щекой к волосам.
– Молодец вы, Ольга Семёновна. Как это хорошо услышать такие слова солдату. Дай-то бог и мне дождаться такого.
Он увидел, как Борейко своими огромными руками осторожно и нежно взял маленькие ручки жены и, поцеловав каждую в ладонь, благодарно прижал к глазам.
– И в самом деле, что это мы разговорились, как будто завтрашнего дня не будет. Муж с женой встретился, а я сижу, пень берёзовый, и уши развесил. А у самого дело. Знакомец тут есть у меня, я с братаном его в госпитале лежал. Умнейший был человек, да не выжил, болячка придушила. Вот, письмецо должен я передать братану да на словах кое-что. Борис Дмитриевич, вы меня уж отпустите денька на два.
– Во-первых, Филя, давай садись к столу. Без ужина никуда не пойдёшь. И потом на ночь глядя куда идти? Переночуй, пойдёшь завтра. А во-вторых – финтишь ты что-то. Говори прямо: куда идёшь?
– Борис Дмитриевич, – прямо смотря в глаза Борейко, сказал Блохин, – вам ещё Блохин никогда не врал. Правду говорю – есть дело. И мне оно очень даже нужное. Иду на Пресню. А насчёт ужина – с нашим удовольствием, солдату от хлеба-соли отказываться негоже. И опять же – я в гостях. А говорят – в гости как знаешь, а из гостей как пустят.
– Нет, Филипп Иванович, ты не гость. Запомни это: в этой семье ты свой человек.
– Правда, Филипп Иванович, оставайтесь переночевать, а завтра утром поедем вместе. Поможете мне перевезти Бориса Дмитриевича на другую квартиру. Она в центре, у Патриарших прудов. Оттуда на Пресню – рукой подать. А сейчас давайте садиться за стол.