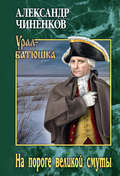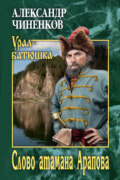Александр Чиненков
Форпост в степи
Хозяин дома слушал речь брата с явным удовольствием. Скрестив руки на груди, он благодушно улыбался. Наконец он произнес:
– Поболтать всегда есть о чем, сосед. Чай, не вражины мы!
– Вот и я о том, – прервал брата словоохотливый Никодим, поглаживая всклокоченную бороду. – Много годков знаем друг дружку и зла меж собой не держали никогда.
Лицо Егора залил румянец, и он выпрямился.
– Дочку твою Авдотьюшку вот засватать мыслим, – перешел к делу Авдей, – заневестилась девка-то, видим?
– Истину сказал брат, – поддержал его Никодим. – Да и уговор о том, как мне помнится, был?
Все вдруг замолчали. Никодим пытливо смотрел в глаза ошарашенного Егора, пытаясь прочесть в них, о чем тот думает. Взгляд Егора лихорадочно блуждал, рот полуоткрылся. Одной рукой он оперся о стол, а другой ухватился за грудь.
Авдей, стоя у печи, молча грыз ус; остальные словно окаменели. Никодим положил руку на плечо Комлева и сказал:
– Что скажешь, сосед?
– Уговор был, верно сее, – вздохнул Егор и обвел присутствующих взглядом. – Только вот непонятно мне, почему вы сейчас так вот не по-людски дочку мою сватаете?
– Господь с тобой, сосед, – рассмеялся Никодим. – Сватать мы только еще собираемся. А тебя зазвали сюда для того, чтоб знать доподлинно волю твою родительскую. Осрамиться не хотим. Вдруг, когда сватать девку пожалуем, ты нам от ворот поворот дашь?
Прежде чем ответить, Комлев вздохнул, обернулся к притихшему у печи Авдею и спросил:
– А чего спешить-то? Господь даст, доживем до осени, а там дам свое согласие и дочке родительское благословение.
– Не то говоришь, сосед, – нахмурился Авдей. – У сына моего Луки в башке ветер появился. Этот дурень давеча к цыганам в табор ездил! Цыганка там одна дурит его, а нам того не надобно.
– Батя, – вмешался все это время угрюмо молчавший у окна Лука, – я ж…
– Цыц, стрыган, – грозно взглянул на сына Авдей. – Не смей в разговор старших встревать. Сейчас возьму вот камчу да спущу с тебя шкуру-то! Ступай вон во двор, погляди, чего собака с цепи рвется, и не заходи в избу, покуда не позовем!
* * *
Лука вышел на крыльцо. Вспомнив утренний разговор с отцом, юноша побледнел и опустил голову.
…Проснувшись, Лука решил поговорить с отцом. Авдей с задумчивым видом сидел за столом.
– Бать, а бать, – обратился юноша, – дозволь попросить тебя об одной милости.
– Проси, коли надобность в том есть.
– Хочу жениться! – выпалил Лука.
– Ты? – удивился отец. – Что это за блажь на тебя накатила?
– Сам того не ведаю, – ответил Лука. – Но жить бобылем больше мочи нет!
– Чем же жизнь твоя тебе опостылела? – И Авдей озабоченно посмотрел на Луку. – И на кого глаз положить соизволил? Поди, на Авдошку Комлеву?
– Нет, не на нее, батя, – возразил юноша.
– Тогда на кого? – нахмурился отец.
– На благостную сердцем цыганскую девушку Лялю, отец.
– Лука! Тобой овладела грязная похоть!
– Обуяла меня любовь, чистая, как небо Господне.
– Ты рехнулся?
– А что? Сколько казаков себе жен из полоненных ордынок брали!
– Тогда все иначе было.
– А разве на ком казаку жениться имеет значение?
– Нет, не имеет! – нехотя ответил отец.
– Тогда выслушай меня, батя. Дорога мне цыганка та. И я… и я ей по сердцу пришелся!
– Лука! Лука! Что ты в башку свою втемяшил? Господи, смилуйся, прости чадо мое неразумное! Несчастный! Чем тебе Авдошка Комлева плоха? Красивая, работящая. У нас с ее отцом уговор об вашем венчании был. Как мы после всего народу в глаза глядеть будем? Срам-то какой, Господи!
– Господь видит, что я поступаю правильно! – воскликнул юноша, становясь на колени перед отцом. – А Авдошка уже не по сердцу мне.
– Что-о-о?!
– Господом Богом молю, благослови нас, батя, и я буду счастлив! Батя, молю тебя, благослови.
– Я? На сею непотребность? – Авдей даже вздрогнул.
– Разве тебе кто это сделать воспрещает?
– Не воспрещает.
– Я не хочу под венец с Авдошкой.
– Цыц, дурень. Как ты в башку себе не втемяшишь, что девка наша, соседская! И не блудня цыганская. Первая красавица на весь городок!
– Да. Но сердце мое по другой сохнет. Увидел Лялю – и точно солнышко в моей душе взошло. Я понял ясно, как мне должно жить далее. Душа моя в один миг от скверны очистилась. Сейчас она тихим покоем наполнилась, верой в Господа, любовью! И словно вошел в меня Святой Дух. И это из-за цыганки, которую я возлюбил всем сердцем!
Отец задумался. Потом поднял руку и не сказал, а отрезал:
– Не будет по-твоему, Лука! Сегодня же брата позову, и думать будем, как сосватать тебе невесту, раз жениться приспичило!
– Авдошку?
– Ее самую.
Лука чуть не набросился на отца с кулаками, но воспитание не позволило ему совершить страшный грех. Юноша лишь сильно побледнел и скрипнул зубами.
– Батя, но…
– Ступай вон навоз вычисти, – перебив сына, грозно глянул на него Авдей. – Себе перечить не дозволяю. Коли еще об цыганке заикнешься, шкуру спущу…
Грозно зарычав, пес Султан рванулся к воротам. Кованная Лукой цепь натянулась, как струна. Казак мгновенно отвлекся от своих тягостных воспоминаний и поспешил к калитке.
– Кто там?
– Это я, Ляля.
За воротами действительно стояла промокшая насквозь цыганка. Дрожа от ночной прохлады и возбуждения, она сжимала руки Луки и бессвязно бормотала:
– Я убежала из табора, я никогда туда не вернусь, я хочу быть только с тобой…
Лука еле ее успокоил, и они тут же отправились к Архипу. Кузнец долго протирал глаза спросонья, не удивившись, впрочем, их появлению, и наконец сказал:
– Гляжу, дело принимает плохой оборот, но раскисать не будем. Надо б посоветоваться с Мариулой. Пошли будить ее, покудова не стряслась беда.
– К Мариуле?!
Лука заколебался и жалобно посмотрел на друга. В его семье старую ведунью недолюбливали и даже побаивались.
– А что? – недоуменно посмотрел на него Архип. – Мариула хоть и стара, но умна очень. Она ещо с атаманом Араповым пришла на сакмарский берег и…
– Айда, – недослушав кузнеца, решительно сказал Лука и взял дрожавшую Лялю за руку.
Тем временем дождь прекратился, а над городком сгустилась такая тьма, что человек, шедший по одной стороне улицы, не смог бы узнать проходивших по другой стороне.
Старая Мариула жила в домике рядом с крепостью. Лука, Ляля и Архип остановились у ворот, и кузнец решительно постучал кулаком в калитку. Их встретил внук Мариулы и провел к крыльцу.
– Бабушка ждет вас еще с вечера, – сказал он, – даже в церковь нынче не ходила.
Гости удивленно переглянулись и вошли в дом. В передней комнате, пол которой был устлан мягкими ковриками, стоял большой дубовый стол. На него была наброшена красивая скатерть; на разных подносах лежали свежие булки, витушки, шаньги, стояли вазочки с медом и мелко наколотыми кусочками сахара. Тут же стоял самовар.
В углу висела полочка с иконами, а чуть ниже – еще одна, на которой теснились книги в красных и коричневых переплетах. На книгах лежала Библия в матерчатом футляре.
За столом сидела старуха с цветным платком на голове.
Взгляд Мариулы был печальным. Явные следы тревоги мешали ей хранить на лице ясный, приличествующий ее возрасту покой.
Она шевельнулась и сделала вид, что хочет подняться навстречу гостям, но кузнец поспешил к ней и, присев рядом, чмокнул в щечку.
– Здравствуй, почтенная Мариула, – сказал он. – Гляжу, ты не хвораешь.
– Милости прошу к столу, люди добрые, – тягуче пропела старуха неожиданно молодым, крепким голосом. – Слава Господу нашему Иисусу Христу, на здоровье покуда не жалуюсь. – И спросила с легкой обидой: – Что ж это тебя давненько не было видно, Архипушка? Совсем позабыл меня?
Не ожидая ответа, прищурившись, Мариула посмотрела на Луку и Лялю.
– Проходите, дорогие, садитесь.
Парень с девушкой пробежали по мягким коврикам к старухе и протянули руки. Она коснулась их кончиками сухих пальцев.
– Это сын Авдея Барсукова и Ляля, цыганка, – представил их кузнец.
– Ведаю о том, – тихо сказала Мариула и улыбнулась молодым. – Я все о вас знаю.
Гости расселись вокруг стола, и старуха сложила перед собой руки:
– Пусть пошлет вам Господь богатство и долгую жизнь.
Мариула налила в пиалы крепкого чаю и вздохнула:
– Э-хе-хе… Какой чай! Душистый, с травами. Такого, как у меня, нигде не сыщешь.
Ведунья предложила отведать яств с подносов, расставленных на столе. Она осторожно пила ароматный чай и вдруг сказала:
– Какая ты, Ляля, ладная и пригожая! Да где же тебя Лука такую сыскал?
В ответ смущенная девушка прижалась к юноше, но ничего не сказала.
– Из табора она сбегла, – проглотив кусочек пирога, уточнил Лука.
– Что ж, пущай покуда у меня поживет. Чую я, что придут ужо за ней.
Лука во все глаза смотрел на старуху. А та молча пила чай, ожидая, когда гости перейдут к волнующей их теме разговора.
– Чую я, вокруг какое-то беспокойство назревает, – сказал наконец кузнец Архип, обращаясь к старухе. – Казаки недовольны…
– Чем же? – спросила Мариула.
– Бес их знает, – пожал плечами Архип. – Слыхал только, что волюшку казачью поубавить хотят.
– Хотят – знать, поубавят, – вздохнула старуха. – У них власть и сила.
– Так амператрица что обещала? – нахмурился кузнец.
– Она и передумать могла. – Мариула вновь наполнила пиалы и взяла из вазочки кусочек сахара: – Ну да будя. О том опосля говорить станем. Много будем о том говорить! Сейчас надо бы о девушке подумать. О судьбинушке ее незавидной.
– О чем это вы? – уставился на старуху Лука.
– Она знает, – неопределенно ответила Мариула, выразительно посмотрев на притихшую Лялю.
– Что она знает? – не поняв, переспросил юноша.
– А ты у нее самой спроси, – улыбнулась ведунья. – Ляля все о судьбе своей и твоей ведает.
Заметив, что девушка замкнулась и не желает ничего говорить, Мариула сменила тему:
– Надо бы десять раз отмерить, один раз отрезать, – осторожно продолжила она. – Теперь казаки не те, что раньше, при атамане Арапове! Упал дух боевой-то. Да и кочевники, к счастью, нынче мало докучают.
– Да я хоть сейчас в бой, – вскочил возмущенный словами Мариулы Лука. – Да я…
– Не те сейчас казаки, и атаман не тот, – словно не слыша юношу, продолжила старуха. – Атаман Арапов что орел был, а нынешний…
В комнате стало тихо. Но пауза длилась недолго.
– Ступайте себе, казаки, по избам, – сказала строго Мариула. – Уже скоро вам предстоит показать свою доблесть и выбрать сторону добра или зла. Господь призовет к подвигу во имя достижения великой цели. Тогда вы и узнаете, с кем правда, а с кем кривда.
– Айда, Лука, – кузнец встал из-за стола и пошагал к выходу.
– А?.. – юноша посмотрел на притихшую Лялю, затем перевел взгляд на Мариулу.
Она улыбнулась:
– Ступай, ступай себе, голубь. Ты ей уже помочь ничем не сможешь.
Как только внук закрыл дверь за вышедшими казаками, старуха посмотрела на Лялю:
– Ну? Судьбу свою знашь, дочка? Али подсказать что?
– Я все знаю, – всхлипнула Ляля, и в ее красивых глазах заблестели слезы.
– Вот и смирись с нею. – Мариула встала и провела ладошкой по голове девушки. – Судьбу не обманешь и ее не изменишь, ибо спустилась она с небес от самого Господа!
– А может… – Не закончив фразу, Ляля зарыдала и, схватив руку старухи, прижала ее к своему лицу.
– Сама ведаешь, что нельзя, – вздохнула Мариула. – А теперь айда почивать. Уже завтра от цыган твоих отбиваться придется.
5
Промозглым весенним днем одинокий путник, прихрамывая, брел по размокшей от обильных дождей дороге. Настроение у него было под стать погоде. Из-за пригорка навстречу ему выехал отряд улан. Заметив всадников, мужчина сошел с дороги и исчез за стволами берез, обильно росших вдоль обочины.
Возглавлявший отряд офицер решил, что это, скорее всего, солдат, оставивший поле боя и пробирающийся в глубь страны. Офицер оглянулся – не сильно ли отстали его подчиненные, потом поскакал по дороге и вскоре настиг путника. Это был человек еще молодой, крепкого телосложения, в перепачканной грязью военной форме. На голове вместо шапки повязана тряпка, на ногах – расползающиеся от избытка влаги сапоги, какие тогда носили солдаты русской армии. Черты его лица были не распознаваемы из-за пышных усов и грязной бороды; глаза черные и живые. В руках он держал увесистую дубину. Когда офицер остановил рядом с ним коня, мужчина спокойно оперся на дубину.
– Кто таков? – спросил улан, положив руку на эфес сабли.
– Ваше благородие, видимо, ослепло, ежели не видит перед собой человека, – дерзко и хладнокровно ответил путник.
– Ты что, охренел, скотина? – грозно крикнул офицер. – Почему ты свернул с дороги?
– Да вот зрением слаб и с разбойниками вас перепутал. К тому же война недалече, и трудно определить, кто вокруг околачивается – солдаты или мародеры-разбойники.
– Думаю, что дезертир ты, хамло нечесаное, – вспылил офицер. – Но ничего, в штабе мы дознаемся, что ты за птаха перелетная! Следуй за мной.
– Извиняй, твое благородие, но мне надо б домой. Прощевай и не поминай лихом.
Незнакомец повернулся к офицеру спиной и собрался уходить.
– А ну стой, собака! – взревел улан и, обернувшись, крикнул: – Эй, солдаты, сюда!
Пустив коней вскачь, отряд быстро приблизился к своему командиру.
– Этот дезертир нагл и слишком дерзок, – указал пальцем на незнакомца офицер. – Мы должны заковать его в цепи.
Путник исподлобья пристально, но без малейшего страха смотрел на окруживших его всадников.
– Кто ты таков? – еще раз спросил офицер, глядя в упор на незнакомца. – С какой части удираешь, скотина?
– Я царь рассейский. Петр Федорович! – с серьезным видом заявил мужчина.
Уланы вначале опешили, но затем дружно захохотали.
– Ты с испугу умом повредился, мужик? Да за такие слова можно не только поркой или каторгой отделаться! – сказал офицер, на лице которого, в отличие от подчиненных, не проскользнула даже тень улыбки.
– Вы ж, почитай, сами видите, кто я таков, так чего воспрошаете? – сказал незнакомец, пожимая плечами.
– Ступай за нами, мужик. – И офицер перевел взгляд на солдат: – Самохин, Никитин, свяжите его веревками, чтобы «его величество» чего-нибудь не выкинуло попутно.
Улан Самохин спешился, отвязал от седла конец повода и направился к дезертиру. В ту же минуту незнакомец угрожающе занес дубину над головой и полным угрозы голосом предупредил:
– Еще шаг – зашибу!
Улан так и застыл на месте с поводком в руках в ожидании смертельного удара, а остальные уланы схватились за сабли.
– Вяжите его, живо, – выхватив пистолет, загремел офицер. – Ежели что, я пристрелю его немедля!
Самохин робко огляделся. Увидев, что Никитин с шашкой наголо идет на мужика, облегченно вздохнул.
– Не дайте ему удрать! – целясь в незнакомца из пистолета, крикнул офицер. – Этот дезертир – человек опасный! Мы должны взять его с собой живым или мертвым!
Уланы пришпорили коней и направили их на бродягу: каждый попытался уколоть его своей саблей. Только офицер держался в стороне – ему было стыдно, что он побаивается этого грозного сумасшедшего, имевшего наглость назвать себя российским царем, давно умершим.
Но незнакомец не испугался наседавших на него со всех сторон улан. Он искусно владел увесистой дубиной и играючи отбивал сабельные удары всадников. Вскоре пара улан была выбита из седла, а остальные в замешательстве отступили.
– Этот мужик – сам сатана! – закричал кто-то из солдат и выхватил пистолет.
Но офицер выстрелил первым.
К удивлению всех, пуля не попала в цель. Ну а незнакомец отбросил дубину и, облизнув губы, хрипло сказал:
– Вот он я. Нате, вяжите!
* * *
Теперь судьба Емельяна Пугачева (а им и являлся незнакомец) зависела от того, как он поведет себя на допросах.
Отряд улан, возглавляемый поручиком Уваровым, расположился в деревеньке Терновка. Причина тому была уважительной: ожидали прихода полка, присоединившись к которому собирались отбыть на фронт. Страдая от вынужденного безделья, Уваров часто чинил Пугачеву допросы, пытаясь вывести дезертира на чистую воду.
Вечером поручик велел привести запертого в хлеву дезертира и, развалившись на лавке у печи, лениво дожидался.
Пугачева ввели в избу. Конвоир расположился у двери, держа оружие наготове, а Уваров встал, потянулся и посмотрел на арестованного. Тот упорствовал. Поручик начинал каждый раз все сначала. «Откуда драпаешь, мерзавец?» Ответ один: «Вы что-то путаете, ваше благородие».
– Остается узнать, откуда на тебе военный мундир, морда? – настаивал поручик.
– Снял с убитого, – твердил незнакомец. – Мундирчик ему уже ни к чему был.
– Почему тогда от меня в лес прятался?
Те же слова, что и раньше: «С разбойниками спутал».
– А почему с дубьем от солдат моих отбивался? Они же в форме государевой были?
Молчание.
– Может, тебе жизнь опостылела? А?
– Ежели бы опостылела, то я бы не сдался, – выдавил из себя мужик.
– И все-таки как тебя зовут, бродяга?
Молчание.
Уваров пробовал завести разговор издалека. Может быть, есть еще какой-то способ развязать язык упрямому дезертиру. Пробовали бить – не помогает. Мужик замыкался, а побои сносил на удивление терпеливо.
Было уже далеко за полночь. По деревне горланили петухи. Поручик снял стекло и счистил нагар с фитиля лампы. Приведший арестанта солдат дремал на скамейке у двери.
– Слушай меня, мерзавец. Мы тебя кормим, лечим от раны, а ты молчишь, как сыч. Думаешь таким образом избежать наказания за дезертирство?
– Премного благодарен за заботушку, твое благородие, а говорить мне не о чем.
– Скажи хоть, для чего царским именем прикрываешься? Самозванца из тебя не получится. Рылом не вышел!
– Как знать, твое благородие, – ухмыльнулся дезертир. – Может, я и взаправду царь твой. Может, придет тот час, когда в ногах моих валяться будешь!
– Молчать, тварь! – заорал Уваров, с которого дерзкий ответ мужика согнал дремоту.
Он в замешательстве смотрел на пленника.
– Ты опять за свое, негодяй? Вот прикажу тебя повесить…
Дезертир поежился, враждебно нахмурил брови, но ничего не ответил.
– Ну? Почему снова царем себя называешь? Думаешь своей брехней заставить меня уверовать в твое сумасшествие?
Пленник немного подумал и сказал:
– Спать я хочу, твое благородие. Вели отвести меня в хлев, а то прямо здесь, в избе, на пол грохнусь.
Закончив фразу, дезертир закрыл глаза.
Все яснее становилось поручику, что мужик хитрит. Да и в плен он сдался для того, чтобы залечить рану на бедре. Уваров догадался, что дезертир поджидает подходящего момента для бегства. Но сбежать из деревни поручик ему не позволит.
– Значит, спать хочется?
– Да, умаялся я, однако.
– Тогда прощаюсь с тобой до утра, – многообещающе улыбнулся Уваров. – До сих пор я только спрашивал. Даже собирался отпустить тебя, если скажешь правду. Теперь хватит, довольно. Теперь буду говорить я. Ну-ка, открой-ка свои бельма лубошные.
Пленник приоткрыл глаза и тревожно посмотрел на поручика, словно спрашивая: «Ты оставишь меня в покое или нет?» Уваров взял в руки плеть и показал ее дезертиру:
– Тебя будут пороть день и ночь, а раны посыпать солью! Если к утреннему допросу не развяжешь свой поганый язык…
Дезертир замер, глаза его сузились. Взгляд его был полон дикой ненависти. Руки начали сжиматься в кулаки, и, чтобы не выдать себя, он втянул их в рукава мундира.
– Что, боишься? – спросил Уваров, взяв трубку и набивая ее табаком. – Я слов на ветер не бросаю!
– Спокойной ночи, твое благородие, – ухмыльнулся пленник. – Ежели мы когда еще повстречаемся, я лично сверну твою хлипкую шейку.
– Уведите его! – закричал вскочившему улану поручик. – Заприте его покрепче и удвойте караул.
Как только дверь за ушедшими захлопнулась, Уваров прерывисто вздохнул и схватил бутылку с самогоном. Отпив почти половину содержимого, он поставил бутылку на стол и заорал:
– Прямо с утра лично сам забью тебя до смерти! Приятных снов, «ваше величество»!
* * *
Охрана пленника была поручена уланам Самохину и Никитину. Зная о крутом нраве и недюжинной силе дезертира, уланы покрепче связали ему руки и ноги и, чтобы пленник никому не мешал, затащили его в амбар.
Утром поручик Пугачева на допрос не вызвал. Страдая от похмелья, он валялся в постели и «глушил» болезнь рассолом. Сторожившие мужика уланы отправились обедать. Самохин вспомнил, что связанного в амбаре дезертира нужно покормить. Он взял со стола краюху хлеба, кувшин с водой. Переступив порог амбара, солдат в испуге отшатнулся и выронил хлеб и кувшин, который разбился.
Крепкая фигура пленника маячила посреди амбара; веревки на его руках и ногах словно растаяли. Оправившись от испуга, Самохин рванулся вперед и схватил пленника за руку, чтобы тот не убежал.
– Как это ты развязался? – воскликнул улан.
Пленник посмотрел на него насмешливо прямо в глаза и тихо сказал:
– Не мешай мне бежать!
– Я не пущу тебя! Ты дезертир и мародер. Тебя повесят!
– Отойди.
Пленник легко, словно муху, стряхнул с себя незадачливого улана:
– Лучше не маячь на моей дороге, а то ненароком в одночасье хребтину перешибу!
– Да я…
– Не хочу грех на душу брать, служивый, – пленник ухмыльнулся, – до тебя еще турок доберется.
Он внимательно осмотрел Самохина:
– А вот одежкой с тобой надо махнуться. Твой мундирчик как раз мне впору придется!
Не успел улан опомниться, как оказался лежащим на ворохе соломы, а дезертир стаскивал с него мундир.
– Я сейчас закричу! – воскликнул улан.
Но его крик не испугал Пугачева. Он лишь ухмыльнулся и, продолжая свое дело, сказал:
– Хотел бы на помощь звать – уже позвал бы. Ежели кто сюда войдет ненароком, враз сверну башку тебе, как куренку. Так что не гневи государя своего понапрасну и не толкай его на смертоубийство своего подданного!
– Разве ты и правда царь? – спросил удивленный Самохин, глубоко переводя дыхание.
– А ты думал!
– А господин поручик говорил, что ты умом тронутый дезертир!
– Ты его больше слушай.
– Тогда почему ты не в столице с царицей, а лешаком по земле бродишь?
– Долго об том сказывать. Как-нибудь в другой раз!
Улан был поражен настолько, что прекратил сопротивление и позволил незнакомцу быстро раздеть себя. Широко раскрыв глаза, он смотрел, как бывший пленник грязного хлева натягивает на себя новенький мундир.
– Ты… – прошептал Самохин.
– Царь я, Петр Федорович Третий, – ответил, примеряя ремень, незнакомец. – Я тот человек, который желает покарать жинку свою, Катьку-паскудницу, за все ее злодеяния и волю народу дать. Волюшку всему народу рассейскому!
Улан вскочил и протянул Пугачеву руку.
– Не сердись, государь, – сказал он смущенно. – Знал бы я, кто ты есть, глядишь, и разговаривал бы по-другому. Я же тебя считал бродягой и сумасшедшим.
– Ничего, как-нибудь переживем, – сказал мужик, горько усмехнувшись. – Когда меня стерва Катька с престола сковырнула, я много по свету странствовал и не такого про себя слыхивал. А сейчас давай-ка я тебя веревками стяну, чтоб от поручика меньше досталось.
Незнакомец быстро и ловко связал ноги и руки Самохина и, прежде чем уйти, спросил:
– Кони где?
– На соседнем подворье, – ответил улан.
– Под присмотром?
– Ага, но караульный Матвей сейчас обедает.
– Пускай себе трапезничает.
На пороге незнакомец обернулся и сказал:
– Передай его благородию, что государь, мол, кланяться велел. Еще передай, что пущай на войне смерти себе ищет. Это для него гораздо лучше будет, нежели со мной опосля баталий встретиться!
6
Устроители Оренбургского края, начиная с Ивана Ивановича Неплюева, в деятельности своей следовали завету Петра Великого: «Свободная торговля и искусное рукоделие составляют изобилие и силу Государства». Неплюев серьезно занимался развитием торговли и промышленности Оренбургской губернии: «…обратил я мое внимание на приманивание к торговле купцов из России, также и азиатов… С 1745 года знатный торг в Оренбурге возымел начало!»
С осени 1743 года Оренбург стал центром меновой торговли с киргизами Малой орды, хивинцами, бухарцами, кокандцами, с персидскими и индийскими купцами. В центре города был устроен Гостиный двор со ста пятьюдесятью лавками, а за городом, за Уралом, на Бухарской стороне – Меновой двор. Неплюев обратился к русским купцам с приглашением торговать в новопостроенном Оренбурге. На приглашение прибыл из Ростова купец Дюков со своей рыбной торговлей, из Симбирска – купец Иван Твердышев, открывший в Оренбурге кабак и торговавший вином. Очень быстро Твердышев отошел от винной торговли и стал владельцем многочисленных железоделательных и медеплавильных заводов Урала.
2 июня 1752 года Коммерц-коллегия издала Указ, которым повелевалось: «Торг в Оренбурге признать ярмаркой и дозволить русским и азиатским купцам продавать и покупать товары оптом и в розницу с платежом пошлин по тарифу…»
Во избежание коммерческой недобросовестности был установлен контроль: каждый купец до начала и под конец торга представлял свои товары на таможню, где делалась им опись и накладывались клейма, которые, во избежание подлога со стороны торговцев, ежегодно менялись.
Таможенным начальникам вменялось в обязанность удерживать от мотовства и пьянства приказчиков и купеческих сынков, а при необходимости применять наказание.
Но отцовские капиталы проматывались с шиком. У молодых богатых кайсаков разгорались глаза, когда они, приезжая на Меновой двор, видели изобилие мехов. Из Башкирии привозили бобров, белок, волчьи и медвежьи шкуры, выдр, горностаев, ласок, шкуры зайцев, куниц, росомах. Из киргизских степей доставляли шкурки сурков, сусликов, корсаков и бабров (бабр – тигр, обитавший в основном в зарослях камыша). С Волги везли выхухолей. Все это великолепие можно было покупать как поштучно, так и возами. Цены тоже радовали глаз: бабры продавались от 5 до 13 рублей за штуку, выдры – по 1 рубль 20 копеек, бобры – по 1–1,5 рубля, корсаки – по 40 копеек, куницы – по 50 копеек, лисицы – по 80 копеек, а норки – по 13 копеек, горностаи – от 12 до 15 копеек. Шкуры волка шли от 60 копеек до 1 рубля 20 копеек, медвежьи шкуры – от 80 копеек до 1,5 рубля…
Степные франты от этого изобилия порой переставали соображать: какую шкуру выбрать на широкие шаровары, такие широкие, что взрослый человек свободно мог поместиться в каждой штанине. Какой мех нынче будет в моде – гладкий или пушистый? Покуда отцы-толстосумы покупали быков от 2 до 4 рублей за штуку, козлов – от 30 до 60 копеек, баранов по 70 копеек, сынки втихаря тратили денежки на бархат, сукно, парчу, шелковые ткани, ленты, тесьму, зеркала, румяна, белила, бисер, браслеты и серьги из золота и серебра. Особым шиком считались у молодых степняков серьги величиной с кулак. С должным старанием украшалась и лошадь: на ноги надевались браслеты, в уши – серьги, хвост и грива унизывались бусами и украшались филиновыми перьями, которые предохраняли от дурного глаза.
Капризные богатенькие щеголи должны были вести себя прилично в аулах влиятельных султанов и богатых кайсаков, иначе бы им не поздоровилось. Не делались исключения и для распущенных сынков русских купцов. Наказывали строго по Указу Петра Первого от 5 апреля 1709 года: «Нами замечено, что на невской першпективе и на ассамблеях недоросли отцов именитых, в нарушение этикету и регламенту штиля, в гишпанских камзолах и панталонах с мишурой щеголяют предерзко. Господину полицмейстеру С. – Петербурха указываю впредь оных щеголей с рвением вылавливать и сводить в Литейную часть и бить кнутом изрядно, пока от гишпанских панталон зело похабный вид не окажется. На звание и внешность не взирать, а также и на вопли наказуемого…» Естественно, в оренбургских степях этот указ получил индивидуальное объяснение.
* * *
Ярмарка в Сакмарском городке, конечно же, уступала по размерам Оренбургской. На небольшой площади у церкви, в центре городка, теснились низенькие дощатые лавчонки, где торговцы продавали за гроши масло, молоко, хлеб, а также сальные свечи и прочие мелочные товары для будничных потребностей.
Погожим выдался апрельский воскресный день. В небе, словно диковинные птицы из неведомых краев, реяли румяные облачка. Из всех улиц и переулков стекались казаки к церкви.
Авдей и Груня Барсуковы, сопровождаемые Лукой и младшим сыном, Макаркой, поднялись по каменным ступеням и вошли в большой ярко освещенный притвор: церковь уже была заполнена народом. На позолоченном иконостасе горели свечи.
Над головами сакмарцев, в высоком куполе церкви, облаками двигались волны ладана.
Входящие в церковь набожно крестились и протискивались сквозь толпу молящихся за свечами.
Около правой стены церкви молился атаман Данила Донской. Полный, багрово-красный, в кителе, увешанном медалями. Среди просто одетых казаков атаман был само величие. Не утратившие суровости даже в церкви его глаза под сросшимися черными бровями словно прожигали насквозь каждого, кто входил в церковь или проходил мимо.
Тягостное душевное состояние Луки в церкви прошло: кругом все было торжественно, празднично и спокойно. Выходя из церкви по окончании службы, юноша увидел кузнеца. Тот поманил его пальцем.
Архип вывел Луку из толпы и, склонившись к уху, прошептал:
– Там, на площадь, цыгане всем табором пожаловали.
– И много их? – насторожился юноша.
– Как грязи в распутицу, – ответил Архип. – Видать, табор числом немалый.
– А Ляля? – забеспокоился Лука.
– Она у Мариулы. Я ужо послал к старухе Ерошку Бочкарева, чтоб упредил…
Цыгане на площади были настроены решительно. Похоже, что они действительно пришли все – от мала до велика. Пылкие, горячие люди, они были готовы отстоять свое даже ценой собственной жизни.
Во главе толпы на легкой бричке восседал глава табора – спокойный, внимательный. Его черная с проседью борода словно выточена из камня; руки лежали на коленях. Рядом с ним стоял молодой цыган – неистовый, дерзкий. Глаза его беспокойно бегали по выходящим из церкви людям, словно отыскивая кого-то. Он – как заряженная пушка, готовая каждую минуту выстрелить.
Увидев спускавшегося по ступенькам атамана, вожак резво спрыгнул с брички и поспешил к нему навстречу. Молодой цыган двинулся следом. Остановившись перед Донским, вожак сорвал с головы шапку и, улыбнувшись, сказал:
– Доброго здравия тебе желаю, атаман!
Тот недоуменно посмотрел на преградившего ему дорогу барона и, нахмурившись, спросил:
– Чего тебе надо?
Цыган невольно поежился. Он не ожидал такого недружелюбного вопроса. Но, быстро справившись с собой, сказал:
– С жалобой я пришел к тебе, атаман.
– С жалобой?
Донской мгновенно напрягся и посмотрел на цыгана с плохо скрываемой враждебностью:
– И на кого же жаловаться изволишь?
– На казаков твоих, – не дрогнув, ответил вожак.
– Что ж, жалуйся. – Атаман подбоченился и, не замечая сотен любопытных глаз, одарил цыгана брезгливым взглядом.
– Они девку Лялю из табора умыкнули, – продолжил вожак. – А она невеста моего племянника Вайды!
– Кто умыкнул, знаешь? – нахмурился Донской.
– Я это, – вступил в разговор кузнец, подходя к атаману и закатывая на ходу рукава рубахи.