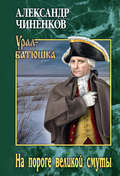Александр Чиненков
Форпост в степи
Мать Ляли тоже владела неведомой силой, но рано умерла. Каким-то образом она успела передать маленькой дочке свою силу. Владеть этой силой вровень со знахарскими премудростями Лялю уже обучала тетка.
Убедить маленькую Лялю верить в то, что другим знать не дано, было очень трудно. Что только ни делала упорная Серафима, чтобы девчонка смирилась: привязывала к телеге, запрещала даже выглядывать из шатра, заставляя учить молитвы, наговоры, выполнять различные магические ритуалы.
Однажды наступил момент, когда Ляля поняла, что нельзя отказываться от того, что тебе дано. Вспомнила все, чему учила тетка. Ездила по родне, в другие таборы с целью узнать что-то новое…
Рассказ Ляли прервал осторожный стук в дверь, и в избу вошла симпатичная молодая казачка. Помялась, стесняясь, у входа, а потом ее вдруг словно прорвало. Сидя на краешке стула, тараторила без умолку. Все-то у нее в жизни – и дома, и везде – хорошо. Да вот только выйти замуж не за кого. Никто не сватает. Одни женатые попадаются. А ей так хочется иметь своего, не чужого мужа и детей от него. Может, приворот какой Мариула сделает?
– Ни за что не буду! – отрезала Мариула, потягивая из чашки чай. – Как-то разок я уже приворот сделала Агашке Матвеевой, чтоб мужик налево не хаживал. Дык тот и действительно бросил по бабам шастать, но начал пить запоем. А через несколько лет помер, сердешный. Так что привороты более не делаю!
– А может, на ней венец безбрачия? – предположила Ляля.
– Может быть, – согласилась Мариула и внимательно посмотрела на смущенную девушку. – Снять его сможешь?
Кивком Ляля дала свое согласие. Вместе с Мариулой они собрали во дворе цветы, в основном васильки и ромашки. Пришедшая за помощью Полина, сев в горнице на небольшой коврик, начала плести венок. Ляля тем временем готовилась к ритуалу. Мариула принесла ей большой таз, кувшин и маленькие мешочки с необходимыми для обряда вещицами.
Полина разделась, надела на безымянный палец серебряное колечко, на голову – венок. Ляля зажгла большую красную свечу, которую дала ей Мариула, и началось таинство. От властного голоса Ляли по телу Полины побежали мурашки.
– Нечисть в воске отражайся! – крикнула Ляля и вылила растопленный воск над головой притихшей казачки в чашку.
Обряд снятия венца безбрачия, как знала Ляля, предполагает и одновременное очищение от возможной порчи. Когда все было закончено, женщины стали рассматривать, что же вылилось на воске. Очертания напоминали старушку в гробу.
– Хотела бы я знать, кто это сотворил? – сказала под впечатлением пережитого Полина.
На прощание девушки расцеловались, и казачка, уходя, обещала забежать, если Лялины прогнозы сбудутся.
– А что ты еще можешь? – спросила у Ляли Мариула, как только они снова остались вдвоем.
– Все, чему успела обучиться, – ответила девушка. – Тетя Серафима говорила, что помимо того, что тебе природа дала, нужно не только знать, но и уметь применять свои знания. Такие, как я, ведуньи, у цыган всегда учатся и проходят посвящение раз в год в день летнего солнцестояния.
Мариула вся светилась от счастья. Она так посмотрела на девушку, что Ляля смутилась и покраснела.
– Ты, верно, и в травах целительных толк знаешь? – спросила ведунья, даже не сомневаясь в положительном ответе.
– Да, – кивнула девушка.
– А ну-ка… – Мариула открыла крышку сундуку и начала спешно извлекать из его недр всевозможные мешочки и свертки с целебными травами. Разложенные на полу, они заняли столько места, что ногу поставить было некуда. А Мариула указала на них Ляле и сказала: – А ну… покажи свое умение.
Мариула со знанием дела рассказывала о каждой травке и что ею лечат.
– Тебя ко мне сам Господь послал, дочка! – Мариула обняла девушку и поцеловала ее в лоб. – Будешь жить со мной. Я тебя еще многому научу!
– Я бы рада, но судьба мне иное сулит, – вздохнув, ответила Ляля.
Мариула взяла ее руку и несколько минут внимательно рассматривала рисунок на ладони. Затем она покачала головой и сказала:
– От кузнеца Архипа робеночка приживешь. О том ведаешь?
– Да, – кивнула девушка. – Случится это уже скоро!
– А сердце твое по Луке сохнет, – сказала Мариула.
– О нем, – вздохнула Ляля.
– Тогда почему отрекаешься от него?
– Судьба велит.
– Вижу сама, но почему?
– Он черен душой и несчастен, как и я. И мне неможно под венец идти!
– Но и Лука по тебе сохнет?
– Ведаю я. Он еще полюбит свою Авдотью.
– Когда тебя не будет?
– Да.
Мариула замолчала. Она прочла по руке Ляли намного больше, чем сказала.
– Может, к чайку приложимся? – предложила ведунья и потрогала самовар. – Подогреть придется. Поостыл совсем.
– Он в самый раз согреется к приходу гостей, – без тени улыбки на лице сказала Ляля. – Кузнец уже к тебе спешит. А чуть позже Полина снова явится.
Не существовало тех вещей или слов, которые могли бы удивить старую женщину, но слова, брошенные девушкой, поразили ее.
– Для какого ляду они пожалуют?
– Кузнец боль свою душевную к тебе несет. А казачка… Она принесет две новости. Одну хорошую, другую – плохую.
* * *
Кузнец не спеша шагал к дому Мариулы, приветливо здороваясь со всеми, кто встречался по пути. Но на душе было неспокойно. Ссора с Лукой расстроила его, а нападение цыгана разозлило.
Ярость то вскидывалась в Архипе дико и необузданно, словно пламя, в которое подбросили дров, то спадала под леденящим холодом от осознания того, что вело его сейчас к старой ведунье. «Я понимаю твою боль, Лука, – думал кузнец. – Жаль, что ты не понял мою!» В конце концов он убедил себя в том, что ссора их ненадолго. А вот подлый цыган…
Невеселые мысли исчезли, едва он взглянул на крепость, мимо которой проходил.
Высокий частокол окружал крепость. Когда-то за этим забором жили отважные соподвижники атамана Василия Арапова. У стен гремели бои с кочевниками, а внутри, за частоколом, шумели пиршества в честь побед над врагом. Много рассказывала Мариула о тех героических днях. Много бы отдал Архип, чтобы родиться раньше и прибыть на Сакмарскую землю не в поисках блудного отца, а с отважной ватагой атамана Василия Арапова…
Кузнец не заметил, как подошел к дому Мариулы. У крыльца он почувствовал некоторое облегчение, но едва коснулся двери, как страх неизвестности навалился на него неизмеримой тяжестью. Он даже не мог вздохнуть полной грудью. Ему вдруг захотелось вернуться в свою кузницу и работать до полного изнеможения. Он не знал, что делать. Но потом вспомнил, зачем сюда шел, и это немного успокоило и взбодрило его.
Мариула встретила его приветливо.
– Ну вот, Архипушка, самовар зараз и вскипел. Подсаживайся к столу!
– Спаси Христос, – поблагодарил кузнец и прошел к столу.
– Да на тебе лица нет! – покачала головой Мариула, подавая ему чашку с дымящимся ароматным чаем. – Беда какая стряслась?
– Душу облегчить хочу, – даже не взглянув на предложенный чай, сказал он. – Что-то не ладится у меня в последнее время.
– Что ж, послухаем о неладах твоих, – поглядев на притихшую Лялю, сказала Мариула. – Выкладывай, с чем пожаловал. Облегчать душу иногда благостно. Но лучше бы в церковь к батюшке сходил, причастился бы да и исповедался! Из церкви, а не от меня ведет к сердцу Господа дорога.
– Вся жизнь моя такая большая дорога, – вздохнул Архип, – что давно бы пора умаяться и упасть. А я еще двигаюсь. Устаю от одиночества. А в твоем доме и усталость проходит, и даже горе мое становится как будто меньше.
Мариула сложила перед собой на столе руки и внимательно посмотрела на кузнеца. А тот одним глотком выпил горячий чай, после чего рассказал женщинам о своей ссоре с Лукой и о покушавшемся на его жизнь цыгане.
Как только кузнец замолчал, Мариула посмотрела на нахмурившуюся Лялю и спросила:
– Ну? Что ты скажешь о сем, дочка?
Вместо ответа девушка взяла большую ладонь кузнеца и пристально вгляделась в обозначенные на ней линии.
– Вайда – темный человек, – сказала она. – До того, когда его поглотит ад, он много горя и страданий принесет людям.
– И что, это написано на моей ладони? – удивился кузнец.
– А с Лукой дорожки ваши разошлись, – словно не слыша, продолжила Ляля. – Его жизнь полна лишений, горя и лютой злобы. Дорожки ваши пересекутся, но не сблизят вас, хотя и врагами не сделают!
– Это все? – выдохнул Архип, видя, что девушка закрыла глаза и отпустила его руку.
– Нет, – прошептали ее губы. – Ты не услышал того, что хочешь услышать более всего на свете.
– Это ты про отца? – перешел на шепот подавленный услышанным кузнец.
Ляля крепче сомкнула веки и сказала:
– Обскажи про отца, раз пришел. Лишь потом я смогу тебя огорчить или успокоить!
Девушка слушала сбивчивый рассказ Архипа с закрытыми глазами и каменным лицом.
Когда тот, рассказав о встрече с казаками в кабаке, замолчал, Ляля открыла глаза и чуть заметно улыбнулась.
– Когда я увидел Лариона, зараз обомлел, – продолжил Архип. – Аж жуть взяла, до чево мы с ним схожи!
Он закашлялся от волнения. А Мариула заботливо пододвинула к нему чашку с чаем:
– Испей, касатик, да успокойся.
Она посмотрела на Лялю, словно спрашивая разрешения, и, не услышав возражения, продолжила рассказ кузнеца:
– Сходство Лариона с Архипушкой заметили все. Но они были не столь схожи, как втемяшил в свою головушку Архип. Я много раз приглядывалась и невольно диву давалась: и впрямь схожи! Сходство двух людей при желании завсегда сыскать можно. У Архипушки нос особенный, тонкий, с горбинкой. У Лариона тоже! Волосы, глаза тоже схожи. И ростом одинаковы. Казаки не раз говаривали, дескать, вылитые малец с батькой!
Мариула отпила глоток уже остывшего чая и взволнованно продолжила:
– Как-то заглянул ко мне Лариошка, чтоб ему пусто было. От угощений отказался. Прознал, видать, стервец, что Архипушка ко мне заглядывает. Ну и давай выведывать, злыдень эдакий, откуда он родом, кто его родители, живы ли? А я, не будь дурой, все ему и пообсказала. Узнав обо всем, Лариошка в лице зараз сменился и поведал, что бывал в тех краях, откуда Архипушка родом. Но признать его сыночком наотрез отказался. И я ему поверила. Лариошка сказывал, что ведомо ему, кто отец Архипушки, но назвать его пужается! Говорит, что и на смертном одре тайну сею не выдаст. Вот как!
– А что ты скажешь? – как только Мариула замолчала, обратилась к кузнецу Ляля.
– Я много раз к Лариону подходил, – угрюмо ответил Архип. – Но он всегда от меня открещивался и шарахался при встрече, что чертяка от ладана. Да мне ж сам барин о том поведал.
– Барин не ведал того, о чем молол его язык. – Девушка посмотрела на притихшую Мариулу. – Дайте мне карты.
Разложив колоду, она внимательно изучила расклад, после чего заговорила:
– Ларион не твой отец! Твой отец…
Ляля смутилась. Умолчав об отце Архипа, продолжила:
– Уже скоро вспыхнет великая смута. Прольется много крови. Смуту принесет за собой страшный человек, который будет называть себя Государем Россейским! Много людей разных поглотит смута. И тебя не минует доля сея лихая, Архип! Проявишь себя достойно – жив останешься! Спасуешь и совесть свою переступишь – сгинешь с позором.
Девушка смешала карты, сложила их в колоду и вернула напряженно на нее смотрящей Мариуле.
– Про отца мне поведай, Ляля, – облизнув губы, прошептал кузнец. – Ежели не Лариошка, тогда кто он?
– Придет то время, и вы встретитесь, – загадочно ответила цыганка.
– И долго мне ждать его?
– У Господа спроси, он лучше знает.
– А ты? – судорожно глотнув, спросил Архип.
Но ответа на свой вопрос ему услышать не довелось. В дом вбежала казачка Полина, с которой Ляля снимала венец безбрачия, и выпалила:
– Тетка моя Марфа представилась. Матушка сказала, что случилось это в самый раз тогда, когда я у вас венец безбрачия снимала! Знать, она на меня порчу навела. Господи, зачем ей это надо было?
12
Емельян Пугачев очнулся от крика. Кричал умиравший на соседней кровати тульчанин Лукьян Синицын. В чумной барак парня перенесли уже искалеченным взрывом, а врачи отказывались его оперировать, боясь заразиться «черной хворью».
– Скоро отмается, сердешный, – сочувственно вздохнул Василий Кабанов, пожилой солдат, лежавший слева от Пугачева.
– А мне вот покойные родственники по ночам снятся, – вздохнул раненый Кузьма Федоров, призванный на войну из-под Пскова, из деревеньки Веснушка. – Я их гоню, матерю даже, а они все приходят и приходят. Сядут на край кровати и молчат, собаки их задери.
– Помрешь скоро, – вздохнул Кабанов.
– А вот мне приснилось, – вступил в разговор казак Ерема Портнов. – Возвернулся домой я, в Яицк, вхожу в избу, а там гроб стоит, да такой красивый, мне аж понравился! Подхожу я, значится, к гробу тому да и лег внутрь. И так мне в нем удобно стало и хорошо, аж вылезать из него не хотелось…
– Тоже помрешь, – «успокоил» его Василий Кабанов. – Все мы здесь помрем не от ран турецких, а от чумы треклятой!
– Слышь, не скули там, пес шелудивый! – рыкнул на Кабанова Кузьма Федоров. – Еще про смерть молоть чего будешь, сапогом запущу!
– Где я? – прошептал Пугачев, и спорщики тут же прекратили перебранку.
– Емелька, ты это? – воскликнул Ерема Портнов. – А я вот бо́шку ломаю, ты – не ты? Одежку уланскую где-то раздобыл?
– Где я, братцы? – опять спросил Пугачев, пытаясь приподнять голову и оглядеться.
– В госпитале ты, как и мы все, – ответил Портнов. – Санитар давеча говорил, что подобрали тебя где-то в поле, далеко от войны. Раненого и чумой зараз смореного!
– Раз в память вернулся, знать, выкарабкаешься, – заверил его Матвей Галыгин. – Примета здесь такая верная имеется!
– Сам знаю, что не помру, – вздохнув, прикрыл глаза Пугачев. – Рано мне еще помирать-то.
– А мы, грешным делом, думали: все, – усмехнулся Портнов, – помрет улан безымянный!
– Как же, помрешь тут с вами, – сказал Пугачев и поискал взглядом Портнова. – Орете, как быки на кастрации. Уже успевших помереть из могил зараз подымите.
Удивительное дело – он лежал в госпитале, а не в окопе или в могиле. Гул в ушах обволакивал все густым туманом, за которым что-то происходило, порой доносились голоса соседей по кроватям или слышались шаги санитаров. А ему было все безразлично, ведь болезнь спасала его от смерти на фронте. Мысль о том, чтобы встать, вызвала в теле предчувствие боли.
Вошедший санитар быстро подошел к лежанке Пугачева. Емельян резко, хрипло раскашлялся, грудь его сотрясалась. Тело горело от высокой температуры. Санитар влил ему в рот какое-то лекарство и ушел.
Пугачев вдруг ощутил приближение смерти. Внутри у него все трепетало – легкие, кости, сердце… Конец так конец. Умирать, как оказалось, не так уж и страшно.
Но постепенно внутреннее трепетание затихло, и боль начала проходить…
* * *
Болезнь долго не отпускала Пугачева из своих цепких объятий. Соседи в бараке сменились несколько раз: кто-то из них выздоравливал, а кого-то санитары выносили из барака прямиком на кладбище.
Чума еще давала о себе знать в российской армии, но постепенно отступала. Но на смену ей стремилась не менее тяжелая болезнь – азиатская лихорадка.
Пугачев откровенно завидовал выздоравливающим и от всей души сочувствовал умирающим. Душу томила неясная тревога, которая отгоняла сон. Не спавшего уже несколько ночей кряду Пугачева разморило и клонило в этот день ко сну.
Он видел степь. Но она показалась ему унылой и однообразной, как азиатская пустыня. Емельян знал степь хорошо и любил ее. Пугачев любил бескрайние просторы, любил утренние и вечерние степные зори, любил многоцветье и разнотравье, любил запахи трав…
Он дремал и видел хороший сон. В это время кто-то уселся на табурет рядом с кроватью и легонько потряс его за плечо. Пугачев с трудом разлепил веки и увидел довольное лицо походного атамана Грекова.
– Вот, значит, ты где хоронишься, стервец? – улыбнулся доброжелательно атаман. – А мы тебя прямо обыскались все. Среди убитых нет, среди раненых тоже не сыскали. Думать начали, что убег, дезертировал наш храбрый хорунжий Пугачев!
Ни дремать, ни спать Емельян уже не мог: короткое забытье подкрепило его силы, а пришедший его навестить атаман и вовсе разогнал сон.
– Чего пялишься, будто на Христа распятого? – еще шире улыбнулся Греков. – Ей-богу рад, что хворый ты, Емеля, а не дезертир пакостный.
– Как житуха там у вас? – спросил Емельян.
– А что нам будет? – рассмеялся атаман. – Лупим турков в хвост и гриву! Им сейчас не слаще нашего приходится. Болезнь не щадит как наших, так и их. Как косой, косит басурмановы ряды!
Греков замолчал. Лицо его сделалось задумчивым и даже мечтательным, сосредоточенным на какой-то недосказанной, но, очевидно, захватившей его мысли. Атаман машинально теребил торчащие усы. Потом улыбнулся и замурлыкал под нос, как разнежившийся на весеннем солнышке мартовский кот.
– А я слыхал, что ты в бреду государем Петром Третьим себя величал? – вдруг спросил он. – Ты, случаем, не рехнулся зараз от хвори, Емеля?
– Что в бреду не ляпнешь! – уклонился от прямого ответа Пугачев.
Греков облегченно вздохнул и перекрестился:
– Ну, тогда слава Господу. А я черт-те что про тебя подумал. И ты помолись Господу Богу, Емеля, в сорочке, видать, сродился ты: ни рана тяжелая на смерть не обрекла, ни хворь черная!
Атаман доверительно коснулся руки больного:
– А что, ты и впрямь на помершего императора похож. Мне доводилось покойничка еще живым лицезреть! Ну давай не хворай, Емеля, а мне пора ужо.
Проводив Грекова взглядом, Пугачев облегченно вздохнул. Его внимание вдруг привлек всхлип с соседней кровати. На ней лежал ожидавший выписки молодой артиллерист Фома Гусев. Емельян дотянулся до него рукой и участливо окликнул:
– Ты чего, хнычешь, что ль?
Фома сел в постели, он хотел что-то сказать, но губы его затряслись и выдавили непонятные звуки. Пугачев решил – лихорадка! – и тронул было лоб парня, чтобы определить, есть ли жар, но Гусев грубо оттолкнул его руку и с озлоблением, готовым прорваться слезами, закатал штанину и выставил ногу с небольшими бурыми пятнами.
– На-ка вот, подивись.
– Лекарю о том обскажи и еще лечись, – посоветовал Пугачев.
– Говорил уже, – буркнул Фома.
– И что?
– Козел он безрогий, а не лекарь!
Пугачев никогда не видел Фому таким возбужденным и несдержанным. Он с любопытством разглядывал его и слушал его злые, порывистые слова.
– Домой хочу, в отпуск. Не хочу больше торчать в этой вонючей яме! А козел этот лекарь, чтоб пуля ему промеж рог угодила, мне и говорит: «Что ты, что ты, у тебя легкая форма…» Так что должен я, видишь ли, ждать, когда форма, будь она неладна, будет тяжелой? Насрать я на всех хотел…
Пугачеву было противно и одновременно жаль его. Он успокаивал Фому как умел. Но, успокоившись, тот сказал упрямо:
– Пущай делают со мной что захотят, но я здесь, на войне, больше не останусь. И олух я царя небесного, что не утек отсюда еще осенью.
Вечером все население госпитального барака долго пробовало успокоить Гусева. Но Фома не слушал никого. Он был таким, каким его еще никто не видел за время лечения: он ругался, матерился, орал, а на глаза наворачивались слезы.
Тогда Пугачев, побледнев от гнева, скинул с себя одеяло и показал Гусеву ноги в цинговых пятнах.
– Ну что? И мне теперь реветь зараз с тобою?
Фома смотрел на ноги Емельяна. Затем, отвернувшись к стене, накрыл голову подушкой и затих.
А утром его нашли висящим у входа в барак.
– Эх ты, придурь! – вздохнул Пугачев и, словно ничего не произошло, лег снова спать, закрывшись с головой одеялом.
13
Оренбургский военный губернатор – генерал-поручик Иван Андреевич Рейнсдорп, слушал доклад председателя Следственной комиссии полковника Неронова. К полковнику губернатор относился с прохладцей. Иван Андреевич смотрел на председателя комиссии и силился понять: откуда вдруг в этом изысканно-вежливом и всегда чуть ироничном столичном офицере взялась такая хватка?
– Вот так все и выглядело, – закончил доклад полковник и вложил лист в кожаную папку.
Но губернатора, который ровным счетом ничего не понял, подобное повествование отнюдь не удовлетворило.
– Постой, давай сначала, – сказал он. – Когда, говоришь, казаки взбунтовались?
– Тринадцатого января сего года, – без запинки ответил Неронов.
– А ты сам сюда, в эту помойку, напросился?
Полковник поморщился. Ему не понравились вопрос и тон, которым он был задан. Но он заставил себя улыбнуться и четко, по-военному, ответить:
– Так точно. У меня были на то причины.
– А какова причина бунта казаков яицких?
– Так я же докладывал только что! – удивился Неронов.
– То было по-казенному. А я вот хочу послушать по-простецкому и более понятному!
Но до Ивана Андреевича все еще не доходило, почему императрица прислала именно Неронова. А этот хлыщ столичный хоть сам-то понимает, куда попал? Губернатор внимательно осмотрел форму полковника: новенькая, а с ножен сабли свисает крепкий узел из желтой хлопчатобумажной тесьмы вместо блестящей золотой канители; но при этом мундир как с иголочки, без единого пятнышка.
– Так что? Почему казаки взбунтовались-то?
– Давно у них назревало, – пожав плечами, перешел с казенного на нормальный тон Неронов. – Еще с 1762 года. Атаман Меркурьев со старшиной Логиновым разошлись во взглядах, и потому казаки яицкие тоже разделились. Те казаки, что Меркурьева поддержали, помалкивали. А кто занял сторону старшины, так те все жаловались на притеснения разные от канцелярии, учиненной в войске правительством!
– А на что жаловались? – полюбопытствовал губернатор.
– Так я ж… – Неронов спохватился, откашлялся и продолжил: – Жалованье недоплачивали, налоги выдумывали, да и права и обычаи рыбной ловли как будто поурезали. На жалобы чиновники не реагировали!
– И что, за то и бунтовать вздумали? – усмехнулся губернатор.
– В тысяча семьсот шестьдесят шестом году генерал Потапов, а в шестьдесят седьмом генерал Черепанов усмиряли казаков. Многих примерно наказали.
– Видать, мало наказали, раз снова бучу поднимают. – Иван Андреевич наконец-то указал Неронову на стул: – Присаживайтесь, полковник. По глазам вижу, что вам еще есть о чем мне сказать.
Неронов недоумевал. «Непонятливость» оренбургского губернатора удивляла его, раздражала и настораживала.
– Тут еще калмыки свою лепту внесли к недовольству казаков.
Иван Андреевич что-то записал и посмотрел на полковника:
– Ты про тех калмыков, что кочуют ордами по степям между Волгой и Яиком? Но они России всегда верно служили. И границу охраняли.
– Так что калмыки-то учудили? Они же мирные, как овцы?
– Прижимать их зря много приставы начали. И они сбежали. В Китай.
– Ку-у-да?
– По киргизской степи в Китай! – уточнил Неронов.
– А казаки тогда почему взбунтовались?
Прежде чем ответить, полковник ненадолго задумался:
– Даже не знаю, как сказать.
– Как скажешь, так скажешь, – кисло улыбнулся губернатор. – Я пойму!
«Как же, поймешь, тупица! – зло подумал Неронов. – Доклад зачитал, а ты ничего так и не понял!» А вслух сказал:
– Яицкому войску велено было в погоню за калмыками двинуться. Их задача – остановить беглецов и возвратить обратно! Но казаки отказались исполнять повеление. И… взбунтовались! Потому мне поручено было возглавить Следственную комиссию.
– И что вы выявили?
– Под предводительством казака Кирпичникова подошли к дому капитана Дурнова и потребовали выдачи якобы задержанного жалованья. Генерал-майор Траубенберг приказал им разойтись. Но казаки проявили неповиновение. Они набросились на Траубенберга и его солдат. В результате генерал был убит, Дурнов изранен, членов канцелярии взяли под стражу, а на их место посадили «свое начальство»! Они даже, набравшись неслыханной наглости, отправили своих выборных в Петербург. Но не пощады просить за мятеж, а оправдать свой бунт кровавый! Но из Москвы для усмирения и наказания бунтовщиков был послан генерал Фрейман с отрядом гренадеров и артиллерией. Фрейман наголову разбил бунтовщиков. Бежавших переловили, остальных усмирили.
– И теперь разбираешься с бунтовщиками ты.
– Так точно, ваше высокопревосходительство!
– Много их в Оренбург понагнали? – подводя черту, спросил губернатор.
– Много, – ответил Неронов.
– Мест в тюрьме хватило?
– Нет. Кого не поместили, от вашего имени рассадили по лавкам Гостиного и Менового дворов.
– Ах, да, – вспомнил губернатор, – я действительно подписывал такое распоряжение. Так чего им ожидать?
– Видите ли, должно же как-то наказываться человеческое упрямство, – улыбнулся полковник. – Особой строгости проявлять не велено, но меры будут приняты соответствующие.
– Ладно. Как вы устроились?
– Ничего. Думал, хуже будет!
* * *
Полковник Неронов уселся за стол в тюремном дворике и крикнул приставу:
– Давай, подводи по одному.
Первым подошел угрюмый казак, вид которого говорил, что он покорен, но пока еще не сломлен. Неронов нахмурил брови и сжал кулаки:
– Как звать, сволочь?
– Дык Ивашка я… Ивашка Ковшов я.
– Почему против государыни бунтуешь, вор? – крикнул полковник.
Видимо, давность минувших событий несколько подействовала на мыслительный процесс туповатого казака, и он, пожав плечами, промолчал.
– На площадь в Яицке зачем ходил? – продолжал допытываться Неронов.
– Дык, почитай все зараз ходили. И иконы в церкви брали, за то каюсь, твое высокородие!
– Только за это? – удивился полковник.
– А за что ж еще? – не меньше его удивился казак.
Неронов вскочил, подошел к казаку и ухватил его за густые волосы:
– Генерала Траубенберга бил?
– А кто его знает, – стиснул зубы казак. – Лупили кого-то. А генерал он или нет, ей-богу, не ведаю!
– Приведите Коровина! – крикнул полковник, не отпуская казака и продолжая пристально глядеть в его бегающие глаза.
Привели Коровина и поставили рядом с Ковшовым. Удлиненное лицо казака хранило какое-то сонное, тупое выражение. Потускневшие глаза смотрели в землю.
– Этот бунтовщик бил генерала? – спросил Неронов у Коровина.
– Может, и он… А может, и не он…
Коровин посмотрел на Ивана Ковшова. Было видно, что он узнал его и улыбнулся беззубым ртом, но улыбка тут же сменилась жалкой гримасой страха.
– Так ты его узнаешь? – спросил полковник.
– Узнал, – вздохнул Коровин и снова опустил глаза в землю.
Неронов приказал увести Коровина и вновь «навалился» вопросами на Ковшова:
– Ну?
– А я что? – ухмыльнулся казак. – Я ж говорю, что лупцевал офицера какого-то. А генерал он или урядник – ни сном ни духом не ведаю. Народу-то тьма было, и все лупили его.
Ковшов не таясь рассказал об избиении, которому был свидетелем и участником одновременно. Конечно, главным виновником он себя не выставлял. Неронову стало ясно, что ничего интересного он от казака не узнает.
– Куда пошли потом?
– Куда мы пошли? – переспросил казак.
Руки его заметно затряслись, он быстро сунул их под мышки. Ковшов не был хитер, не умел лгать, но тем не менее и он разобрался, какая опасность таится в этом вопросе для него.
– Пошли туда, куда и все зараз пошагали, – еле выдавил он из себя.
– Кто именно и куда пошел?
– Все, кто был.
– Тогда перечисли, кто был!
Казак поднял на Неронова широко раскрытые, полные недоумения глаза.
– Ваше высокородие, вы же зараз обещанье дали. Ежели правду скажу, живой останусь? Вы же…
Полковник размахнулся, но не ударил:
– Хочешь, сейчас в рыло твое бородатое заеду? Ты, гад, пока еще мне ни правды, ни полуправды не сказал. Говорить будешь?
Он поднес кулак Ковшову под нос:
– Видел?
– Когда войско на нас пошло, все зараз супротив грудью встали. – Казак запнулся и тяжело задышал, как после долгого бега. – А когда войско разбежалось, мы всех зараз лупить стали, – проговорил он, еще больше бледнея. – Генерала того у избы словили. И все его зараз лупцевали чем ни попадя. А я… а я лишь пнул разок сапогом легонько.
Ковшов заплакал. Либо он не рисковал прибавить к своим показаниям еще что-то, либо сейчас говорил правду.
– А потом что?
– Когда отлупили всех, кто попался, так и разошлись зараз кто куда.
– Увести, – приказал Неронов. – Ведите следующего!
Казаки, словно сговорившись, твердили одно и то же. Вскоре допросы порядком утомили полковника. Наконец к столу подвели крепко связанного Кирпичникова. Охранник подтолкнул его к столу ружейным прикладом. Казак двигался лениво и был, по обыкновению, настроен вызывающе, даже насмешливо.
– Что, опять лыко да мочало? – с едкой ухмылочкой спросил он.
– Заткнись. – Неронов сел за стол и сцепил в замок пальцы. – Сегодня я буду спрашивать только то, о чем очень хочу знать, скотина!
– Хочется, да перехочется, – рассмеялся Кирпичников. – Тебе уже столько наболтали, что я ничего нового тебе не обскажу!
– Тут я решаю, что слушать, а не ты, – осадил его полковник. – Ты отвечай на вопросы, а не болтай, чего захочется!
– А ты на меня не ори! – взорвался Кирпичников. – Я казак вольный…
– А ну, врежь ему, – посмотрел Неронов на охранника.
Солдат понимающе кивнул и двинул прикладом Кирпичникову промеж лопаток. Казак охнул и невольно грохнулся на колени перед столом, за которым сидел, многообещающе улыбаясь, полковник.
– Ну что? – спросил он казака. – Ты подтвердишь слова других казаков, уже раскаявшихся?
– Предатели, предатели! – в злобном отчаянии прошипел пленник. Неронов покачал головой.
– Да, ваша карта бита. Лучше говори всю правду, собака.
Кирпичников скрипнул зубами. Глаза его сузились.
– Это ты взбунтовал казаков? – резко спросил полковник.
Казак втянул голову в плечи, опустил глаза. Он молчал.
– Не хочешь – не говори, – усмехнулся Неронов. – Про тебя уже все столько сказали, что для смертного приговора вполне достаточно. Я лично накину петлю на твою шею! Если у тебя в башке остались еще мозги, а не навоз, то должен понимать, что я не награды раздавать сюда из Петербурга приехал!
– А что, ежели сознаюсь, то жизнь сохранишь? – нахмурился Кирпичников, и по его голосу полковник безошибочно понял, что казак сломлен и начинает торговаться.
– Обещаю! Но ты мне за это скажешь, кто еще мутит казаков яицких…
14
В апреле 1771 года в Оренбурге поселилась загадочная женщина. Ее красота имела сокрушительную силу, и все мужчины безумно влюблялись в незнакомку. Томные карие глаза, полные неги и страсти, обладали таинственным магнетизмом. Даже волевых, сильных мужчин ее взгляд делал послушными игрушками.
Незнакомка носила французскую фамилию де Шаруэ, а звали ее Жаклин.
Проживала госпожа де Шаруэ в гостинице со слугой – японцем Нагой. Наглый здоровяк никого не подпускал к своей госпоже и всегда находился рядом с Жаклин.
Официальным занятием красавицы-француженки была торговля женскими шляпками, которые ей регулярно поставляли из Парижа. Шляпки были хороши и пользовались большим спросом у оренбургских модниц. Но злые языки поговаривали, что француженка имеет и другой доход, значительно превышающий шляпный.
Теплым летним вечером госпожа де Шаруэ прогуливалась в центре города. Рядом с ней важно вышагивал адъютант губернатора – капитан Александр Васильевич Барков. Он выглядел старше своих лет; высокий, стройный, черные глаза выделялись на бледном лице. Кроме того, Барков не говорил грубостей, в то время как подавляющее большинство дворян Оренбурга рубили сплеча.