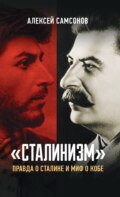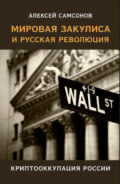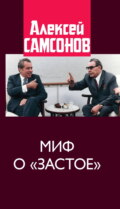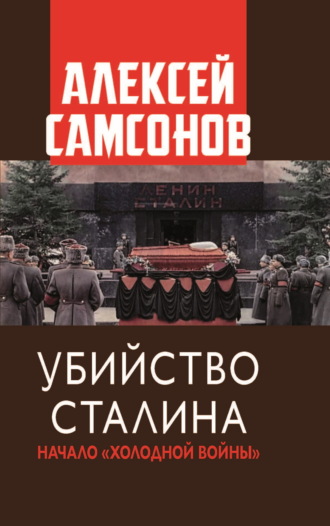
Алексей Самсонов
Убийство Сталина. Начало «Холодной войны»
XIX съезд и Пленум ЦК КПСС
С 5 по 14 октября 1952 года в Москве проходил XIX съезд ВКП(б). На этом съезде партия была переименована в КПСС.
При Хрущёве и Брежневе об этом съезде не говорили, как будто его и не было. Зато в «перестройку» о XX и XXII съездах прожужжали все уши. Но, опять же, не о XIX. Почему?
Обращает на себя внимание и то, что в 1970-е годы начали выпускать стенограммы и протоколы съездов: начали, естественно, с I съезда, затем сразу – XX (без «секретного доклада»), потом – II–XVIII съезды. И всё. А где же XIX?
Решение Сталина созвать съезд было неожиданным для партчиновников [184; с. 612]. Это решение было принято в июне 1952 года, а в августе был опубликован проект нового Устава, в котором было и новое название партии – КПСС. Если съезды не созывались целых 13 лет, а тут было решено созвать – значит, съезд должен был принять важные решения.
Почему было решено изменить название партии? Думаю, название было изменено, так как название «Всесоюзная коммунистическая партия большевиков – ВКП(б)» изжило себя. Во-первых, на обложке партбилета было написано: «ВКП (б) – секция Коммунистического Интернационала». Но Коминтерна давно не было и надпись потеряла актуальность.
Во-вторых, более 80 % старых партийцев погибло на фронтах Великой Отечественной и на момент созыва съезда большую часть партии составляли лица, принятые в члены ВКП(б) во время и после войны.
И, в-третьих, никаких меньшевиков давно не было.
Далее. Вместо Политбюро был учреждён Президиум. Понятно, что вместе с новым названием должны были измениться и его функции. Согласно прежнему Уставу ВКП(б), Политбюро создавалось «для политической работы; для общего руководства организационной работой создаётся Оргбюро; для текущей работы организационноисполнительного характера – Секретариат; для проверки исполнения решений ЦК – Комиссия партийного контроля».
А на XIX съезде в докладе Маленкова указывалось: «Такое преобразование целесообразно потому, что наименование “Президиум” более соответствует тем функциям, которые фактически исполняются ПБ в настоящее время. Текущую организационную работу, как показала практика, целесообразно сосредоточить в Секретариате». Таким образом, функции «политической работы» исчезли, Президиум должен был руководить только организационной работой партии в промежутках между Пленумами. Фактически Президиум стал правопреемником не Политбюро, а Оргбюро. Получив вместо ПБ Президиум, КПСС уже нечем было управлять страной, так как в Президиум ЦК руководителям правительства входить не было необходимости [184; с. 614].
Далее. Был ликвидирован пост Генерального секретаря, а «просто секретарей» стало 20 человек. «Просто секретарём» стал и Сталин.
Все эти секретари вошли в Президиум, но формально «главного» среди них не было.
Состав Президиума был определён в 25 членов и 11 кандидатов. Но большинство из этих членов были не партийными, а государственными деятелями, которые подчинялись не Секретарю ЦК, а Председателю Совмина. Таким образом, реальная власть фактически и юридически перешла от партийной номенклатуры к государственной советской номенклатуре.
Надо отметить, что состав Президиума Сталин держал в тайне от аппарата ЦК, и когда на Пленуме он достал из кармана список состава Президиума и зачитал его, то для присутствующих (в том числе и старых членов Политбюро) такой состав был шоком. Они увидели, что их в Президиуме меньшинство… А с учётом контроля МГБ за их жизнью… [184; с.617]
А что могло быть дальше, если бы Сталин прожил ещё несколько лет? Сталин задумывал реформу втайне от «соратников» и никто из них, соответственно, не написал об этом в воспоминаниях.
Итак, после съезда состоялся Пленум (16 октября) и длился около двух часов.
Сталин сразу после открытия Пленума поднялся на трибуну и был встречен бурной овацией. Сталин: «Чего расхлопались? Это вам не сессия Верховного Совета или митинг в защиту мира. На повестке дня два вопроса: выборы Генерального секретаря (Хотя съезд эту должность упразднил. – А. С.) и выборы членов Политбюро. Прошу освободить меня от обязанностей Генерального секретаря партии. Я стар стал, выросли новые молодые кадры, поэтому прошу освободить».
Все замерли. Сталин замолчал. По воспоминаниям участника пленума писателя Константина Симонова, Маленков (на съезде он читал отчётный доклад и многие думали, что он – преемник, но Сталин не предложил кандидатуру Маленкова в генсеки, он вообще никого не предложил), сидевший в президиуме, поднял в мольбе руки и как бы шёпотом прокричал. Его поняли и кто-то из зала крикнул: «Просим остаться!» Зал повторил это. «Прошу освободить», – повторил Сталин. И сразу: «Перейдём ко второму вопросу. Я должен доложить Пленуму, что враги партии, враги народа, переоценивают единство нашей партии. На самом деле в нашей партии глубокий раскол снизу доверху. В нашем Политбюро так же раскол. Антиленинские позиции занимает Молотов, ошибки троцкистского характера совершает Микоян». «Соратники», понятно, были в ужасе.
Сталин в своей речи резко критиковал Молотова и Микояна и не включил их в состав узкого Бюро Президиума. Заседание этого пленума не стенографировалось, и характер критики Сталиным Молотова и Микояна можно было восстановить только по воспоминаниям участников этого пленума.
Речь Сталина была обстоятельной, продолжалась полтора часа. Не все понимали суть разногласий Сталина и Молотова, так как речь шла о секретных дискуссиях на заседаниях Политбюро и Совмина – внешне они были «едины». Понятно, что и газеты о разных позициях «соратников» не писали.
Л.Н. Ефремов, избранный впервые в ЦК как секретарь обкома Курской области и ставший позднее автором очерков по истории партии, привёл один из пунктов критики Молотова Сталиным, хотя сам Ефремов не знал «корней» критики: «Молотов – преданный нашему делу человек, – говорил Сталин, – Позови, и, я не сомневаюсь, он, не колеблясь, отдаст жизнь за партию. Но нельзя пройти мимо его недостойных поступков… Чего стоит предложение Молотова передать Крым евреям? Это грубая политическая ошибка товарища Молотова. На каком основании товарищ Молотов высказал такое предположение? У нас есть еврейская автономия. Разве этого недостаточно? Пусть развивается эта республика. А товарищу Молотову не следует быть адвокатом незаконных еврейских претензий на наш Советский Крым. Товарищ Молотов так сильно уважает свою супругу, что не успеем мы принять решение Политбюро по тому или иному важному политическому вопросу, как это быстро становится известно товарищу Жемчужиной. Ясно, что такое поведение члена Политбюро недопустимо. Напомню, что жена Молотова, П. Жемчужина, активно участвовала не только в деятельности ЕАК, но и в религиозной деятельности еврейской общины Москвы».
Не только Ефремов, но и большинство участников пленума не имели представления, о чём в данном случае идёт речь. Дискуссия о судьбе Крыма, после его освобождения от немецкой оккупации, шла в очень узком кругу и в глубокой тайне. А о существовании Жемчужиной почти все члены ЦК узнали только что. Не знали участники пленума и о переговорах Молотова в США. (Подчеркну, что в газетах тогда писали только то, что было утверждено и прошло цензуру.)
К. Симонов вспоминал: «Не знаю, почему Сталин выбрал в своей речи как два главных объекта недоверия именно Молотова и Микояна. То, что он явно хотел скомпрометировать их обоих, лишить ореола одних из первых после него самого, было несомненно. Почему-то он не желал, чтобы Молотов после него, случись что-то с ним, остался первой фигурой в государстве и в партии. И речь его окончательно исключала такую возможность». Так же Симонов писал, что Молотова Сталин критиковал ещё и за то, что тот дал согласие английскому послу издавать у нас буржуазные газеты: «Такой неверный шаг, если его допустить, будет оказывать вредное, отрицательное влияние на умы и мировоззрение советских людей, приведёт к ослаблению нашей, коммунистической, идеологии и усилению идеологии буржуазной» [185; с. 6–7]. Не могу не прокомментировать эти слова. Чего боялся Сталин? Ведь коммунистическая идеология – всесильна и верна, как писали советские газеты и философы. Информация с Запада могла оказывать нежелательное влияние, так как Запад, при помощи США, сумел быстро восстановить свою экономику после войны, а СССР испытывал большие трудности особенно в области снабжения людей товарами. Могли возникнуть нежелательные вопросы… Пусть лучше не знают.
Сталину надо было разрешить в газетах публиковать не только парадные статьи, но и аналитические материалы. И вот результат: «Не знаю, почему Сталин выбрал в своей речи как два главных объекта недоверия именно Молотова и Микояна». Один из самых осведомлённых людей в стране не знает! А что говорить о членах ЦК из областей?!
Состав Президиума был определён в 25 человек и 11 кандидатов с совещательным голосом. (Ранее в ПБ было 9-11 человек). Большинство членов были государственными служащими. Вопрос: кому будет в первую очередь подчиняться министр – член Президиума: Председателю Совмина или председательствующему на заседании Президиума? Вопрос риторический: конечно, Председателю Совмина. Так зачем ему нужен второй начальник? Что должен делать министр – сосредотачиваться на работе в Министерстве или в ЦК?
Партаппарат, упоминания о котором не было в Конституции, фактически стоял над госорганами, отраслевые отделы в ЦК и в обкомах были главнее соответствующих госорганов. Хотя, по идее, партия должна быть частью общества, а не государства. Но это на бумаге. Теперь же, после такого решения, партийные комитеты должны были сосредоточиться не на управлении государством, а на развитии идеологии, на идеологическом обеспечении построения социализма. То есть партчиновники должны были стать «партийными священниками» [184; с. 617].
В мае 1941 года Сталин занял пост Председателя СНК. И с этого момента главный центр принятия решений стал не ЦК, а СНК (Совет народных комиссаров), затем Совет министров (СМ).
На XIX съезде Сталин сделал шаг к реформированию партии. Всё шло к тому, чтобы превратить партию в чисто идеологическую структуру.
Известны его слова: «Вы состарились, я вас заменю». Ясно, никто не хотел, чтобы его «заменили». А тогда отставка могла кончиться Колымой… О шоке от предложенных Сталиным кандидатур Хрущёв вспоминал: «Когда Пленум завершился, мы все обменялись взглядами. Что случилось? Кто составлял этот список? Сталин сам не мог знать всех этих людей, которых он только что назначил. Он не мог составить такой список самостоятельно. Я признаюсь, что подумал, что это Маленков приготовил список нового Президиума, но не сказал нам об этом. Я спросил его об этом, но он тоже был удивлён: “Клянусь, что я к этому никакого отношения не имею. Сталин даже не спрашивал моего совета или мнения о возможном составе Президиума”. Это заявление Маленкова делало проблему более загадочной… Некоторые люди в списке были мало известны в партии и Сталин, без сомнения, не имел представления о том, кто они такие» [185; с. 6–7].
Кто составлял список? Уже после распада страны выяснилось, что список составлял Суслов. Именно он в конце 1940-х стал приближённым Сталина; например, доклад, посвящённый 24-й годовщине со дня смерти Ленина (1948 г.) читал Суслов.
Конечно, в зале никто не знал, что это за список, кто его составлял… но все послушно проголосовали за людей, которых не знали. Их не знали даже «старые» члены Политбюро!
Почему же «старые» члены Политбюро и местных комитетов испытали шок? По-моему, здесь всё ясно: во время войны были убиты сотни тысяч настоящих, идейных, коммунистов – патриотов, действительно лучших людей страны. Партия уменьшилась не только количественно, но и качественно. Но партия росла – кто же пополнял её ряды? Да, многие вступали в партию на фронте, но решающей роли в послевоенном управлении обкомами они не играли. В партию вступило много тыловиков и лиц, «сражавшихся» на «ташкентском фронте». Эти лица, в основном после войны, и работали в обкомах и решали хозяйственные вопросы. Аналогичные вопросы решали и госорганы – исполкомы. Сложилось некое двоевластие – причём в каждой области, в каждом районе, вплоть до ЦК и Совмина. Соответственно, рос бюрократизм. Сталин и хотел сломать эту систему, которая могла привести страну к гибели (впоследствии так и оказалось).
Но вот беда: после войны партия пополнилась не убеждёнными коммунистами, а карьеристами, которые умели только брать от партии блага и привилегии, а агитировать, работать в массах – не умели. И не хотели уметь. А тем более – агитировать за коммунизм. Чиновники хотели не агитировать, а «руководить» массами из кабинетов. А больше всего этого хотела высшая номенклатура из ЦК.
И вот эти чиновники, составляющие большую часть делегатов пленума, высказались против отставки Сталина. Почему? Допустим, Сталин уходит в отставку с поста генсека и остаётся только Председателем Совмина. Тут же бы ЦК потерял авторитет, ибо у всей страны ЦК ассоциировался со словом «Сталин». А если он уходит с поста, то весь авторитет власти «перемещается» вместе со Сталиным в Совмин. А ЦК становился как бы вспомогательным органом «при Совмине». То же произошло бы и на местах: фактическая власть от обкомов перешла бы к исполкомам. В итоге большинство партчиновников вынуждены были бы остаться без работы. А завоёвывать авторитет в массах, как это делали первые большевики, они не хотели и не умели.
В результате реформы партаппаратчики потеряли бы свои привилегии и, соответственно, утратили бы интерес к обкомовским креслам, партноменклатура перестала бы самовоспроизводиться. Да, осталась бы номенклатура, но не партийная, а государственная, которая бы занималась конкретной работой, а не болтовнёй. Может, тогда бы и Союз не развалился…
Результатом реформы Сталина была бы ликвидация фактического двоевластия в стране. Более того, были бы сэкономлены большие средства, уходящие на зарплаты и привилегии партчиновников.
Мингрельское дело
Это дело связано с именем Берии, так как он родился в Мингрелии и считался мингрелом по национальности. Ещё в 1920-е годы в Баку Берия был сотрудником мусаватистской разведки (филиала английской разведки). Сам Берия утверждал, что работал там по заданию компартии (см. выше). 1 ноября 1939 года Багиров передал Берии дело, в котором была такая справка: «Зачислить Берия Л.П. агентом по наружному наблюдению с месячным окладом в 800 рублей». Во время доклада руководителя Секретной службы (Стратегической контрразведки) генерала «Джуги», Сталин сказал: «Нам это известно. Но Микоян и Орджоникидзе уверяли, что Берия работал по заданию большевиков» [274; с. 384]. Но «уверения» Микояна не подтвердились [274; с. 386]. Что мешало Берии быть «слугой двух господ»? Кстати, сам Микоян был 27-м комиссаром Бакинской коммуны: 26 комиссаров расстреляли, а Микоян почему-то казни избежал…
До войны Берия был Первым секретарём ЦК КП Грузии и, перейдя в Москву, продолжал держать под контролем грузинские дела (об этом пишет его сын). Берия сам активно проводил чистки в ЦК и СНК Грузии, заменяя одних своих ставленников на других, ещё более преданных ему лично. Но при всех чистках на своём посту оставался Первый секретарь Чарквиани. А большинство членов послевоенного ЦК были мингрелами – земляками Берии. Они раздували культ Берии. Например, газета «Заря Востока» считает нужным напомнить грузинскому народу, что у него не один, а два отца – Берия и Сталин. Это, конечно, был явный перегиб.
Кого же назначал Берия?
Секретарь ЦК КПГ Шаудри – сын видного меньшевика, одного из руководителей антисоветского восстания в Грузии в 1920-х годах; Секретарь Президиума ВС Грузии Эгнатошвили – бывший федералист и активный борец против большевиков; министр социального обеспечения Елисаветшвили – меньшевистский комиссар в разных районах Грузии; член ЦК Захарий Кецховели – член партии национал-демократов, в 1923 г. арестовывался ЧК за антисоветскую деятельность, рекомендован в 1938 г. в партию Берией, а затем им же выдвинут на должность Председателя СНК Грузии; старый друг Берии Пётр Шария (работал в Совмине) – несколько раз арестовывался как мингрельский националист; бывшая любовница Берии сотрудница Первого Главного управления МГБ СССР (разведка) Вардо Максималишвили, направленная в Париж для слежки за грузинской эмиграцией, изменила Родине и стала активной участницей заговора, готовившего отделение Грузии от СССР [274; с. 393, 396].
А жена Берии, Нина Теймуразовна, урождённая княжна Гегечкори, переписывается со своим дядей князем Евгением Гегечкори, в прошлом – активным меньшевиком и являющимся агентом американской и английской разведок [274; с. 399]. (Вспомните графу в советских анкетах «Есть ли родственники за границей?») А несколько раз дом Берии на улице Качалова в Москве (ныне посольство Туниса) посещала жена помощника военного атташе США – сотрудника ЦРУ – это докладывал Саркисов [274; с. 398]. (Чтобы контролировать действия Берии, в 1946-м «Джуга» завербовал начальника его личной охраны Саркисова [274; с. 387].)
Как видим, Берия назначал на руководящие посты не большевиков – см. также раздел «Берия – враг народа и агент западных спецслужб. Попытка сдачи ГДР».
Немного о биографии Берии. Считается, что он родился в бедной крестьянской семье… А затем окончил реальное училище и Бакинское среднее механико-техническое строительное училище. И женился на княжне. Без комментариев.
А его мать Марта Джакели (1868–1955) – мингрелка, состояла в отдалённом родстве со сванским княжеским родом Дадиани.
Здесь надо остановиться на вопросе о жене Берии и его связях с эмиграцией. В итальянской газете II Corriere della Sera («Вечерний вестник») 17 июня 1953 года была помещена статья Пьетро Кварони, который был в 1926 г. итальянским консулом в Тифлисе и лично знал Берию. Он утверждает, что в то время Берия сожительствовал с дочерью грузинского престолонаследника князя Георгия Багратион-Мухранского, Марией Багратион. Князь оставил Марию в Грузии, а с остальной семьей уехал за границу, но время от времени свободно приезжал и жил в Тбилиси. Это уже при СССР!
Другие дети князя – сын Ираклий и младшая дочь Леонида, жили за границей, погрузившись в головокружительные приключения. Скандалы следовали один за другим. Брат и сестра меняли города и страны, меняли супругов (балерины, инфанты, банкиры) и виды деятельности.
Леонида Багратион работала моделью в одном из французских модных домов, где познакомилась с миллионером Кирби и вышла за него замуж. Он был вдовцом, и от первого брака была дочь, которая по своей матери приходилась родственницей известного американского банкира, компаньона Ротшильдов Якова Шиффа. Так Лаврентий Берия «породнился» с Ротшильдами.
От Кирби у Леониды родилась дочь Елена. Вскоре мистер Кирби возбудил ходатайство о разводе. Но в этот момент началась Вторая мировая война и Кирби, находившийся в Германии, был арестован и посажен в лагерь, где умер. Были свидетельства, что донёс на него нацистам Ираклий.
У мадам Кирби были неприятности с полицией из-за скоропостижной смерти её «друга», некоего Чернявского, который спекулировал иностранной валютой и торговал наркотиками. Чернявский проживал в той же гостинице, что и «весёлая вдова», которая сразу же после смерти «друга» поспешила уехать в Испанию, где её ожидал брат Ираклий.
К тому времени в Испании поселился Великий князь Владимир Кириллович. На молодого князя обратили своё внимание Багратионы. От его брака с Леонидой родилась дочь Мария. Почти все члены Императорской фамилии порвали свои отношения с Владимиром Кирилловичем, считая, что вдова Кирби никак не может называть себя «великой княгиней». И очень скоро Владимир Кириллович стал игрушкой в руках семейства Багратион, и, надо полагать, игрушкой Лаврентия Берии[47].
XIV съезд КП Грузии – КПГ (1949 г.) проходил под знаком культа Берии. При выборах в ЦК в состав почётных членов ЦК единогласно прошёл только Берия, а за Сталина многие воздержались. Назревал скандал и, чтобы выйти из положения, Счётная комиссия опубликовала лишь сообщение об избрании почётными членами ЦК Сталина и Берию, но без слова «единогласно». А «Правда» 30 января 1949 года в сообщении о съездах КП Азербайджана и КП Грузии писала: «Членом ЦК КП(б) Азербайджана единогласно избран т. И. В. Сталин» и далее: «Членом ЦК КП(б) Грузии избран т. И. В. Сталин. Членом ЦК избран так же т. Л. И. Берия». Слова «единогласно» не было. «Между строк» можно было прочитать выговор Берии.
А ранее, осенью 1947 года, Берия был освобождён от обязанностей курировать органы безопасности и заменён А. Кузнецовым [273; с. 404]. И только после смерти Сталина он возвратил себе «кураторство».
Сталин решил провести чистку КПГ, но втайне от Берии, так как ЦК Грузии был «засорён» людьми Берии. Сталин направил нового министра МГБ Семёна Игнатьева в Грузию с чрезвычайными полномочиями и эшелоном чекистов для ареста «на месте» людей Берии.
Чистка началась в ноябре 1951 года. Были уволены (а многие и арестованы) как «буржуазные националисты» 427 секретарей райкомов и центрального аппарата[48]. Среди них: Председатель Президиума ВС Грузии Гогуа, Генеральный прокурор Жония, министр юстиции Рапава, Первый секретарь рескома комсомола Зоделава. Из 11 членов ЦК было арестовано 7. Был арестован весь партактив Мингрелии. Многие партчиновники Мингрелии подозревались во взяточничестве, а Берия им покровительствовал [273; с. 411]. 9 ноября 1951 года Политбюро приняло постановления «О взяточничестве в Грузии» и «Об антипартийной группе Барамия», а 27 марта 1952 года – постановление «О положении в Компартии Грузии».
В ходе расследования было установлено, что Берия – полуеврей; что в середине 1940-х годов Берия и Маленков способствовали тайному соглашению с Трумэном и Черчиллем, по которому было свёрнуто, а затем подавлено коммунистическое восстание в Греции и «отложена» революция во Франции [90; с. 231]. Они же были инициаторами помощи Израилю, опираясь при этом на подобранные ими кадры – евреев Сланского, Ракоши и Бермана [90; с. 231]. А куда же смотрел Сталин? Бесспорно, он все эти действия Маленкова и Берии согласовывал, но, до поры… Ведь начальник никогда не виноват.
В МГБ Грузии была создана тройка под председательством министра Рухадзе. Против арестованных готовились выдвинуть обвинение в сотрудничестве с Парижским центром грузинской эмиграции с целью отделения Грузии от СССР. (Судя по событиям 1990-х годов, это не «сталинская паранойя», а реальность.) Было так же установлено, что азербайджанская эмигрантская организация «Мусават» в 1951 году заключила союз с грузинскими эмигрантами по созданию Мюнхенского института по изучению СССР, который являлся филиалом ЦРУ [186; с. 50]. А Берия покрывал эту деятельность.
Берия понял, что он полностью разоблачён, что впереди – процесс и конец. Надо было действовать. Соратник Берии Меркулов на допросе у «Джуги» говорил, что Берия сказал ему, «что он не барашек и не будет безропотно ждать, пока его зарежут» [274; с. 391]. Это подтвердил и Серго Берия (см. ниже). Но был ли он причастен к убийству Сталина?