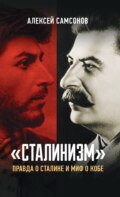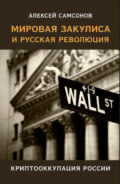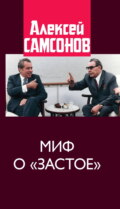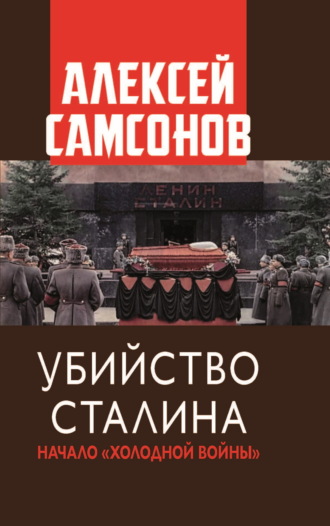
Алексей Самсонов
Убийство Сталина. Начало «Холодной войны»
СПРАВКА
Выдана гражданину Рапопорту Якову Львовичу, 1898 г. рождения, в том, что он с 3 февраля 1953 года по 3 апреля 1953 года находился под следствием в бывшем Министерстве госбезопасности СССР.
В соответствии со статьей и. 5 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР следствие по делу Рапопорта Я. Л. прекращено.
Рапопорт Я. Л. из-под стражи освобожден с полной реабилитацией.
Начальник отдела МВД СССР А. Кузнецов.
Как прожектором озарило: “В бывшем Министерстве госбезопасности…” – значит, МГБ ликвидировано, значит, произошли какие-то огромные перемены за время моего пребывания в тюрьме, имеющие прямым следствием неожиданный радикальный переворот в моей судьбе. Я понял это мгновенно, но смысл, существо и причины этих перемен оставались для меня, разумеется, загадкой. После того как я прочел справку, мне вручили все изъятые у меня при обыске документы: паспорт, диплом доктора наук, аттестат профессора, орденскую книжку и партийный билет. Последний был для меня более значительным символом освобождения, чем справка: он символизировал реабилитацию не только в криминальном плане, но и в общественно-политическом, партийном. Я понял, что восстановлен в партии»[42].
Странно всё это: сначала обвиняют в действительных и мнимых преступлениях, а потом машут рукой – мол, всё это ерунда… Да, «дело врачей» ещё изучать и изучать.
Бесспорно, это дело было вымышлено: сотни людей в МГБ сидели и выдумывали показания подсудимых, составляли протоколы… Ну прямо львы толстые и Чеховы! У них что, других дел не было, кроме как выдумывать дела? Вдумайтесь: Сталин решил придумать дело по обвинению, например, Этингера. И сотни людей из прокуратуры, МВД и т. д. стали это «дело» сочинять. Более того, это «дело» обсуждалось на Политбюро! Это можно объяснить только одним: сильная магнитная буря вызвала массовое помешательство и всеобщую паранойю…
Но факты есть факты. А они говорят, что в данном случае никто ничего не выдумывал, это дело имело основания.
Разрыв дипотношений с Израилем
20 ноября 1948 года Сталин подписал решение о роспуске ЕАК. А уже 21 января 1949 года заведующий отделом стран Ближнего и Среднего Востока МИД Бакулин писал посланнику в Израиле Ершову: «За последнее время в израильской прессе всё чаще стали появляться враждебные СССР статьи и сообщения, которые часто остаются без какого-либо противодействия с нашей стороны. Отдел считает, что издание бюллетеня от имени нашей миссии явится серьёзным противодействием враждебной СССР пропаганде…» [280; с. 215.] 1 февраля Ершов беседовал с директором Восточноевропейского отдела МИД Израиля Фридманом; Ершов высказал озабоченность фактами появления в израильской прессе недружественных статей. На что Фридман ответил, что газеты Израиля являются частными, выражают своё мнение и правительство, мол, не может на них влиять [280; с. 216].
Вскоре были закрыты еврейские газеты, журналы, театры в Москве, Минске, Одессе, Черновцах, Биробиджане.
7 февраля замминистра иностранных дел Валериан Зорин вызвал посла Голду Меир (Меерсон) и сделал заявление относительно незаконной деятельности посольства, побуждающей советских граждан к выходу из советского гражданства, и относительно рассылки бюллетеня посольства организациям и отдельным гражданам. В бюллетенях помещались объявления о переезде в Израиль [280; с. 216].
В конце года, 7 декабря, Ершов отправил замминистра Анатолию Лаврентьеву справку «Антисоветская пропаганда в израильской печати». Ранее, 5 декабря, министр иностранных дел Израиля Моше Шаретт сказал: «Внешняя политика Израиля – это политика неприсоединения. Израиль не будет солидаризироваться ни с одной из сторон, участвующих в холодной войне». Но в реальности Израиль всё чаще оказывался на стороне Запада. В Москве это вызывало раздражение: мы вас создали, а вы нас не поддерживаете! [280; с. 251.]
13 декабря советник постоянного представительства при ООН Гедеон Рафаэль доложил Шаретту о разговоре с заместителем советского представителя Семёном Царапкиным. Царапкин говорил: «Ваши выступления на сессии ГА ООН доказывают, что вы явно склоняетесь на сторону США. Ни по одному вопросу вы не выступили однозначно против американцев, а по многим вопросам голосовали против советской позиции». Царапкин напомнил о голосовании по проекту резолюции, осуждающей подготовку Великобританией и США новой мировой войны. Он подчеркнул, что СССР считал это предложение самым важным в повестке дня сессии. А израильская делегация не только голосовала против, но и присоединилась к английскому проекту резолюции [280; с. 252].
В марте 1950 года советское посольство в Израиле докладывало в Москву: «Внешняя политика Израиля превратилась в орудие англо-американского блока, ведёт Израиль к потере своей независимости, которая была достигнута 1,5 года назад при поддержке СССР… Антисоветская пропаганда ведётся систематически и принимает всё более широкие масштабы» [280; с. 257]. Как видно из дальнейших событий, всё так и произошло: Израиль превратился в непотопляемый авианосец США.
В конце 1952 года в МГБ был образован Отдел по борьбе с сионизмом [280; с. 286].
13 января 1953 года «Правда» опубликовала сообщение об аресте группы врачей. 24 января сотрудники отдела стран Ближнего и Среднего Востока доложили министру иностранных дел А. Вышинскому о реакции на Западе на арест врачей. Западные газеты цитировали статью «Сионистская агентура американской разведки» из «Нового времени» и предсказывали, что Москва вскоре может разорвать дипотношения с Израилем. Вышинскому доложили и реакцию руководства Израиля: посол в США и представитель Израиля при ООН Абба Эбан заявил, что поставил перед ООН «вопрос о процессе в Чехословакии (Сланского. – А.С.) и вопрос о последствиях антисемитизма и кампании, проводимой против Израиля в некоторых странах» [280; с. 290].
Советское руководство принимает решение о расширении связей с арабскими странами. 29 января 1953 года советский посланник в Египте Семён Козырев нанёс визит новому руководителю Египта генералу Нагибу. Козырев говорил о попытках США и Англии объединить страны региона в военный союз, что СССР никак не устраивало. Нагиб спросил: «Что в таком положении стали бы делать вы? Готова ли Россия продавать Египту оружие?» Козырев отправил сообщение в Москву и 10 февраля получил ответ Вышинского: «Если Нагиб вернётся к вопросу о продаже вооружений, сказать Нагибу, что советское правительство не заинтересовано в продаже оружия, но что этот вопрос можно было бы рассмотреть, если египетское правительство заинтересовано в этом» [280; с. 292].
Эта телеграмма Вышинского стала известна правительству Израиля. Как? – думаю, ясно; это только со времён «перестройки» газеты стали писать, что, мол, это при «тиране Сталине» всех обвиняли в шпионаже и приклеивали ярлык «английского шпиона», а на самом-то деле у России врагов нет и, соответственно, шпионов западных разведок – тоже. И 2 февраля глава МИД Шаретт телеграфировал послу Израиля в США Эбану: «Мои соображения по поводу враждебных действий Москвы (Оказывается, Москва первая начала враждебные действия! – А.С.). Это не основная линия политического курса, а порождение общей тенденции укрепления режима, в том числе, возможно, в рамках подготовки к войне…» [280; с. 292]
Ответ на «враждебные действия» последовал незамедлительно. 9 февраля в 22 часа 35 минут на территории советской миссии произошёл взрыв бомбы. Были выбиты все стёкла, оконные рамы и двери на двух этажах. Тяжело ранены жена посланника, жена завхоза и шофёр. Проверкой было установлено, что террористы проникли на территорию посольства, перерезав забор из сетки.
Естественно, президент Ицхак Бен-Цви и премьер Давид Бен-Гурион сказали, что это сделали «хулиганы» и «враги государства». Кто бы сомневался…
12 февраля в час ночи Вышинский вручил посланнику Эльяшиву ноту протеста. В ней, в частности, говорилось: «Советское правительство заявляет о невозможности дальнейшего пребывания в Москве Миссии Израиля и требует, чтобы персонал незамедлительно покинул пределы СССР».
А сейчас – внимание. Социалистические страны Восточной Европы дисциплинированно сообщили в Москву, что тоже желают разорвать дипотношения с Израилем. Москва ответила, что считает это нецелесообразным [280; с. 296]. Л. Млечин этот интереснейший факт никак не комментирует.
Думаю, дело тут вот в чём. Сталин и правительство, бесспорно, были разочарованы такой стремительной переориентацией Израиля, созданного при решающей поддержке СССР, на западные страны; Израиль не стал проводить просоветскую политику. Но окончательно разрывать контакты с сионистами СССР не хотел. Поэтому и были сохранены «окна» в Израиль в виде посольств соцстран: интересы СССР, например, представляло посольство Болгарии в Израиле (а интересы Израиля в СССР – посольство Нидерландов).
В декабре 1953 года дипотношения, по инициативе Молотова, были восстановлены.
Номенклатура
Казалось бы, какое отношение номенклатура имеет к смерти Сталина, ведь он и изобрёл номенклатуру как систему власти? Но, как выясняется, убийство Сталина и высшие представители номенклатуры связаны между собой.
Сперва о термине. «Номенклатура» – это список должностей (ЦК, Министерств, обкомов, т. д.). Понятно, что сам по себе «список» властью быть не может. Номенклатура была и будет в любом обществе, ибо без неё невозможно управлять страной. Так что сама номенклатура не плоха и не хороша – она необходима. Но за номенклатурой необходим контроль как сверху, так и снизу. Без контроля в нашем «взяточном» государстве невозможно – будь то Российская империя, СССР или РФ.
Но в СССР была создана не демократическая, а номенклатурная система власти.
Почти во всех своих статьях Троцкий писал о «перерождении революции», о «сталинском термидоре», о «внутрипартийной демократии».
Что вкладывал Троцкий в понятие «перерождение революции»? Главным было обвинение Сталина в «термидоре». Троцкий даже придумал термин «термидорианская бюрократия». Троцкий писал о гигантском обюрокрачивании партийного и советского аппаратов. Остановлюсь на этом более подробно.
Ещё до избрания Сталина Генсеком, в 1920 году, в ЦК РКП(б) и в губкомах были образованы учётно-распределительные отделы. В апреле 1922 года Сталин, по инициативе Ленина, был избран Генсеком. Тогда количество освобождённых партработников составляло 15.325 человек, в том числе в Москве 325 человек. На XII съезде РКП(б) Сталин сказал: «До сих пор дело велось так, что дело учраспреда ограничивалось учётом и распределением товарищей по обкомам. Теперь учраспред не может замыкаться в рамках обкомов… Необходимо охватить все без исключения отрасли управления». И немедленно в учраспредах губкомов были сконцентрированы учёт и распределение работников по всем отраслям хозяйства. Об учраспреде ЦК Сталин говорил, что «он приобретает громадное значение». И уже в первый год работы Сталина генсеком отдел произвёл 4750 новых назначений на ответственные посты.
И почти сразу наметилась тенденция обюрокрачивания аппарата. Это началось ещё при Ленине, он увидел это и писал: «Самый худший у нас внутренний враг – бюрократ. Это коммунист, который сидит на ответственном посту и пользуется всеобщим уважением как человек добросовестный».
Процесс возникновения «новых дворян» хорошо описал Виталий Шульгин: «Коммунизм был эпизодом. Коммунизм (“грабь награбленное”) был тот рычаг, которым новые властители сбросили старых. Затем коммунизм сдали в музей (“музей революции”), а жизнь входит в старое русло при новых властителях. Вот и всё»[43].
На руководящие посты, понятно, назначались не троцкисты, а сторонники провозглашённого новым руководством Сталина – Кагановича плана «построения социализма в одной стране». (Об этом плане, принятом «для маскировки», я говорил.) А на наиболее интересовавших людей Сталин лично вёл картотеку, не допуская работников своего аппарата.
С приходом к власти фракции Сталина, аппарат стал пользоваться привилегиями, которые постоянно росли.
«Родились» привилегии ещё до Сталина. На 12-й конференции (август 1922 г.) впервые в истории партии был принят документ, узаконивающий эти привилегии. Это резолюция «О материальном положении активных партработников», в которой было чётко определено число «активных» (15.325) и введена иерархия распределения их по шести разрядам. По высшему разряду должны были оплачиваться члены ЦК, ЦКК и обкомов. Причём все эти блага должны были оплачиваться из парткассы.
Но резолюция сдерживалась другим постановлением. В 1920 году было принято постановление ВЦИК, устанавливающее единую тарифную сетку зарплат для всех коммунистов, включая хозяйственных руководителей. Максимальный уровень их окладов не должен был превышать зарплату высококвалифицированного рабочего – т. н. «партмаксимум». Выполнение этого постановления приводило к тому, что, например, в 1924 г. директор завода – коммунист получал 187 руб., а директор – беспартийный – 300 руб. и выше. Такое положение, конечно, не могло устраивать как директоров, так и партчиновников. Постановлением ЦК от 7 мая 1928 года партмаксимум был определён 2700 рублей в год. Но и это многих не устраивало. Фактически партмаксимум был отменён в конце 1929 г., а официально – секретным постановлением Политбюро от 8 февраля 1932 года и сразу начался рост зарплат чиновников, началось расслоение советского общества. Появились привилегированные слои: они обеспечивались продуктовыми пайками, дачами, квартирами, бесплатными курортами, «ответственным работникам» выдавались знаменитые сталинские пакеты с денежными премиями.
Троцкий, который сам пользовался этими благами, в книге «Сталин», написанной в изгнании, писал, что Сталин «организатор и воспитатель бюрократии, распределитель земных благ». Это было абсолютно верно, ибо при Ленине и Троцком такого не было.
Сталинская группа в проведении своей политики опиралась на аппарат. Был создан класс чиновников, который видел в Сталине своего вождя. Сталин создал этот класс, но он же его и контролировал. Новый класс оказался совершенно независим от партийных масс; он всецело зависел от «начальства».
Высшие чиновники имели всё, даже во время войны они, по свидетельству Светланы Аллилуевой, жили весело. Но все эти министры да секретари были «халифами на час», так как их в любую минуту могли уволить и, как следствие, лишить привилегий. Хорошо ещё, если не посадят! Всех их жёстко контролировали. Например, по воспоминаниям секретаря Сталина Бориса Бажанова, у Сталина был телефон, по которому он мог слушать разговоры «соратников» и быть в курсе их планов. Или, например, в 1950 г. помощник одного из министров, решив пошутить, позвонил по правительственной АТС помощнику другого министра и, представившись Маленковым, сказал, что на завтра вызывает министра в ЦК. И уже через 20 минут по обеим аппаратам АТС позвонили не назвавшиеся лица: первому министру сообщили о шутке его помощника, а второму – что его никто не вызывает.
Значит, разговоры министров и их секретарей прослушивались. Кем? Органами НКВД – МГБ. «Жучки» стояли даже в квартирах министров и членов Политбюро. Видимо, аналогично было и в областях. Естественно, что это не могло нравиться чиновникам.
Высшему и среднему звену номенклатуры также не могла понравиться и такая мера, как уменьшение зарплат. Вот выписка из протокола заседания Политбюро от 5 июля 1952 года:
Протокол № 88/87-оп заседания Политбюро
Особая папка
От 5.VII.52 г.
О ВРЕМЕННОМ ДЕНЕЖНОМ ДОВОЛЬСТВИИ
В связи с тем, что за последние годы произошло серьёзное снижение цен на товары массового потребления, ЦК ВКП(б) постановляет:
1. Принять предложение членов Политбюро о сокращении с 1 августа 1952 года денежного довольствия членам Политбюро, секретарям ЦК ВКП(б), заместителям председателя Совета Министров СССР и установить вместо ныне получаемого денежного довольствия в сумме 20000 рублей ежемесячное денежное довольствие в размере 8-12 тысяч рублей, в зависимости от количества членов семьи.
2. Сократить денежное довольствие членам ЦК ВКП(б), министрам союзных министерств и другим работникам центрального аппарата, получающим денежное довольствие в сумме 15000 рублей ежемесячно, и установить им денежное довольствие в размере от 6 до 9 тысяч рублей, в зависимости от количества членов семьи.
3. Сократить денежное довольствие кандидатам в члены ЦК ВКП(б), первым заместителям министров союзных министерств и другим работникам центрального аппарата, получающим довольствие в сумме 10000 рублей, и установить им ежемесячное денежное довольствие в размере от 5 до 7 тысяч рублей в зависимости от количества членов семьи.
4. Сократить руководящим работникам центрального аппарата, республиканских и местных партийных и советских органов размер денежного довольствия по сравнению с ныне получаемым по следующей шкале:
– получающим от 6000 до 4000 рублей – на 33 %;
– получающим от 4000 до 3000 рублей – на 25 %;
– получающим от 3000 до 2000 рублей – на 20 %;
– получающим от 2000 до 1000 рублей – на 15 %.
5. Работникам, получающим денежное довольствие в размере от 1000 рублей и ниже – выплату денежного довольствия сохранить на прежнем уровне.
6. Установить с 1 августа 1952 года министрам военному, военно-морскому, госбезопасности, внутренних дел и Госконтроля СССР, их заместителям должностные оклады независимо от звания на уровне, установленном для министерств и заместителей министров других министерств.
Выписки посланы: тт. Маленкову, Звереву, Помазневу.
После такого постановления количество врагов или, во всяком случае, недоброжелателей у Сталина увеличилось кратно количеству руководящих работников, членов семей и их родственников, которых оторвали от «кормушки». Нет, конечно, на собраниях все хвалили «мудрый ЦК»…
Далее. Сегодня много пишут о воровстве и взяточничестве чиновников. Во время «перестройки» писали о ворах в окружении Брежнева. Но «бизнес» чиновников начался ещё при Ленине, особенно, во времена НЭПа. При Сталине этот процесс продолжился.
Таким образом, высших чиновников держали «на крючке»: если ты лоялен – то можешь воровать, а если стал идти против линии Политбюро – то тебя ждёт суд и конфискация всего, «нажитого непосильным трудом».
Молотов. «Ближайший соратник» тоже не был кристально честным большевиком. Ещё, будучи в Германии, в 1939 году, Молотов получил крупную взятку от гитлеровского правительства, которую положили на секретный счёт в швейцарском банке. В годы войны он неоднократно получал крупные взятки от союзников, которые размещались в банках США и Англии [113; с. 162]. Через свою жену Полину Жемчужину, видного деятеля сионистского движения СССР, был связан с сионистскими центрами [113; с. 165]. Жемчужина дружила с послом Израиля Голдой Меир.
Начальник Секретной службы Сталина генерал «Джуга» сообщал Сталину: «Молотов, в нарушение имеющейся инструкции, проехал наедине с британским премьером Иденом (лишь с английским переводчиком) несколько железнодорожных перегонов. Их разговор записать не удалось. Полагали бы, в целях профилактики, Молотова от должности министра иностранных дел освободить, что позволит в дальнейшем пресечь его встречи с нежелательными иностранцами» [274; с. 342]. А во время визита в США Молотову для поездки по стране был выделен отдельный вагон, чего раньше американцы для советских официальных лиц никогда не делали. В этом вагоне Молотов и госсекретарь уединялись в купе и долго что-то обсуждали. Советский переводчик туда не был допущен. После приезда из США Молотов из министра стал замминистра иностранных дел[44].
Гарри Гопкинс (член «Черепа и Костей»), во время революции работавший помощником главного управляющего Красного Креста [95; с. 78], а во время и после войны «особым советником» Рузвельта, говорил, что оказывал Молотову во время его пребывания в Вашингтоне услуги конфиденциального характера. А какие обязательства дал Молотов?
Более того, в начале века Молотов был членом партии социалистов – революционеров; в 1962 г. начальник Главного архивного управления при СМ СССР Г. Белов направил в ЦК записку следующего содержания: «Главное архивное управление в порядке информации сообщает, что в обнаруженных документов органов жандармерии периода 1909 г. имеются сведения о принадлежности В.М. Скрябина (Молотова) к партии социалистов – революционеров (эсеров). Фотокопии указанных документов направлены в КПК»[45]. Но, например, Советский энциклопедический словарь (СЭС) указывает, что Молотов являлся членом КПСС с 1906-го года [13; с. 835]. Без сомнения, об этом подлоге знал Сталин.
В 1949 году Молотов был освобождён от обязанностей министра.
Был ли Молотов масоном? Конечно, никаких доказательств этому нет, но есть логика. Зная, кто делал Февраль и Октябрь, зная о масонстве Сталина, можно сделать вывод, что Молотов, столь долго находясь на вершине власти, был масоном. О его масонстве красноречиво говорит псевдоним Скрябина – Молотов. Почему он взял именно такой псевдоним? Ведь молот – один из основных символов масонства. Н. Хаггер пишет, что все члены делегаций на переговорах в Ялте -10 американцев, 8 англичан и 10 русских – были масонами [76; с. 678]. В Ялте был и Молотов. 4 декабря 1981 года Ф. Чуев спросил Молотова, действительно ли он масон. Молотов промолчал, но выразил уверенность в существовании масонства в СССР и допустил возможность его внедрения в КПСС. Через год Чуев снова вернулся к этому вопросу и Молотов сказал: «Масоны, конечно, старались около правительства кое-кого своего иметь». Кто эти «кое-кто»? Сам Молотов?
Или ещё одно «совпадение»: многолетним помощником Молотова был Подцероб, а секретарём у Молотова работал другой еврей – Семён Козырев – дядя министра Андрея Козырева и тесть министра Игоря Иванова.
Летом 1953 года, сразу после убийства Берии, Молотов полетел в США и, прежде чем встретиться с американскими руководителями, поехал на встречу с известным сионистом и советником Рузвельта Бернардом Барухом – видимо, чайку попить [224; с. 103].
Берия. В эпоху реквизиций и красного террора он награбил большие богатства, большинство которых переправил за границу. Перевёл деньги в банк Швейцарии и Королевский банк Швеции. Работая в Грузии в 1930-е годы, он присваивал вещи арестованных и сбывал их через комиссионки. В 1951 году имел тайную встречу в Сухуми с резидентом английской разведки, на которой говорил о скорой смене руководства в СССР [113; с. 163].
Берия работал на разведку мусаватистов в Азербайджане, а она находилась под контролем английской разведки. Правда, сам Берия утверждал, что работал там по заданию большевиков. Существует также записка, написанная кандидатом в ЦК Павлуновским 25 июня 1937 года. В ней говорится:
Секретарю ЦК ВКП(б) т. Сталину о товарище Берия
В 1936 г. (В документе описка, правильно – в 1921 г. – А.С.) я был назначен в Закавказье Председателем Зак. ГПУ. Перед отъездом в Тифлис меня вызвал к себе Пред. ОГПУ т. Дзержинский и подробно ознакомил меня с обстановкой в Закавказье. Тут же т. Дзержинский сообщил мне, что один из моих помощников по Закавказью т. Берия, при мусаватистах работал в мусаватистской контрразведке. Пусть это обстоятельство меня ни в какой мере не смущает и не настораживает против т. Берия, так как т. Берия работал в контрразведке с ведома ответственных тт. закавказцев и что об этом знает он, Дзержинский и т. Серго Орджоникидзе.
По приезде в Тифлис, месяца через два я зашёл к т. Серго и передал ему всё, что сообщил мне т. Дзержинский о т. Берия.
Т. Серго Орджоникидзе сообщил мне, что действительно т. Берия работал в мусаватистской контрразведке, что эту работу он вёл по поручению работников партии и что об этом хорошо известно ему, т. Орджоникидзе, т. Кирову, т. Микояну и т. Назаретяну. Поэтому я должен относиться к т. Берия с полным доверием, и что он, Серго Орджоникидзе, полностью т. Берия доверяет.
В течение двух лет работы в Закавказье т. Орджоникидзе несколько раз говорил мне, что он очень высоко ценит т. Берия, как растущего работника, что из т. Берия выработается крупный работник и что такую характеристику т. Берия он, Серго, сообщил и т. Сталину.
В течение двух лет моей работы в Закавказье я знал, что т. Серго ценит т. Берия и поддерживает его.
Года два тому назад т. Серго как-то в разговоре сказал мне, а знаешь, что правые уклонисты и прочая шушера пытается использовать в борьбе с т. Берия тот факт, что он работал в мусаватистской контрразведке, но из этого у них ничего не выйдет. Я спросил у т. Серго, а известно ли об этом т. Сталину. Т. Серго Орджоникидзе ответил, что об этом т. Сталину известно и что об этом и он т. Сталину говорил.
Кандидат ЦК ВКЩб) Павлуновский 25 июня 1937 г.
Микоян. Он занимал должность Заместителя Председателя СМ СССР. В годы Гражданской он был 27-м бакинским комиссаром, но не был расстрелян англичанами вместе с другими 26-ю, что странно (в это время он, якобы, находился в заключении у мусаватистов) [274; с. 338]. Женат на полуеврейке Ашхен Лазаревне Туманян. О Микояне я ещё буду говорить в следующей книге.
Аналогичные справки были подготовлены на Булганина, Маленкова, Хрущёва, Ворошилова, Вышинского. Был так же в швейцарском банке обнаружен счёт на имя Климова Владлена Николаевича на сумму 800 тыс. швейцарских франков. Выяснилось, что «Климов» – это псевдоним Шкирятова.
Но воровали не только чиновники. Воровали и генералы. У того же «легендарного маршала» Жукова на даче было найдено огромное количество имущества и драгоценностей, вывезенных из Германии (сегодня эта история хорошо известна).
А вспомните известную историю генерала Тюленева и его жены певицы Руслановой, которые сидели за воровство. И т. д.
Да, многие чиновники и генералы ответили за воровство. Неумолимо подходила очередь «вождей» – Берии, Молотова, Маленкова и др. ответить за своё воровство. Но это были крупные акулы. А сколько было «мелких» чиновников на местах!
Сталину было ясно, что чиновники хотят большей власти, чтобы бесконтрольно разворовывать государственное добро. То есть фактически единственным препятствием к всевластию номенклатуры оказался Сталин. По его инициативе в 1947 году был принят закон «Об уголовной ответственности за хищение государственного и общественного имущества», который предусматривал за кражу, присвоение и растрату от 5 до 8 лет лагерей с конфискацией. Этот закон был направлен не только против колхозников, собиравших «колоски» в поле. Это во время Горбачёва только об этом и писали, хотя и «колоски» не отменялись: 2 июня 1948 года был принят Указ Президиума ВС СССР о высылке в отдалённые районы колхозников, не выработавших минимум трудодней.
По закону за хищение госсобственности проходили, в основном, другие «деятели»: сразу после его принятия было посажено 18.585 работников системы Минторга и промкооперации, а в следующем, 1948 году, за хищения было наказано уже 28.810 расхитителей. Сумма причинённого ими ущерба за 1948 год составила 495 млн новых, послереформенных, рублей. И это только то, что удалось обнаружить![46]И такое творилось при сталинском «режиме»! (после смерти Сталина, «деятели», осуждённые по этому закону, стали считать себя, естественно, «репрессированными»).
Сталин понимал, что слишком многие «вожди» ждут его смерти. Он усилил охрану. По многим воспоминаниям, в последние годы жизни Сталин стал подозрительным. Например, приобретаемые для него лекарства в кремлёвской больнице он выкидывал и посылал охранника купить такие же в городской аптеке – очень верная мера! Объясняют это старостью и, конечно, «паранойей». Но у него были все основания бояться за свою жизнь: его смерти желали как его «соратники», так и американцы. Обеим сторонам его смерть была выгодной.
Но смена охраны Сталину не помогла. Безопасности тоже не было: в кремлёвском кабинете и на даче в Кунцево была установлена прослушивающая аппаратура. Ясно, что это приказал сделать Министр государственной безопасности СССР Семён Игнатьев с ведома курировавшего его Секретаря ЦК Хрущёва [385; с. 121].
Такой руководитель, как Сталин, который контролировал почти всё в стране (но только «почти»!), «от которого было неизвестно, куда пойдёшь – домой или в тюрьму» (Хрущёв), был высшим чиновникам совершенно не нужен. Более того, он им мешал, так как заставлял постоянно думать о стране, о безопасности, ограничивал аппетиты номенклатурных воров, да и по ночам спать не давал… Нужен был вождь, который бы был не более, чем исполнителем воли окружения, не контролировал бы так строго расходы номенклатуры, не проводил бы постоянных кадровых чисток. Нежелание Сталина обеспечить неприкосновенность высшей номенклатуры (несмотря на все её привилегии), явилось главным «преступлением» Сталина на «внутреннем фронте».
К 1950-м годам Сталин понял, что породил чудище, которое может убить и его и страну. (Ведь для чего Сталин постоянно увеличивал привилегии? Чтобы чиновники не думали, как и где купить костюм, еду, достать путёвку на курорт, где отдохнуть, а занимались бы только государственными делами. Но чиновники оказались ненасытными.)