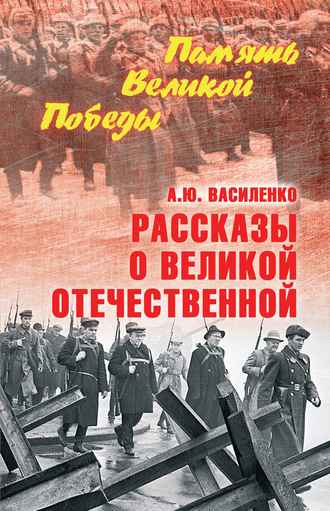
Алексей Василенко
Рассказы о Великой Отечественной
На поле танки грохотали
Александр Давидович Степанов
Александра Давидовича всегда можно было отличить в толпе: высокий, плечи развёрнуты, походка уверенная, голос… Хотел написать с разгона: «сохранял командирские интонации», да вовремя спохватился. Не так. Голос у него мягкий, раздумчивый, и совсем нет в нём автоматической накатанности, зарепетированности, когда рассказывал он о войне. Правда, Степанов что-то уж очень быстро вначале, по-анкетному, перечислил факты своей биографии. Пришлось его остановить.
– Александр Давидович! Мы же не в протокольном отделе! Я вас прошу начать сначала. Мне нужен рассказ, а не перечисление!
– Да что там рассказывать! Другие уже всё рассказали, написали…
– Вы знаете, спустя много лет после войны стали появляться частенько так называемые очерки, где авторы, не очень себя утруждая, всего лишь немного расцвечивают послужной список героя. «Родился такой-то в таком-то году в селе таком-то… С детства он был обыкновенным парнишкой, но когда началась война…» И пошло, и поехало. Бойкими перьями даже сотни книг таких написаны, а потом такими «авторами» изданы. Вот всё это не нужно, Александр Давидович. Вы уж извините, но если мне покажется, что ваш рассказ недостаточно подробен, я замучаю вас вопросами. Важно знать: в тот день, о котором вы будете рассказывать, каша в полевой кухне подгорела или нет. Или, к примеру, командир ругался – какими словами?
– Ну, это вы-ы-ы… Слова-то не все скажешь!
– Конечно, это я в шутку, но ведь мне всё важно… Да что это я – «мне», «мне»… Это всем важно, особенно молодым. Ведь если даже из истории они знают – ЧТО было, то уж совсем не знают – КАК.
…Степанов помолчал, сосредоточиваясь, потом хлопнул ладонями по коленям:
– Ладно. Задача понятна. Будем вспоминать. Записывайте!
…Здесь я приведу несколько фрагментов из рассказа Александра Давидовича Степанова.
– …Вы знаете, я много читал о начале войны, о наших поражениях, об отступлении… Всё правильно написано. Но мне кажется, что одно упускают. Новая техника тогда, до 22 июня, уже начала поступать в войска. И она превосходила немецкую, как потом оказалось. Вот мне, например, повезло в том смысле, что я войну хоть и с самого первого дна начал, с Шауляя, но на танке современном, мощном.
У нас ведь как получилось с танками. Фашисты нас поймали на самом начале перевооружения. Основную массу танковую составляли тогда Т-26 и БТ-7. Помните: «Три танкиста, три весёлых друга»… Почему три танкиста? А там экипаж был три человека. Скорость у этих танков была большая, а вот броня – никуда. Всего пятнадцать – двадцать миллиметров. А основные немецкие танки тогда имели лобовую броню 50 и 55 миллиметров. Вот так. Тут воевать было не так просто, хотя воевали, воевали и в таких условиях…
А перед самым началом войны стали мы получать новые танки: Т-34 и КВ. Успели их сделать немного – тысячу двести с чем-то «тридцатьчетвёрок» и шестьсот с небольшим – КВ. Вот один из этих КВ мне и достался. Я механиком-водителем был. Машина у нас особенная была – КВ-то КВ, а только совсем не такой танк, как другие. Это был специализированный танк КВ-2 для борьбы с дотами и танками. Ну, можете представить, калибр пушки у нас был – 152 миллиметра, в два раза больше обычного. Ни один немецкий танк не выдерживал! Так что с самого начала войны мы им немало крови попортили, вывели из строя немало танков. Но кто тогда считал!.. Кстати, мы тогда под командованием Черняховского были. Да, да, того самого, знаменитого. В самом конце войны погиб наш Иван Данилович. Город его именем назвали. Дважды Герой Советского Союза, генерал армии, командующий фронтом – это всё он за годы войны заслужил. А тогда он был полковником и командовал нашей дивизией…
Потом всё равно отступать пришлось – фронт-то отходил, И когда мы к озеру Селигер, на Осташков двигались, под Холмом меня ранило. На реке Ловать.
В общем-то я тогда уже представлял положение наше с техникой, вооружением. И пока лежал в госпитале, уже приготовился идти в «безлошадные» танкисты – в пехоту. Тогда много было таких, к несчастью. Сухопутные моряки, пешеходные танкисты, артиллеристы с противотанковыми ружьями и пехота вообще без ружей… Когда в Ижевск меня переправили, как выздоравливающего, то я уже себя морально подготовил и смирился. Но тут вызывают: «Танкист? – Да. – Механик-водитель? – Да. – Будьте готовы выехать по новому назначению».
Вскоре познакомился я с ребятами, с кем дальше воевать придётся. Сразу понял: новый танк получим. Потому что полный экипаж укомплектован, все – пороху нюхавшие уже, все ранены были. И вот теперь свели нас вместе. Пять человек – экипаж тяжёлого танка. Причём подобрался, как специально, сплошной интернационал. Лейтенант Онищенко, командир танка, украинец. Пермяков, наводчик, – русский, радист Скворцов – мариец, младший механик Тирин – из латышей, ну и я.
Отправили нас за новой машиной за Урал. Ну, что такое в то время получить машину, мы себе, конечно, не представляли. Ещё когда ехали, видели вдоль полотна, вдоль дороги станки. Сотни, тысячи станков под открытым небом. А в некоторых местах – и люди у этих станков работают уже… И вот тогда-то мы все почувствовали впервые с такой силой, что война всенародная стала, что мобилизованными считали себя все, в любом уголке страны. Приехали на завод, а только какой там завод! Сборочный цех под открытым небом был, собирали в день по пять танков. Не больше. И мы все стали на сборку, потому что танк знали хорошо, а там сборщики из сил выбивались. С первого до последнего винтика, до последней заклёпочки собрали первую машину, но нам её не дали. В те дни Ворошилов приезжал на завод с инспекцией. Да только все и так работали на пределе. Я никогда не забуду тех пацанов, совсем ещё мальчишки, лет по тринадцать-четырнадцать, были и поменьше… Так вот они пристрелку всех пулемётов вели в тире, на пристрелочном участке. Как они стреляли! И если не видеть их, а послушать только разговор – профессиональный, с терминами, со своими словечками, – то никогда не подумаешь, что им столько лет. Настоящие были мастера!
А сводки всё страшней становились. К Москве уже подходил фашист. Мы собирали вторую машину…
Когда нам новое обмундирование выдали, – полушубки, шапки, всё тёплое, когда новые звания присвоили и снабдили продовольствием, когда на платформы погрузили, – мы уже стали догадываться, что нас под Москву отправляют. Потом гнали эшелон, гнали без остановок. В Уфе только стоянка была, продукты получили и опять – вперёд. На платформах десять машин было. От воздушного налёта мы только турельными установками должны были спасаться. Дежурство постоянное было, но, как говорится, бог миловал…
Прибыли мы в Москву. Стоим где-то, на каких-то путях, темно, ночь уже. Потом команда: разгружаться. Ну, это быстро сделали и опять стоим, неизвестно, куда нас бросят… Сказали – приготовиться к маршу. Мы-то сводки слушали регулярно, знали, что на пороге Москвы уже бои идут. И почему-то… Нет, при чём тут «почему-то»? Ясно – почему! Нам всем очень важно было знать, где сейчас Сталин находится. Ведь если Сталин в Москве, значит, и дела ещё не так уж плохи, а если нет… Ну а кто может нам точно сказать? Понимали – это военная тайна.
И вот, я уже не помню, как это было, но только кто-то сказал, чтобы мы радио в танках включили. И мы услышали трансляцию торжественного заседания, посвящённого двадцать четвёртой годовщине Великого Октября.
Сколько лет прошло, а забыть невозможно… И не столько действовал спокойный, уверенный голос Сталина, сколько гнев, чувствовавшийся в таких словах: «…забрался в Донбасс, навис чёрной тучей над Ленинградом, угрожает нашей славной столице – Москве. Немецко-фашистские захватчики грабят нашу страну, разрушают созданные трудами рабочих, крестьян и интеллигенции города и сёла. Гитлеровские орды убивают и насилуют мирных жителей нашей страны, не щадя женщин, детей, стариков»…
Да, мы слушали доклад шестого ноября, в тот момент, когда фашист был в двух шагах от столицы, и слышали слова не только о потерях наших, но и о провале «молниеносной войны», о сплочении народа, о недооценке фашистами нашей армии и народного сопротивления. Были в докладе и слова, которые будто к нам были обращены. Анализируя причины временных неудач нашей армии, Иосиф Виссарионович сказал: «Наши танки по качеству превосходят немецкие танки, а наши славные танкисты и артиллеристы не раз обращали в бегство хвалёные немецкие войска с их многочисленными танками. Но танков у нас всё же в несколько раз меньше, чем у немцев… ибо они имеют в своём распоряжении не только свою танковую промышленность, но и промышленность Чехословакии, Бельгии, Голландии, Франции… Существует только одно средство, необходимое для того, чтобы свести к нулю превосходство немцев в танках и тем самым коренным образом улучшить положение нашей Армии. Оно, это средство, состоит не только в том, чтобы увеличить в несколько раз производство танков в нашей стране, но также и в том, чтобы резко увеличить производство противотанковых самолётов, противотанковых ружей и орудий, противотанковых гранат и миномётов, строить побольше противотанковых рвов и всякого рода других противотанковых препятствий. В этом теперь задача. Мы можем выполнить эту задачу, и мы должны её выполнить во что бы то ни стало!»
(Разумеется, Александр Давидович не приводил дословно доклад Сталина. Он пересказывал содержание запомнившихся мест. Это уже я посчитал необходимым привести здесь точные выдержки. Цитировал по маленькой книжечке с текстом доклада, которая была выпушена буквально через считанные дни после того торжественного заседания и которую храню как раритет особой ценности.)
– Александр Давидович, а ведь вы слушали всё это в новеньких машинах, сделанных на Урале.
– Да, и в этом была особая убедительность доклада! Мы же только что прибыли оттуда, где всё это делалось, видели своими глазами и знали, что силы наши нарастают. И, кроме того, я уже говорил, очень важно было всем знать, что Сталин в Москве. Значит, есть вера в победу, значит, есть силы.
Ночью шёл снег. Мелкий снег. Было очень холодно, сильный мороз. Потом дали команду – по машинам, заводи! Тронулись колонной. Куда, зачем? Ехали по каким-то улицам… Я же до этого никогда в Москве не был, так что определить не мог, где мы находимся. Потом стали. Шесть часов было. Почти утро уже. Говорят, – на улице Горького стоим. Вот тогда мы узнали, что будем участвовать в военном параде на Красной площади! И сразу такое напряжение появилось, гордость какая-то, радость, – как это здорово придумали!
Вот так посчастливилось участвовать в том знаменитом параде. Сотни две танков в параде участвовали, мы, тяжёлые, в конце шли. К этому времени почему-то снег крупными хлопьями пошёл, не такой, как ночью, видимость плохая. Разглядеть что-то на трибуне Мавзолея мы, конечно, не могли. Одна мысль – держать строй… Прошли по площади, потом по улице Разина снова вернулись на улицу Горького. А оттуда сразу – на Волоколамское шоссе, там трудная обстановка была. И взаимодействовали потом и с панфиловской дивизией, и с Доватором.
– …Александр Давидович, вы по многим фронтам поколесили, много видели. Парад на Красной площади стал для вас радостным событием. А вот самый страшный день какой был для вас?
– Страшный… Много их было, страшных-то… С Клейстом сражение было под Кизелом. Там я уже на другой машине был. После контузии получил опять на Урале. Несколько машин сменил, потом на Т-34 перешёл командиром танка, потом командиром взвода был… Страшное? Вот страшное что было.
В районе Орджоникидзе получила разведка сведения, что огромная танковая колонна, двести танков, пытается обойти нас и ударить с тыла. И наше командование заметило, что если фашисты идут по этому маршруту, то не могут они миновать одного… не ущелья, а долинки такой между горами. Вот туда-то нас и бросили. Прибыли на место, приказ – наполовину зарыть машины, замаскировать. Оседлали мы дорогу крепко, что ещё нужно? Однако строго-настрого приказано огня не открывать, что бы ни случилось, до особого распоряжения. Ладно. Ждём. Уже гул слышен, уже немецкие танки показались, уже вся дорога, сколько глаз видит, ими покрыта, а всё идут и идут… Пора бы и начинать, а команды всё нет и нет.
И вот тут-то началось! Появились «летающие танки», – наши Илы. На небольшой высоте, почти на бреющем пошли они над колонной и начали утюжить бомбами. Сразу с десяток машин загорелось, а штурмовики снова заходят, снова! А потом и наша пора пришла. Огонь мы открыли убийственный, и у нас потерь практически нет, мы как охотники из укрытия стреляли по целям. Во время боя не думаешь, но краем сознания я и тогда отметил, что немцы молодцы, не растерялись, попав в западню, и многие избрали единственно правильный путь: не останавливаться, а постараться с ходу проскочить. И нескольким это удалось. Остальные все там и остались…
И вот когда возбуждение после боя улеглось, радость после удачной операции, вот тогда стало страшно… Вот тогда подумалось, что в войне мы вполне могли оказаться на их месте и точно так же не могли бы вырваться из огненного кольца. Да, это был враг. Да, мы его уничтожили. Но, наверно, тогда впервые пришла в голову мысль о том, что там погибли не только враги, но и люди… Да-а, стало страшно… Потом, правда, я вспомнил один из первых дней войны. Точно, пятый день войны, двадцать седьмое июня. Тогда взяли мы в плен нескольких солдат фашистских. И вы знаете, они не злились. Не боялись. У них прекрасное было настроение, даже посмеивались. Говорили, что, мол, не они у нас в плену, а мы – у них, потому что всё равно в сентябре они будут в Москве и война закончится. Вот после такого воспоминания стало легче.
Вообще-то страхов всяких на войне испытываешь множество. Но такое же множество преодолеваешь. В этом и есть военный опыт.
Да, ещё об одном страхе скажу. Только выглядел он со стороны, наверно, смешно. Когда война закончилась, а в последние дни мне много досталось, приходилось вертеться, как мог, – то стал я собираться домой. И однажды поймал себя на том, что я боюсь… сесть в автомобиль. Неважно какой – грузовой, легковой…Стал бояться. И знаете, чего? Вдруг, думаю, с машиной что-то случится: авария, мина, в кювет залетит, в воронку. И тогда я не приеду домой. Так и старался не пользоваться машинами. Пешком ходил…
Это всё мне рассказывал человек отчаянной храбрости, кавалер шести военных орденов, представлявшийся к званию Героя Советского Союза по праву, но так и не получивший его. Бывало и такое… Но он – один из немногих, кто принимал участие в параде на Красной площади в 1941 году, в Параде Победы в 1945 году и в юбилейном параде на той же Красной площади сорок лет спустя, в 1985 году.
У каждого своё Бородино
Григорий Тимофеевич Крестовоздвиженский
«Пол-Европы прошагали, пол-Земли», – поётся в песне. Григорий Тимофеевич относился именно к категории людей, обогнувших половину земного шара. Из нашего с ним долгого разговора я приведу здесь несколько эпизодов, которые показали бы, – какие неожиданные порой «сюрпризы» подкидывала людям война. В рассказе ветерана было очень мало перечисления его личных заслуг, хотя пять орденов и семь боевых медалей говорят сами за себя. Итак, рассказы о неожиданностях, которыми была заполнена война.
– До войны мы в Донецке жили. Тогда ведь как было: ордена редко кому давали. И мы, мальчишками ещё, каждого орденоносца в городе знали в лицо, бегали буквально за ними. Такое было у народа отношение к героям. И я, помню, завидовал этим людям страшно, поэтому, когда в армию призвали, это в 1940 году, в ноябре было, я даже обрадовался. Я решил про себя так: должен получить орден. Как говорится, – или грудь в крестах, или голова в кустах. И когда стало ясно, куда нас везут, тоже обрадовался, потому что тогда считалось, что там – самое опасное направление. А везли нас на Дальний Восток, в Приморский край. Ехали долго, очень долго. Двадцать дней, через всю страну. С песнями.
Попал я в полковую школу, началась учёба. В общем, когда война началась, мы в лагерях были, как многие. Присвоили звание младшего сержанта, стал я командиром орудия. 152-миллиметровые гаубицы у нас были. В тот день, 22 июня, у нас в лагере, это недалеко от Уссурийска, прошёл митинг. Как сейчас помню – батальонный комиссар выступал, Чеканов Андрей Кондратьевич. А потом нас начали гонять – сначала на оборонные работы – окопы копали, противотанковые рвы. Перемещали нас по ночам, с соблюдением маскировки. Чуть попозже начали нас поднимать по тревоге и отправлять на станцию железнодорожную. Сколько мы ни пытались узнать, – куда и зачем, – ничего не говорили, «военная тайна». И вот так до сентября. Поедем – вернёмся, поедем – вернёмся…Спрашиваем: «на фронт?». Не отвечают. Но однажды всё-таки погрузили нас в эшелон, повезли. Догадки у нас были всё же, но откуда мы знаем – правда или неправда. И уже только когда проехали Хабаровск, Новосибирск, Читу, к Иркутску уже подъезжали, – поняли, что на фронт. В Иркутске целый день стояли, – баня, еда, – а потом как рванули! Я вот говорил, что в армию нас везли двадцать дней. И вот ту же дорогу мы вдвое быстрей проехали… Вот здесь не знаю, – как рассказать. По правде или…
– По правде, конечно. А иначе – зачем?
– А по правде мы попали в чью-то ошибку или просто недоразумение. Прибыли мы на Волховский фронт – это я, как на самом деле было, рассказываю. Десять дней сидели в лесах, гуляли, ничего не делали, даже выстрела хотя бы одного не слыхали. Удивлялись, – что это за война такая. Вот вам и первая неожиданность. Где-то бои идут не на жизнь, а на смерть, а мы тут загораем…
Долго гулять нам, конечно, не дали. Через некоторое время подняли нас, погрузили. Повезли. Одно только поняли – под Москву, трудно там. Бросили нас в район Можайска. Прибыли ночью, темнело рано, выгрузились, и сразу – марш-бросок. У нас механическая тяга была – ЧТЗ, двигатели ревут, пушки тяжёлые, дорога разбитая. Едем. Куда, – одно начальство знает. Потом команда – стой, прибыли! Начали разворачивать свои гаубицы, но позиции не оборудовали – приказа не было. Ждали утра. И вот представляете – рассветает поздно и медленно, только какие-то силуэты можно различить. Рядом с нашей пушкой какое-то сооружение. Потом ещё чуть-чуть светлее стало. Смотрю – вроде памятник какой-то. Говорю ребятам: ну-ка посмотрите, что это такое. Они, значит, отошли. Потом подбегают, смотрю – они взволнованы, говорят: «Вы знаете, где мы находимся?» Да нет, говорим, не знаем. «Да на Бородинском поле!»
Вначале я не поверил. Потом сам убедился – точно. На памятниках-то всё написано. И знаете – чувство какое-то странное овладело. Ведь это Бородино! Ведь это – Москва за спиной! Стихи – те, знаменитые, многие повторяли, и смысл их здесь, на Бородинском поле, на поле славы, был… ну, не знаю, как сказать… особенно высоким, что ли…
Мы тогда не думали, не знали, что отсюда придётся отступать, что сожмут нас, как пружину, до предела. Орудия наши, все четыре, стояли справа от памятника. Моя пушка так вообще в десяти метрах. Ну, работа военная – позиции оборудовать, связь наладить… Привычно. Потом старший лейтенант Верстаков, командир наш, с лейтенантом Мамедовым, командиром взвода управления, отправились выбирать наблюдательный пункт батареи.
Через некоторое время мы начали огонь. Наше дело ведь такое: противника ты почти никогда не видишь, выполняй точно все команды, – в этом твоё искусство. Дали мы несколько залпов. И вдруг откуда-то из-за спины такой необычный, такой страшный звук раздался, что все мы на землю попадали: всё, думаем, накрыли нас. Только почему с тыла? Но, хотя звук продолжается, разрывов вокруг что-то нет, только по небу огненные трассы мелькают. Это потом уже мы знали голос гвардейских миномётов – «катюш», а тогда-то мы его услышали впервые!
До вечера вели огонь. Видно, неплохо, потому что за бородинские бои дивизия получила наименование гвардейской. Ну, это позже было, конечно. А тогда пришлось нам всё-таки отступать. Можайск оставили…
Вот я говорил, что противника своими глазами мы редко видели. Но в этих боях было и вот такое. Колонна немецких танков двигалась к Москве по шоссе. А мы стояли как раз так, что они к нам бортом оказались. Вот здесь наш наводчик Вася Коваленко класс показал: по головным ударили мы прямой наводкой. А если 152 миллиметра – да в борт! Три танка подбили мы сразу. По хвосту колонны тоже били, это уже другие орудия. Танки, которые посередине остались, попытались сползти с шоссе, но там болото было, они завязли. Короче говоря, уже через тридцать минут боя эта танковая колонна больше не существовала.
Потом мы снова отступали. До Кубинки, до села Акулово. Там сейчас стоит пушка – как памятник. Это – последний рубеж, где были остановлены немцы. Когда снова начали наступать, нашего полковника, Полосухина Виктора Ивановича, убили. Из пулемёта. Похоронили в Можайске его… При наступлении мы снова прошли через Бородинское поле.
Ладно, я что-то отвлёкся. Вернусь к исходному вопросу. О неожиданностях. Был тот случай возле села Васильки Уваровского района. Там по фронту образовался как-то такой вот довольно вытянутый выступ. Мы его аппендиксом называли и располагались как раз на нём. Были там старые позиции, ещё с отступления. Начальство, рассуждая логично, решило, что мёрзлую землю долбить не резон, если есть готовенькая позиция. Только, Лёша, уж лучше бы мы помучились! Потому что не учло наше начальство, что позиция уже пристреляна! Но это всё потом обнаружилось, а вначале думали только об одном – выступ очень соблазнительный, как бы немцы не попытались его отрезать. Потом, правда, поуспокоились: ничего, место открытое, незаметно подойти не смогут.
А они подошли. Неожиданно подошли и хитро. Они до трёхсот своих солдат переодели в нашу форму – выдали им наши полушубки, валенки, ушанки. И идут они спокойно, в полный рост, прямо на нашу батарею. И мы их видим, и на других батареях их видят, но никому в голову не придёт, что это фашисты на нас топают. А они – как актёры: и разговор невнятный слышен, и смех, кто-то там рукой нам издали машет…
Я и по сей день не знаю, почему заподозрил неладное. Просто так получилось. Интуиция какая-то. Бросился к лейтенанту в блиндаж. А он… я не знаю, можно ли об этом на плёнку говорить…
– Григорий Тимофеевич! Опять вы… Говорить можно обо всём, если это правда.
– Да не всегда мы правду говорим! Вопрос ведь такой… деликатный. Я о том, что во время войны многие ведь пили. Не фронтовые сто граммов, а больше, добывали себе. А часто и добывать было не надо. По списку личного состава столько-то человек, на них спирт положен, а после боя, глядишь, осталась половина в живых. Куда остальное девать? Не выливать же! Многие так приучились пить, многие… Тоже одна из трагедий человеческих, войной порождённых. Сколько людей из-за этого после войны так и не стали на ноги, фронтовики пополняли ряды бродяг и бандитов. А если покопаться в причинах, – всё опять же они, – «наркомовские», «фронтовые», «боевые», как их только не называли! Думаешь вот так иногда, – а можно было обойтись без этого? Иногда, точно скажу, нельзя было. Так что однозначного ответа нет, а беда человеческая есть… Только не пишут, не говорят об этом.
Короче, лейтенант не то что командовать, встать не мог. Что делать, боже мой, кто подскажет?! И комиссар наш, Васильев, куда-то отошёл. Решать самому надо. К нам они ближе всего, и если я что-то понял, то на соседних же батареях ничего не видят!
И тогда я на свой страх и риск скомандовал:
– Вася, давай!
Отвинтили головки и ударили по пехоте осколочными. После нескольких выстрелов на поле, на снегу остались шесть-семь десятков трупов, а остальные фашисты бросились бежать. Никто не стрелял, только наша пятая батарея. Кстати, потом нас ещё и ругали, что мало набили, можно было бы больше. А как «больше», если до последнего момента не было окончательной уверенности: это наши или немцы…
И вот тогда по нам ударили. Да как! Били по пристрелянному. Это был настоящий ад. Василий Васильевич, комиссар наш, он появился после первого же выстрела, кричал мне:
– Иди сюда! Здесь безопаснее!
Убило его. Осколком в висок. Кровь фонтаном, а он по инерции всё хочет выговорить: «Иди сюда, Гриша!» Лейтенант наш всё-таки выскочил спьяну из блиндажа, его снайпер убил прямо на пороге. Старшина-сверхсрочник Лебедев у нас был, его тоже – в сердце…
А мне повезло. Мне пуля попала в завязки на ушанке, перебила, уши у неё так и свесились…
Вот и такие неожиданности бывали. Меня за этот бой орденом Красной Звезды наградили. В Кремле вручали.


