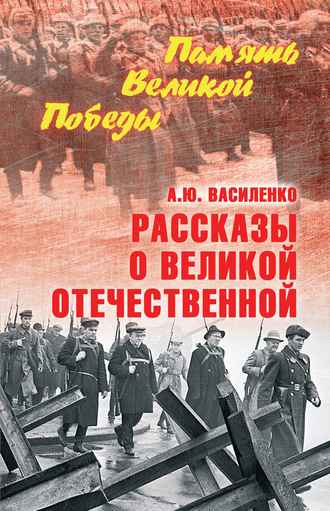
Алексей Василенко
Рассказы о Великой Отечественной
Страницы жизни фронтового разведчика
Борис Павлович Коротков
– В начале войны Костромской-то области вообще не было. Кто-то додумался до того, что древнюю Костромскую землю взяли да разделили между соседями. Я вот думаю – уж не за то ли, что династия Романовых от нас пошла? Так или иначе, а вся западная часть бывшей губернии стала Ярославской областью. Остальное поделили другие соседи. И вот как только война началась, здесь, в Песочном, стали формироваться дивизии. Здесь же оформлялась и вооружалась Ярославская добровольческая дивизия, которая позже стала называться коммунистической, потому что создавалась она по решению Ярославского партактива. К тому времени положение создалось очень трудное – немцы были уже в Калинине, в Клину, в Солнечногорске. Срочно нужны были резервы. И вот на заводе «Пролетарская свобода», на котором я работал после ФЗУ (фабрично-заводского училища, кто не знает), был установлен стол, покрытый скатертью, положен лист бумаги и было сказано: «Создаётся добровольческая дивизия. Записывайтесь!»
Тут я малость отступлю, потому что не могу не сказать. Мне приходилось в последние годы видеть кривые ухмылки при словах «коммунистическая дивизия», уже многим вбито в головы представление о том, что коммунисты и комсомольцы подчинялись приказу партии, когда шли на фронт, и тому подобная чепуха. Да, мы подчинялись приказу. Но не партии, а совести и долга. Фронтовики не дадут соврать: во время войны самой бесшабашной ударной силой были штрафные роты, которые шли вперёд. не очень-то страшась смерти. А самой волевой, сознательной ударной силой были именно коммунисты и комсомольцы, которые в самые безвыходные минуты сами по себе поднимались в атаку первыми. А вы знаете, как это трудно – встать первым?
В Ярославской дивизии было семьдесят процентов коммунистов и комсомольцев, каждый из которых вступил без всякого понуждения, добровольно. Остальные тоже были добровольцами, не имея никаких билетов – партийных, комсомольских, – будучи такими же патриотами своей Родины. Люди собирались сюда с огромной территории, побольше многих европейских государств, из Рыбинска, Буя, Ярославля, Нерехты, Костромы, Шарьи, Красного… Колонны добровольцев с оркестром грузились в вагоны и ехали до станции Космынино. Оттуда пешим строем шли в Песочное, где размещались в землянках, через которые прошли уже три дивизии.
11 ноября был морозный день. К тому времени уже были определены полки – Ярославский, Костромской, Рыбинский. Ко мне подошёл знакомый парень и подсказал свои разведданные: в Костромском полку выдают хорошую гречневую кашу. Ну, какой же солдат пренебрежёт такой возможностью! Уже вечер был, все проголодались. И вот мы с ним побежали через речку, смотрим – действительно, стоит походная полевая кухня, кашевар котелки наполняет резво и раздаёт кому сколько надо. Короче, успели к раздаче. Я подошёл, впереди стоявшего тронул за плечо: вы последний? Тот оборачивается, и я вижу, что это мой папа! Ну, обнялись…
– Ты куда?
– Как куда? Туда же, куда и ты, отец… Я из Ярославля, ты – из Костромы, а всё в одной точке все сходимся.
– Ничего не сходимся! Ты… это… Марш домой, нечего тебе здесь делать. Пока присягу не давал.
– Ну, это мы ещё поживём – увидим!
Вот с того дня, с 11 ноября, стояли мы на формировании до 5 декабря. Это был День Конституции и начала разгрома фашистов под Москвой. В этот день мы принимали присягу.
Перед тем нас одевали. Когда разглядишь всю одежонку, то понимаешь: уже вся страна на войну работает. Валенки – из Борщина, там такое производство было, «Красный валенщик» называлось, шапки – сусанинские, бушлаты – костромские. Всё это было сшито для нас за месяц. А ещё нас учили, готовили – и всё за короткий период. И вот тогда же была создана 225-я моторазведывательная рота, дивизионная разведка. Пришёл к нам первый командир роты лейтенант Николай Стаценко: есть ли добровольцы из добровольцев? В числе тринадцати человек шагнул вперёд и я.
– Цифра тринадцать несчастья вам не принесла?
– Всё время попадаю на эту цифру. А вот везёт или не везёт… 13 мая 1942 года мы шли с группой по минному полю с товарищем, с Ивановым. Вячеслав Дмитриевич он был. Тяжело его ранило, и мы, пять человек, на плащ-палатке вынесли его, а я даже и не заметил, не почувствовал, что получил тоже ранение.
– А отец ваш где служил? Вы – в разведке, а он?
– А он служил в конном взводе разведки и прошёл от Волги до Эльбы, как и вся наша дивизия. Мы ведь были коммунистической дивизией и никогда, ни разу не отступали, шли вперёд в любых условиях…
– Борис Павлович, в вашей жизни фронтового разведчика было, конечно, немало опасностей, неожиданностей…
– Да уж… На хороший приключенческий роман хватит. Но вообще-то послевоенные поколения, которые сами войну не видели, если не считать тех, которые были в Афгане, в Чечне и других «горячих» точках, они представляют войну такой, какой показывают её нам в кино. Сразу скажу – хорошее кино у нас о войне было снято, много, очень много правдивейших фильмов. И всё равно это – искусство, а оно всегда выборочно, всегда заостряет события, всегда помещает под увеличительное стекло. В кино события целого года могут уместиться в несколько, скажем, дней. Война намного прозаичнее, чем принято её изображать. Хотя… Действительно, бывали случаи, которые, сидя за столом, не придумаешь.
Был это сорок второй год, весна, апрель. Группа первого взвода нашей разведроты получила задание. В группе были Вячеслав Иванов, о нём я уже говорил, Леонид Зимин, Иван Серов, Размашкин, имя забыл уже, и ваш покорный слуга. Командиром был лейтенант Стаценко. А задание обычное: пройти в тыл к противнику и взять «языка», чтобы уточнить дислокацию. Командир роты лейтенант Докукин указал нам даже примерное место засады и наблюдения. В общем, работа знакомая.
Ну, мы отправились. Все шестеро уже давно научились передвигаться по лесу бесшумно, а тут ещё под утро туман всё придавил, все звуки пригасил, так что плыли мы в тумане, как привидения. И всё же у одного из нас, у сержанта Зимина, оказался слух острее всех. В принципе это спасло всем нам жизнь. Зимин даёт сигнал лейтенанту Стаценко: внимание! Все замерли. В чём дело? Зимин шёпотом докладывает: слева какое-то движение, треск какой-то отчётливо был слышен.
Стали наблюдать и слушать. И верно – что-то двигается, а что – непонятно, людей не видно, какая-то масса, полоса или вообще чёрт знает что!
Кто-то первым сообразил:
– Немцы. Маскируются чем-то.
Стали ещё смотреть, благо расстояние позволяло. Немцы шли, прикрываясь такими сплетёнными из прутьев шпалерами, щитами. И надо сказать, что в весеннем лесу это была лучшая маскировка.
Дальше мы разворачивались без единого звука. Рассредоточились, интервал двадцать метров примерно, автоматчики на флангах (начало сорок второго, в разведку идём, два автомата всего!). Стали ждать, когда они приблизятся. Не знаю уж, куда они шли. Может быть, с таким же заданием, как и мы: пройти к нам в тыл и взять в плен кого-нибудь. Но, правда, для такой цели их было многовато – десятка четыре, если не больше. А нас шестеро!
Мы подпустили их близко. И когда мы открыли огонь, для них это было такой неожиданностью, что они растерялись. Вот тут началось настоящее кино, боевик! Да, забыл сказать, что помимо того, что их было семь на одного нашего, у них было ещё два пулемёта. Тоже, по армейской науке, на флангах.
Тут уже кадры мелькают. Одновременно с тем, что мы открыли огонь, мы забросали их гранатами. Взрывы, стрельба. Славка Иванов сразу же снял пулемётчика справа. Стаценко на другом фланге подобрался к другому пулемётчику, прыгнул на него с ножом. После этого ножа ещё никто живым не уходил. Схватил пулемёт и стал стрелять по немцам. Куда там Сталлоне! Правда, доля юмора здесь оказалась, которая могла стоить ему жизни. В горячке боя он не сообразил, что переводчик пулемётный поставлен на одиночную стрельбу, очереди вначале не получались…
Как я сейчас представляю, мы, наверно, выглядели в глазах немцев такими лесными дьяволами, оборотнями, которые возникли сразу из воздуха. И ещё им должно было показаться, что нас гораздо больше, чем было на самом деле, потому что мы всё время передвигались…
Немцы не выдержали. Бежали, оставив трупы, оружие. К сожалению, унесли с собой рацию. А это грозило нам неприятностями. Стаценко быстро сообразил, что к чему, и скомандовал отход. Забрали мы пленного, собрали столько оружия, сколько могли унести, в том числе и оба пулемёта, и быстренько отошли в нашу сторону.
Уже через десять минут по месту, где мы только что были, стала лупить немецкая артиллерия, «подарок» от удравших немцев – координаты передали по радио.
Через пару дней вышел очередной номер нашей дивизионной газеты «За Отчизну». Там большую статью поместили, заголовок был набран крупными буквами: «Шестеро против сорока». Денёк-другой походили в героях. А собравшись тесным кружком, посмеивались, вспоминая, как Стаценко садил одиночными из пулемёта. Сам лейтенант смеялся больше всех…
Вот такое дело было в апреле сорок второго года в Смоленской области в районе деревни Гаврово ныне Духовщинского района, который прежде назывался Пречистенским. Я потом был там. На том примерно месте стоит прекрасная огромная электростанция. Местные жители с огромным уважением относятся к памяти о воинах, погибших за освобождение смоленской земли.
– У вас есть самая дорогая награда?
– Мы ведь не за ордена и медали воевали. Каждый выполнял свой долг, может быть, и не совершая какой-то подвиг. А награда… Вот эта. На Курско-Орловской дуге за захват снайпера немецкого я был награждён медалью «За отвагу». И, чтобы не пропал я, не пропала медаль, выгравировал с другой стороны медали, вот здесь, посмотрите: «Борис Коротков. 1943 год». Это первая памятная надпись, сделанная мной. А вторая…
Это уже в конце войны. У меня тогда тяжёлое ранение было, а когда подлечили, я оказался в запасном полку в Москве. Нас, группу в 15 человек, готовили к перелёту в Германию. И тут война кончилась. Все победу празднуют, а нам приказ: команда номер такой-то! Приготовиться к отъезду! Ну, дело военное, что там готовиться? Автобус привозит нас в Тушино, где ещё недавно репетировались торжественные парады, а тогда был действовавший аэропорт. Сажают нас в «Дуглас», и прямиком мы летим в Берлин!
Приземлились мы в аэропорту Темпльгоф. Город горит, везде наши солдаты, у всех отличное настроение. Нас-то в Берлин со специальным заданием переправили, а мы воспользовались моментом: тут же сразу пошли, никуда не распределяясь, никуда ещё, ни в чьё подчинение не входя, к Бранденбургским воротам. А потом правее – к Рейхстагу. Вот и мне довелось на стенах Рейхстага поставить свою фамилию. Оторвали мы вроде двери какой-то металлической или щита, ломом пришлось орудовать, – там оказалась чистая штукатурка. И мы, один на другого забираясь, писали.
Я написал: «Я парень с Волги. Не дошёл, так долетел. Коротков».
Боевое крещение
Антонина Николаевна Смирнова
– Три с половиной года была я на войне. Прошла путь до Польши. Была младшим сержантом, командиром отделения разведки по воздушному противнику… Началось для меня участие в Великой Отечественной войне 10 апреля 1942 года. Батарея наша размещалась в центре Ярославля, в саду на проспекте Шмидта. В тот день, а точнее – вечер, воздушная тревога была объявлена часов в девять. Светло ещё было совсем. И появился немецкий самолёт. Но как только по нему открыли огонь, он развернулся и улетел, наверно, это был разведчик. Через час примерно снова появились самолёты. Летели они группами по три, по шесть. Вообще-то моя задача была определять высоту, направление, скорость воздушной цели, тип самолёта, но сейчас-то в этом не было необходимости – он был, противника я имею в виду, на глазах: самолёты нагло шли прямо на мост. Он, вероятно, был их главной целью, потому что фактически соединял восточные районы с центром страны. Налёт был массированный, потом говорили, что там было до сотни самолётов.
В городе была ужасная обстановка, все орудия, и наша батарея в том числе, вели огонь. Аэростаты подняты, истребители носятся, вступили в бой – в Ярославле было тогда два воздушных полка, и все машины поднялись в воздух. Гул моторов, разрывы… Грохот был такой, что порой было даже не разобрать команды. Огонь наш, зенитный, и в воздухе – сплошная стена, плотная-плотная, всё-таки два зенитных полка прикрывали город. Немцы не в силах были преодолеть такой заслон, метались и сбрасывали бомбовый груз куда попало, большая часть попала в Волгу, но падали и на жилые кварталы бомбы, из-за этого пожаров было много.
Больше двух часов длился этот бой. Одна группа самолётов уходила, на смену тут же прилетала другая, следующая группа. Но мост-то оставался цел! Уже потом мы узнали, что один немецкий самолёт удалось посадить в посёлке Ляпино. Тогда и выяснилось, что это был особый приказ, чуть ли не самого Гитлера, – уничтожить этот мост.
Вот такое было у меня боевое крещение.
Сейчас от тех военных времён только фотографии остались. Вот они – на снимках девчонки наши, одна краше другой были. А вот сегодня, понимаете, уже никого не осталось, все умерли. Только в Ярославле двое остались – наш командир Новиков и ещё одна девочка – Лебедева. Последнюю хоронила прошлым летом. А вот эта фотография – это мы в Польше, накануне отправки домой. На память. Вот это – Опарина Зоя…
…Антонина Николаевна плакала. О них, о тех далёких, молодых, ушедших…
Диверсант
Изосим Афанасьевич Грустливый
– Что это за значок такой, Изосим Афанасьевич? Никогда не видел такого.
– Это большая редкость, неудивительно, что не встречали. Мы ведь из подразделения, о котором вообще запрещалось даже упоминать, не то что в особой форме ходить или значок какой-то носить… Это во время войны, я имею в виду. После войны нас осталось не так уж много живых, хотя и в начале не массовое подразделение было. А уж дожить до того времени, когда был учреждён этот знак, – немногим довелось.
Вот здесь написано: «Ветеран ОМСБОН». Думаю, что надпись требует расшифровки, немногие вообще это слово слышали. А читается это так: «отдельная мотострелковая бригада особого назначения». В первые же дни войны нас всех собрали в Москве, на стадионе «Динамо». Мы все были спортсменами, многие – известными спортсменами, госбезопасность трясла нас сквозь своё решето, кто-то отсеялся. Только потом, намного позже, нам стала ясна задача, для выполнения которой нас и собрали…
– Я слышал и читал об этом. Насколько я знаю, вы были тем ядром, вокруг которого потом, после заброски групп в тыл противника, формировались партизанские отряды?
– Именно так.
– Так сказать, организующие диверсанты.
– Точно. Но вначале была учёба. Учили нас всему – взрывному делу, стрельбе из различных видов оружия, способам выживания, методам пропаганды – словом, тому, что может понадобиться в тылу противника. Вот пока шла учёба, мы жили в Москве. Странное дело, но почему-то об этих первых месяцах войны в Москве очень мало написано. То есть литературы и фильмов много, но литература вращается обычно в верхних эшелонах власти, описывает, что думал Сталин, а вот что думал токарь Иван Семёнович, разбирая свой станок и готовя его к эвакуации, что думали миллионы москвичей, – об этом очень, очень мало. Одним из первых коснулся этого материала Виктор Сергеевич Розов, драматург, мой земляк. Помните пьесу, а потом фильм по пьесе – «Летят журавли»? А вот прозаиков такой силы изображения, описания что-то не помню. Так что драматургия – это совсем другая песня. А у большинства очевидцев и у меня, кстати, не хватит слов, чтоб рассказать о первой бомбёжке Москвы, например. Это было ровно месяц спустя после начала войны – 22 июля. Самолёты шли с заката, навыков воздушных тревог у населения ещё не было, никто толком не знает, куда бежать, хотя тренировки проводились ещё до войны, но относились к ним несерьёзно, со смешком… Паника была в тот день. Самая настоящая. Хотя нам никто прямо не говорил, что Москва неуязвима, люди как-то незаметно создали сами себе миф о том, что уж мы-то уж! Что сталинские соколы не допустят. И тут в одночасье вот такая ничем не оправданная уверенность рухнула в тартарары. Все одновременно увидели, что война пришла в самое сердце страны…
– Ну, насчёт удара по психике людей – так оно и есть. А вот в отношении кино и литературы… Они же не во время паники создаются!
– Так пусть тогда литераторы, киношники глубже копаются в деталях, в воспоминаниях, в подробностях, без которых любые описания – мертвы. То и дело видишь на экране какие-то неточности, которые в один момент рассеивают иллюзию правды. А если даже вставляются документальные кадры, то из фильма в фильм повторяется одно и то же: улица, «ведут» аэростат воздушного заграждения, «ежи» на перекрёстках, заклеенные стёкла… И всё. Ощущение правды появилось в одной из серий фильма «Рождённая революцией». Помните, когда паникёров и мародёров расстреливали в Москве прямо на месте преступления? Но никогда не показывали в кино десятки людей, умиравших на непосильных для них работах по рытью противотанковых рвов и прочих заграждений… Никогда не говорилось о предательстве в человеческих отношениях, не говоря уж о предательстве Родины. Не упоминалась так сразу проявившаяся классовая разделённость, когда обеспеченные, при должностях люди буквально зубами вырывали транспорт для своего домашнего барахла… Вот такой жёсткой, ясной и горькой правды до сих пор ещё всё же мало… Неужели она так и не будет нужна? Не верю!
И вот несколько месяцев нас «натаскивали». Наш отряд располагался в Доме Союзов, в Колонном зале. По всему залу стояли койки, на балконе – тоже. А мы – наша группа – были рядом со сценой. Помните, когда-то концерты показывали по телевидению? Вот как раз там, откуда артисты выходили, там есть такая комната, где одеваются, готовятся. Вот там как раз были мы. Обедать ходили недалеко – на площадь Дзержинского, Лубянку. Там, в начале тогдашней улицы Кирова, была столовая. Однажды возвращаемся – бомбёжка. А мы как раз до площади Большого театра дошли. Смотрим, а там посередине площади будка стояла постового милиционера. Так вот у нас на глазах эту будку снесло воздушной волной. Хорошо ещё, что в ней никого не было.
Кстати, Большой театр замаскирован был. Там художники постарались: на фасаде нарисовали маленькие дома, крыши. Издали и не сориентируешься, какой это объект. Красная площадь тоже была вся в маскировке. Над Мавзолеем домик соорудили. Я Мавзолей тогда только один раз открытым и видел – во время парада на Красной площади 7 ноября. Мы стояли в оцеплении как раз напротив – вдоль ГУМа. На время парада маскировочный домик сняли. Сталин стоял на открытой трибуне. Шёл снег.
…А из нашей рейдовой, разведочной, партизанской деятельности запомнился мне один поход, в котором мы, увы, не выполнили задания.
Дело в том, что хотя мы и сами были разведчиками за линией фронта, но первое, чем мы занимались, это организация своей собственной сети из патриотически настроенных людей. И вот такие люди сообщили нам, что из одного немецкого гарнизона в другой должны повезти почту. Хорошо агенты сработали: точный маршрут указали, по какой дороге поедут, дату и час. То есть свою задачу выполнили.
Отлично! Дело это происходило в Белоруссии, уже была прямая связь по радио с Москвой. Тут же шифровку в Москву, тут же получаем ответ: брать.
Ну если пояснять нужно, то скажу, что мешки с письмами, даже прошедшими военную цензуру, это лакомый кусочек для разведчиков-аналитиков. Не говоря уж о том, что там могла быть и секретная почта, раз немцы посылают хороший конвой, о чём нам тоже сообщили.
Вышли мы группой человек двадцать, добрались до указанного шоссе, стали осматриваться. Шоссе асфальтированное, что в тех краях довольно редкая была штука. Подались вдоль дороги туда-сюда, нашли подходящее местечко. Там низиночка такая, весной, видимо, в ней вода, поэтому через неё перекинут мосточек такой деревянный. Пока время позволяло, заложили тол, взрывчатку. Взрыватель у нас был самый простой и самый надёжный – натяжного действия, что в переводе на нормальный язык звучит, как в сказке о Красной Шапочке: «Дёрни верёвочку, дверь и откроется».
Расположились мы вдоль дороги. Ждём. А у меня так получилось, что я оказался дальше всех с той стороны, с какой немцы должны были подъехать. Хорошо это или плохо – кто об этом думал?
Потом глядим – едут фрицы. Название, конечно, презрительное, сейчас его не употребляют, а во время войны – только так. Несмотря на прозвание, они были далеко не теми шутами, какими были персонажи наших «Боевых киносборников» и журнала «Крокодил». Не доезжая до этого мостика метров пятьдесят, они остановились. Выпрыгивают из машины человек восемь, и от того примерно места, где я затаился, идут к мостику – проверить на случай минирования. А чего там проверять – только загляни вниз и сразу всё увидишь. Короче говоря, сразу было понятно, что наша операция провалилась. Ну, какой тут выход? Взорвать проверяющих и атаковать машину. Самое естественное решение. А вышло-то всё не так.
Промашка наша была в том, что мы упёрлись в один вариант и не предусмотрели даже других исходов ситуации. Во всяком случае о способе действий мы не договорились, если бы мы себя или они нас обнаружили. До того были уверены в успехе…
Надо взрывать. Лежу, жду. Ну, когда они вплотную подошли, Коля, парень, в руках которого был, так сказать, «руль», дёрнул шнур – и они взлетели так красиво… «Дверь и откроется»… На небо.
Слышу команду: «фойер!» – открыли огонь. Стреляют, в общем, беспорядочно, не зная куда. Я лежу, себя не обнаруживаю, жду, когда наши стрелять начнут и пойдут на захват машины. Вот тогда, поскольку я ближе всех, я очень пригожусь. Смотрю, немцы уже не куда попало, а целенаправленно огонь ведут. Оказывается, наши почему-то начали отходить к лесу. Вот такая согласованность…
Ну, ладно, думаю. Я их прикрою, пока они добегут, а потом они меня из леса подстрахуют, я тоже и отойду. Пострелял немного. Попал, не попал – в такой операции кто смотрит. Но близко было, так что вполне вероятно – попал. Но главное – они меня засекли и уже по мне шпарят. Пора бы и нашим из леса меня поддержать… И вдруг с ужасающей ясностью я понял, что стрелять никто не будет, что они решили за меня, что из ловушки я не выберусь, мне конец – одному против десятка автоматчиков и пулемёта…
В общем-то, по военным законам мне действительно был конец. Но голова-то не желает мириться с этим! Наших – никогошеньки, а жить хочется. Пора драпать. И я, вспомнив все свои спортивные и военные навыки, рванул к лесу. Ну, не напрямик, конечно, а зигзагами, но ведь и зигзаги делать надо уметь! Заяц – он неожиданные скачки делает, а у меня вправо, влево… Там, на дороге, неплохой стрелок сидел: первая пуля летела в область печени, я её рукой «поймал», хотя и почувствовал только ожог. А вторая пуля уж точно в сердце шла, да только чуть выше попала, между первым и вторым ребром навылет. Тут я, понятное дело, упал. Хорошо хоть, в сознании остался.
Очень странное ощущение было. Боли практически не чувствовал – шок. Но вот пить вдруг захотелось неимоверно. А упал я – там ложбинка какая-то была и в ней грязь жидкая, лужа. И с головой тоже что-то не то было, потому что набрал я горсть жижи этой – и в рот сцеживаю из кулака. Но полегче стало. И я вижу: вокруг праздник осени, а всё это второго сентября было, – море клюквы! Я горсть схватил – и в рот. Только стал жевать, в голове от этой кислоты прояснилось, и я впервые после того, как подстрелили, подумал о немцах.
А они уже тут как тут – двое. Бегут. Торопятся добить или, ещё лучше, живым взять…
Ну, живым-то у нас не сдавался никто, не принято это как-то было. Так что я уже приготовился. Но! Видно, есть у меня где-то высокий покровитель. Они приближались всё медленнее, с опаской, потом остановились, потом повернули назад – струхнули всё-таки. Потом слышу – мотор. Уехали.
И вот тогда я отключился.
…Когда пришёл в себя, была ночь. Лежу навзничь, а над головой между верхушек сосен звёзды яркие-яркие, крупные-крупные. А в голове ворочаются ленивые мысли шекспировского толка: жить или не жить? Видно, крови я потерял немало, потому что каждое движение и даже мысли – медленные, вялые. Потом уже я дошёл до глубокого философского вывода: если лежать – помрёшь. Лучше встать и идти. Кое-как встал. Шатаюсь. Шаг, другой… Метров двадцать пройду и падаю. Как ванька-встанька, поднимаюсь и снова иду. И вдруг слышу – где-то совсем рядом женщины разговаривают. О чём, не разберёшь, но голоса отчётливо слышно. Господи, это ж моё спасение! Видно, под утро ягодницы в лес вышли. Скорей туда! Иду, иду, – нет никого. Что за наваждение! Потом, уж рассвело, слышу – пастух кнутом своим щёлкает. Щелчки по лесу, как выстрелы из малокалиберного пистолета. Опять иду в том направлении и уже по дороге догадываюсь: пастуха слышно, а стадо – нет. Вот чертовщина – слуховые галлюцинации начались. И естественно, нет никого…
В конце концов вышел я к деревне. С опушки осмотрелся, постоял. Из крайнего дома женщина вышла. Я – оружие наготове, помахал ей. Она подошла. Осторожно, всё-таки чужой человек и с автоматом. А я только одно – пить. Принесла она мне кружку… нет, не воды, молока она мне принесла, но с ней уже мужик подошёл какой-то. Дай, говорит, автомат понесу. Ну, уж нет, там ещё несколько патронов осталось, не все расстрелял, пусть оружие при мне будет. Бережёного, как говорится…
А тем временем наши ребята, оказывается, вернулись в отряд. Ну, командир дал им нагоняй и за невыполненное задание, и, самое главное, что они не знают, где я. Велел добыть меня живого или мёртвого. И вот они, это уж мне так повезло, вышли как раз на ту деревню. Положили меня на повозку с сеном – и в отряд.
Через фронт на носилках переправляли, крестьянин был проводником. Вёл он нас каким-то берёзовым лесом. Лежу, а над головой берёзы проплывают…
– Да, этот рейд у вас не самый удачный был.
– Зато, когда всё закончилось и мы оказались уже по эту сторону фронта, какое радостное было ощущение, непередаваемое!
Письмо Ольги Михайловны Степановой
27 ноября 1942 года. «Здравствуйте, дорогие мама, деда и Горик!.. Не беспокойтесь и не расстраивайтесь. Ведь нас очень много. А народ, когда он стоит за правое дело, всегда побеждает. Пусть Игорь лучше учится. Теперь вот мне приходится сознаться в полном своём невежестве, хотя и училась 11 лет, а иногда не знаешь самых элементарных вещей. Поверхностно всё будто знаешь, а коснись поглубже, и приходится краснеть. Откровенно говоря, плохо нас учили, и сами мы плохо к этому подходили. Особенно, Игорь, поднажми на физику, электричество, узнавай всё как можно глубже – это очень интересно. После войны обязательно пойду учиться, и чтобы уже ни один день не пропал даром. А чтоб скорее учиться, будем лучше воевать, быстрее разобьём врага. Ну, пока всё. Целую. Лялька».
Степанова Ольга Михайловна… Господи, да какая же она Михайловна! Оля она, Оленька, Лялька! Она 1924 года рождения. До войны успела окончить среднюю школу и поступить в Ленинградский кораблестроительный институт. Только поступила, и — школы радиоспециалистов в Горьком, в Москве. После окончания была заброшена в один из партизанских отрядов. Погибла на Буковине, в 1944 году, в двадцать лет.


