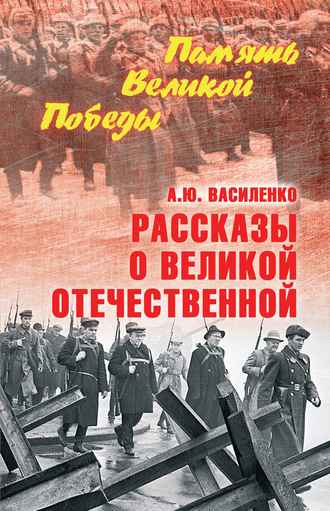
Алексей Василенко
Рассказы о Великой Отечественной
Уйти от смерти и пойти на смерть
Михаил Михайлович Полковников
Человеком он был со многими особинками. Когда мы с Михаилом Михайловичем познакомились, ему было уже немало лет, но он был красив. Не стариковской красотой, ведь как много красивых лиц у стариков, а красотой молодого парня: седины практически нет, выправка гимнаста, походка уверенная… Военный мундир полковника Полковникова тоже необычен. На нём много орденов и медалей, но опытный взгляд заметит одну практически невозможную деталь: среди наград есть четыре ордена Отечественной войны! По статуту этого ордена их должно быть максимум два. А если добавить юбилейное награждение к 50-летию Победы, то три, но никак не четыре. Михаил Михайлович объяснил это простым недоразумением: представили к ордену, награждение задержалось, как это часто бывало во время войны. Пока бумаги кочевали, Полковников заслужил ещё один орден. Естественно, той же степени, поскольку первый не был получен. А потом пришла первая награда… Вот и вышло два ордена второй степени.
Да, особинок у него много. Взять хотя бы фамилию в сочетании со званием. Или вот его выправка, осанка. Она ведь не просто армейская, офицерская. В большом возрасте сгибаются и недомогают почти все. А у него это от армейской специальности, от того, что он много лет провёл в седле. Он кавалерист. Воевавший на лошадях и влюблённый в них.
– А как же не любить их?! Тут не просто красивое и умное животное, а друг, который множество раз спасал тебе жизнь, бывая в самых невероятных ситуациях. В самом начале войны, в Белоруссии, кони дважды вынесли меня из таких мясорубок – не дай и не приведи, как говорится. Мы тогда были лишены связи, координации войск, немцы внесли сумятицу, и мы не в силах были понять, где наши, а где противник. А оказалось, что уже были немцы кругом, в окружение мы попали. Но заметили мы это слишком поздно, когда они начали нас танками, артиллерией и авиацией долбить и давить. А ведь у нас приказ был – наступать! Слава богу, потом его отменили, велели выходить из окружения. Куда? Понятно, на восток. Но ведь это и немцам было понятно, и они уже заготовили для нас на этом направлении сюрприз – примерно дивизион артиллерии там ждал нас.
Мы это вовремя узнали. Что делать? Выход был один – делать расчёт на стремительность броска, на психологическое воздействие.
Собрали людей, объяснили им задачу и – по коням! Развернулись и пошли лавой на пушки.
Пространство было хорошо простреливаемое, поэтому надежды была на ноги коней, на то, что артиллеристы не успеют сделать второй залп. Ну, первый-то нам придётся взять на себя. Первый раз они успеют выстрелить по-всякому…
Пошли, понеслись, дьяволы. Лава пересекает открытое место – первый залп. Наши гибнут многие. У меня снаряд пролетел буквально в нескольких сантиметрах от уха, сильнейшая контузия была. Кто-то из немцев успел выстрелить и по второму разу – практически в упор. Но посмотрите на происходящее их глазами. Летят эти красные на них быстрее, чем они могут сменить прицел! Шашки сверкают, конники орут – ведь с криком погибать легче… Короче, побежали они, не выдержали. Тут мы всю орудийную прислугу и порубили.
Вышли мы из окружения, и уже вместо ожидаемого немцами направления на восток повернули на запад. Там находился районный центр белорусский – Хотимск, небольшой городок, на который мы свалились неожиданно для немцев. Это была одна из самых первых успешных операций в начале войны. Мы раздобыли к тому времени снарядов для наших пушек, доукомплектовались и смогли ударить так, что взяли город, и не только взяли, но и гнали противника ещё восемь километров от города.
Такой рейд не остался незамеченным. Ведь мы их там много положили. Паника опережала нас, немцы считали, что это не самостоятельно ищущая выхода часть, а обходный манёвр советского командования. За нами началась охота. И тоже – нам-то виднее на месте, что делать. Развивать бы успех за Хотимском, но нет, получили приказ: отступать. Отступать решили ночью, под покровом темноты. Вышли мы по-тихому из Хотимска, а уже утром нас встретили немецкие танки…
Там лес был. Вот он, на фотографии в книге. Из этого леса большим числом атаковали они нас. Потери были большие. Раздавлен обоз, погибло много людей. Но кони всё же выносили нас сквозь танковый строй. Уже потом жители села, возле которого всё произошло, собрали погибших и захоронили в братской могиле. Мы не могли этого сделать для наших товарищей, те, кто вырвался из этого капкана. А много лет спустя на этом месте поставили памятник. Эта вот книга называется «Могилёвщина. Памятники бессмертной славы». Тут, видите, много памятников. Ну, и в том числе – памятник в честь подвигов нашего 112-го горно-кавалерийского полка. Вот он.
…Огромная скульптура: всадник на коне. Конь длинноногий, нервный, он застыл в напряжении, он готов вновь в бой. На стременах приподнявшийся с седла тонкий, гибкий кавалерист. Он очень похож на Михаила Михайловича. Он приподнялся на стременах и обернулся вполоборота назад. Он смотрит туда, где остались лежать боевые друзья, которых он никак не мог похоронить… И конь его тоже – повернул голову назад и зовёт, зовёт за собой… Но там никого нет… Я видел много памятников, много конных статуй. Но эта у меня то и дело встаёт перед глазами. Может быть, потому, что я знаю теперь её историю…
– Михаил Михайлович, время, годы отодвинули кавалерию на задний план. Современная армия – армия машин, и живому организму лошади здесь вроде бы не место. Но ведь подобные мысли были у многих военачальников ещё до войны. Уборевич, Тухачевский ратовали за «технизацию» армии, а за кавалерию цеплялись, в общем-то, представители старого поколения, рубаки Гражданской войны.
– Правы были и те, и те. Это сегодня вопрос решился в одну сторону. А ведь сколько десятков лет прошло! И на время Отечественной войны вопрос был очень спорным, потому что кавалерия показала себя во многих случаях эффективным видом войск, а для победы все средства были хороши.
Ну, вот давай посмотрим. Кавалерия (при полном отсутствии подходящей для этого техники) куда более мобильна, подвижна по сравнению с пехотой и могла совершать значительные переходы. Обычный для нас переход был 60–80 километров в сутки. А пехота проходит маршем максимум 30 километров. Люди не лошади. Если переход форсированный был, то мы могли делать до 120 километров в сутки. Теперь возьмём танки. Им надо взаимодействовать с пехотой в наступлении. А как, если люди за ними не поспевают? Танки уходят вперёд, пехота – где-то сзади. Вот в таких ситуациях кавалерия большую роль сыграла. На всех фронтах были сформированы так называемые конно-механизированные группы. Они были самые подвижные из всех родов войск. И если проследить за всеми крупными операциями в истории Великой Отечественной войны, то увидим, что везде принимали участие семь кавалерийских корпусов, которые взаимодействовали с танками и механизированными войсками. И сыграли немалую роль в нашей победе. А уж сколько среди конников было людей, совершивших настоящие подвиги, я уж не говорю. Выкручивались из самых сложных ситуаций с героизмом и, я бы сказал, с самопожертвованием.
Вот случай был. Мы принимали участие в окружении сталинградской группировки Паулюса. И когда кольцо замкнулось окончательно, нам было велено двигаться на запад – в направлении на Белую Калитву, Ворошиловград-Луганск и Донецк, который тогда назывался Сталино. В принципе с нами должны были ещё другие части пойти, но за нами почему-то фронт замкнулся, и мы самостоятельно пошли в рейд по тылам противника. Недели две мы беспокоили активно немцев, оттягивали на себя силы, громили маленькие гарнизоны, короче, были для планов немецкого командования такой помехой, такой занозой, которую надо было обязательно устранить. И так совпало, что решение это у них созрело тогда, когда у нас уже израсходованы были боеприпасы. Пополнить было неоткуда. Поступил приказ – пробиваться к нашему фронту или полностью перейти к партизанской войне. А какая партизанская в степях? Это не Белоруссия, не Украина.
Решили идти к своим.
Начали выходить. Разделились. – полки пошли каждый самостоятельно, а штаб со своими подразделениями – тоже. Немцы просчитали наш маршрут, а на нашем пути населённый пункт был у железной дороги. Так вот там они выгрузили целую танковую дивизию против нас.
Когда мы подошли к населённому пункту, который миновать мы никак не могли, и немцы это хорошо знали, командир говорит мне:
– Бери свой эскадрон, там танки стоят, разведка доложила, но сколько – не знаю. В общем, задача твоя – ввязаться в отвлекающий бой. Продержись двадцать минут – и мы сможем на рысях проскочить…
Он посылал нас на смерть. Он знал это. И я это знал. Ответил:
– Разрешите выполнять?
У меня-то народу мало осталось к тому моменту. Был у меня заместитель политрук Патаев. Мы с ним всех оставшихся пополам разделили – 12 ему, 12 у меня. По 13 человек в группе. Он по правой улице должен был пойти, я – по левой, их там, улиц-то, всего две было.
Мы одновременно, на галопе, с шумом, криком, выстрелами ворвались в этот населённый пункт – село не село, станция не станция… Такого нахальства немцы, конечно, не ожидали, начали бежать. Потом чуть пришли в себя, начали отстреливаться, мы тоже – прямо с сёдел стреляли. Одного танкиста я схватил за шиворот – и на седло, поперёк седла: «язык» нужен был командиру дивизии, чтобы знать, какая тут у них часть стоит. Ну, немцы уже поплотнее огонь ведут, отходят в конец посёлка этого. А там скотные дворы были, и танки, оказывается, стояли все там. Всё же они успели добежать, развернули несколько танков и сразу открыли огонь по нам. Нам ещё повезло, что не осколочные у них были, а болванки. Мы заскакивали в проходы между домами, снова показывались, словом, мельтешили перед ними, маячили, весь огонь вызывая на себя…
Держались мы где-то около получаса. Потом своим даю команду уходить. Наша группа потеряла двоих. Выскакиваем на соседнюю улицу, чтобы вместе догонять наших, а там уже забирать некого. Все ребята погибли, до одного…
Штаб догнали мы к ночи. Доложил, пленного сдал. Командир говорит: впереди село такое-то. Двух человек – в разведку. Ехать в открытую.
А разговор перед рассветом уже. И я понимаю, что ситуация повторяется, только это уже я сейчас пошлю на смерть людей. Впрочем, могло и повезти – и в селе немцев не было бы. Двое получили задание – ковочный кузнец Василий Морозов, он с Волги был, на «о» говорил, а второго фамилию не помню, он сибиряк был, хороший солдат был, правда, уже в возрасте. Передал я приказ, вижу, что они поняли. Почему на рассвете, почему только вдвоём. Поняли, что могут сейчас погибнуть.
Ответили:
– Разрешите выполнять?
И потихонечку, не спеша вдвоём двинулись к селу. Мы с командиром дивизии стояли и наблюдали за ними, как они едут. И вот не доехали они метров двести до околицы, немцы открыли огонь. Убили их сразу – и их, и коней…
Вот из таких случаев тоже складывается война. Порой думаешь: ну, какая связь между гибелью двух конников, которые погибли ради товарищей, под пули не попавших, и Победой? И всё же есть такая связь! Не они, не другие – и не было бы Победы и не сочинили бы после войны песню про то, как по берлинской мостовой кони шли на водопой, шли, потряхивая гривой, кони-дончаки… И как распевает верховой о том, что этим ребятам не впервой поить коней казацких из чужой реки… Едут, едут по Берлину наши казаки!
Письма Виктора Павловича Зыбина
7 мая 1942 года. «Дорогие Нинуша и Юра! 6 мая получил (наконец-то!) от тебя второе за всё это время письмо. Какой это был для меня праздник, описать нельзя! Стало тепло на душе, а в уголках глаз защипало. Читал письмо несколько раз подряд – запоем. Живо и реально представился город, улицы, наш двор, наша комната – словом, всё то, что так недосягаемо далеко и так желанно для меня…
Я в работе мешаю дни и ночи, определённого времени суток нет. Сплю когда и где можно. Впрочем, вшей нет – много белья. Работы меньше в штабе и больше на передовой. Вот там жизнь, там остро чувствуешь её каждым фибром твоего существа, каждый миг. Незабываемы мгновения, когда утром, часов в 5, в 5.30 после долгой ночи под немецкими пулями и минами идёшь назад, “домой”. Всходит солнце, чирикают птицы, и кажется – сама природа, сам лес заключают тебя в дружеские объятья!
Я всего-навсего переводчик, но меня в полку знают почти все и многие дружат. И это не только потому, что я не скуплюсь никогда на махорку, а потому, что я для них… свой, что у нас одна с ними опасность и одни боевые переживания».
15 мая 1942 года. «Спешу поделиться с вами своей большой радостью, участниками которой будете и вы, ибо она – наша общая.
15-го в два часа ночи меня с позиции вызвали по телефону. Беру трубку и слышу ошеломляющие слова: “Товарищ Зыбин, за проявленное вами мужество и отвагу при выполнении заданий командование РККА представляет вас к правительственной награде”.
Я был настолько ошеломлён, что еле смог ответить: “Служу Советскому Союзу!”
Для меня это многое. Весь риск и вся опасность, которые достались мне на долю, вознаграждены. Сегодня все меня поздравляют. Даже шьют мне новые сапоги»…
13 июля 1942 года. «Дорогая Нинуша! Получил твоё письмо, в котором ты пишешь, что от меня нет долго известий. Живу по-старому. Выполнив с честью одно особое задание, приступил к прежней работе переводчика и агитатора среди войск противника. Уже давно из части послали документы на присвоение мне звания среднего ком. состава. Скоро таковым буду. Жди аттестата. Тебе будет легче, а мне здесь деньги ни к чему.
…Недавно поймали фрица, я его допрашивал. Врал он так отчаянно и неумело, что так и чесались руки. Жаль, что нельзя было пустить в ход. Глаза бегают, сам дрожит. На каждый вопрос спец. порядка отвечает: “Мне не приходилось над этим задумываться”. Это было так противно, что его приказали увести. По документам – эсэсовец. Много, наверно, он напакостил. Представляю его в качестве победителя в захваченной деревне среди женщин и детворы»…
2 апреля 1943 года. «Командование и политотдел с прискорбием сообщают о героической гибели в бою уважаемого вашего мужа – нашего соратника по совместной работе и оружию. Виктор Павлович Зыбин погиб в бою 12 марта 1943 года за деревню Калугово Спас-Деменского района Смоленской области, где и похоронен. Память о погибшем товарище будет вечно жить в наших сердцах.
Начальник политотдела, подполковник Яковлев».
…Виктор Павлович участвовал ещё в Гражданской войне. Перед Великой Отечественной войной работал заместителем директора краеведческого музея.
У каждого свой Ленинград
Есть города, которые как-то привязывают вас к себе уже одним звучанием своего имени, ореолом славы своей. И это происходит и в том случае, если вы даже и не были никогда в этом городе. Их, этих городов не очень много. Один из них – Ленинград, Петербург.
В Санкт-Петербурге я ни разу не был. Но мне повезло: я много раз и подолгу был в Ленинграде. Правда, это было очень давно, но разве это может забыться? Помню, мы, группа абитуриентов издалека, брели по предутренним улицам ещё не отошедшего от белых ночей города и тщетно в этот час искали прохожих, чтобы спросить дорогу в военно-морскую медицинскую академию (была тогда такая), куда мы намеревались поступать. И в холодноватом свечении предрассветного часа были чётко видны садики – совсем ещё молодые деревья и кусты – в тех местах, где должен был стоять дом; не везде ещё заделанные выбоины от осколков; надпись (не такая, как сейчас, сейчас видно, что надпись заботливо сохраняется, что это памятник, а тогда это была просто надпись, до которой руки не дошли, чтобы стереть это напоминание о войне): «При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна»; и ещё несколько надписей: «Бомбоубежище», «Вход в бомбоубежище»… И хотя архитектурная праздничность центральных улиц уже была восстановлена, то и дело сквозь окна торжественных фасадов серело невысокое небо. Мы шли по пустым улицам, а город шептал нам: «Запоминайте, запоминайте всё, пройдёт ещё несколько лет, и этого тоже не будет, сотрутся следы блокады, войны, останется память человеческая, но и она не вечна, ей свойственно отодвигать от себя всё мрачное, тяжёлое и подменять эту бывшую реальность, страшную реальность, пышностью и величием памятников».
Но разве весь гранит и мрамор мира могут воссоздать в памяти людей, не столкнувшихся со Страшным, хотя бы одну кошку, сваренную голодными людьми на щепках красного дерева, оставшихся от старинного комода? Разве бронза и медь могут передать, какое это счастье – дуранда? Вы не знаете, что это такое? На памятниках этого не пишут. Впрочем, есть сейчас в Петербурге памятник, который несёт в себе силу свидетельства. На нём воспроизведены странички дневника Тани Савичевой, маленькой девочки, потерявшей по очереди погибших от голода, жуткого блокадного голода, всех своих близких. И последняя строчка этих коротких скорбных записей: «Осталась одна Таня»… Этот памятник появился гораздо позже, а в то летнее утро, когда мы, пятеро, шли по Ленинграду, не было ни одного из существующих сейчас мемориалов. И для меня, например, сильнее реквиема звучали фасады, за которыми не было квартир, лестниц, парадных; и садики, и детские площадки с песочницами на месте полностью исчезнувших зданий, и брусчатка, новенькая брусчатка, резко отличавшаяся по цвету от старой и покрывавшая улицы заплатами…
Из огня да в полымя
Фаина Николаевна Аносова
– Вы знаете, я на фронте не была. Но вот весь ужас войны, все её трудности и несчастья, всю жестокость фашистов по отношению к мирному населению я испытала на себе.
– Где с войной впервые столкнулись?
– В Белоруссии. В Витебской области. Я тогда, в сорок первом, училась, была студенткой Ленинградского гидромелиоративного техникума. И летом сорок первого отправили меня на практику. Реакция на начало войны у меня была такая же, как и у всех: шок, а потом первая мысль о том, что сейчас делать, где ты будешь нужней и полезней. А что я умела и что я могла в этой ситуации? Быть со всеми. В первый же день мужчины как-то резко и сразу исчезли с улиц, и всем было понятно – куда.
Женщины, подростки – все были брошены на строительство оборонительных сооружений. Мы, группа студентов-практикантов из разных мест, тоже работали вместе со всеми. Но фронт приближался стремительно и неумолимо. Всё ближе и ближе были названия оставляемых нашими войсками населённых пунктов. Задерживаться здесь было больше нельзя. Детей, больных, стариков уже эвакуировали, скот частью вывезли, частью погнали гуртами по дорогам. Практически в городке оставались только военные да ещё, пожалуй, мы, молодёжь.
Вскоре наступил момент, когда боевые действия подошли уже совсем близко. К нам пришёл офицер, командир, как тогда говорили, собрал нас и сообщил нам «радостную» новость:
– Завтра здесь уже могут быть немцы. Поэтому по-быстрому собирайтесь и уходите.
Мы спрашиваем:
– А куда уходить-то?
А он напряжённо так посмотрел и вздохнул:
– Не знаю, ребята. Не знаю. Спасайтесь, кто как может.
Мы, конечно, глупо сделали, что задержались в этом городке. В такой ситуации надо быть там, где тебя знают. Нам бы сразу надо было к своим учебным заведениям податься или к домам, но мы, во-первых, думать не могли, что всё произойдёт так быстро, в во-вторых, надеялись, что нас возьмут в армию. Но кто возьмёт недоросших, неизвестных, с неполными документами людей? Так что теперь нужно было выходить из этого положения.
И вот мы трое – два студента из Киевского торфяного института и я… Собирать нам нечего было, мы ведь, когда проходили практику, на квартирах жили, с собой никакого домашнего скарба не было. Так что мы и не собирались – глупо, как я теперь понимаю, в дорогу что-то нужно было брать… Мы даже узнали, что именно надо было брать, но это позже, позже, на своей шкуре, на своём опыте. В общем, в чём были, в том и пошли.
Куда идти? Не знаем. Значит, надо смотреть: куда народ идёт, туда и идти. Я не писатель, это в художественных произведениях можно описывать, как трудно и опасно было идти. Но несколько примеров всё же расскажу.
Главная опасность – самолёты немецкие. Непрерывно над дорогами летали самолёты-разведчики. Летали на бреющем полёте – бояться им было нечего, потому что шли только беженцы, вроде нас, и с этой высоты они-то прекрасно видели, что это мирное население. Все, конечно, разбегались, а он из пулемётов, пулемётов… Когда улетал, на дороге оставались трупы женщин, детей. Кто-то тут же хоронил своих. А у многих не было никого, кто это сделал бы. Поражала немецкая педантичность. Полёты начинались в пять утра, ни раньше, ни позже. Летали только до девяти вечера. Утром, к пяти часам, уже часа полтора, как рассвело, лето ведь, конец июня, самые долгие дни. После девяти вечера тоже было ещё светло, но немцы вне расписания ни разу не летали. Зато «по графику» они работали и убивали беспрерывно. Разведчик, – он для другого предназначен, мы для него были лёгким развлечением. Он летал, обнаруживал какую-нибудь цель – вплоть до отдельной машины, не говоря уж о военной технике, и возвращался на аэродром, а на смену ему уже через пять минут прилетали бомбардировщики. Иногда и они не брезговали несколько бомб сбросить на людей…
Прятались мы в лесу, в рощицах, кустах. В кустарнике было лучше всего прятаться, надёжнее, они на такие заросли обращали внимания меньше. Падали в ямы, заросли. И, в общем, практически весь день, с пяти утра до девяти вечера, мы лежали и боялись пошевелиться, чтобы нас не заметили…
– Сколько же километров вам пришлось вот так оттопать?
– От Витебска до Вязьмы.
– Ого! Это сколько же?
– Не знаю, не считали, но километров триста будет. Но километр километру рознь. Если бы шли да шли… А как пойдёшь, если в лес загоняют? Когда мы подходили к Смоленску, то надеялись, что там отдохнём, узнаем обстановку. Думали, что нам удастся на чём-то оттуда выехать. Вышли в город.
Там было столько военных! Все нервничают, все крупно разговор ведут, от себя отгоняют. Что такое? Наконец, один офицер снизошёл. Говорит:
– Мы в окружении. Впереди высажен большой десант немецкий и даже с танкетками. Немедленно убегайте в лес и постарайтесь лесом выбраться из этого окружения…
В лес мы вошли ночью, а он болотистый, никаких тропок, никаких дорог нет. И мы пошли, фактически наугад шли, наобум.
Голодные, ободранные, исцарапанные, холодные… Двигались так очень долго – несколько дней, дня четыре. Наверно. Для нас все дни слились в один. Ели то, что находили в лесу и что подадут в глухих деревнях. Потом, на исходе этих дней, этой изнуряющей ходьбы мы увидели военных. Наши! Ну, они, конечно, сначала очень насторожённо к нам отнеслись. Стали нас проверять по документам, расспросами: кто такие? Откуда идёте? Мы им всё как есть и рассказали. Они говорят: единственный выход вам – добраться до Вязьмы, там, в Вязьме, по слухам, ещё ходят поезда. И показали нам, как выходить на дорогу. Мы выбрались…
Были в ужасном виде – уставшие, сил нет. Голодные, подошвы ног в мозолях, потому что мы вообще-то в тапочках ходили. Тогда, перед войной, обуви нормальной было мало, и молодёжь выдерживала «спортивный стиль». Так вот эти тапочки развалились в первые же дни. По дороге подбирали мы всё, что могло сгодиться, в основном это тряпьё всякое, брошенная одежда. Так вот мы эти тряпки находили, обматывали ими ноги и так шли. Изорвалась одна тряпка, заматывали второй… Так добрались до Вязьмы. Дошли до вокзала. Там сказали, что сейчас формируется состав на Ленинград, но когда он отправится, никому не известно…
– Ну, понятное дело, – суматоха начала войны. А вы – дисциплинированная студентка, комсомолка, и вам непременно и обязательно надо в Ленинград вместо того, чтобы отправиться домой…
– Вот-вот! Именно эта преданность такая сыграла со мною злую шутку… Тогда я ещё не кончила техникум, а потому, как я считала, моё главное начальство было там. А потом я ещё была уверена, что всё равно мы победим, причём быстро, и даже мысли не было, чтобы они Ленинград заняли. Это невозможно, потому там безопаснее. Надо ехать и доложиться, что я, мол, жива.
В общем, приехала…
– И попали из огня да в полымя. В блокаду.
– Вот именно. Когда я приехала в Ленинград, все удивились.
Пришла в дирекцию: вот она я, живая, добралась! А мы, говорят, тебя давно уже списали: или в плену, или совсем погибла.
А я осталась живая. И вот так начались мои блокадные дни, в которых я иногда жалела о том, что осталась в живых…
Жили мы в общежитии. Тут надо сразу же сказать, что мы, конечно, не учились. Ну, какая тут учёба, не до неё. Но всё время у нас было дело. За нами, за общежитием, был закреплён инструктор райкома комсомола. Каждое утро он приходил и говорил: сегодня поедем туда-то.
– На работы?
– На работы. Вначале на уборке урожая в колхозах работали, потом бурили скважины, потому что мы мелиораторы и знакомы с этой работой. Задача была поставлена просто: надо бурить, потому что если водопроводные магистрали будут повреждены, то население сможет пользоваться водой из скважин. Ну, надо, так надо. Бурили. Тяжёлая это работа. Ну, а потом, когда начались интенсивные бомбёжки и обстрелы, мы работали больше на разборке завалов. Работали в госпиталях – надо было помогать. Работали, надеялись, и никогда ни от каких поручений не отказывались.
Дни блокады давно сосчитаны. Но сами блокадники дней не считали. Ведь считать можно тогда, когда известна дата окончания какого-то срока. То есть «осталось столько-то дней». Но кто мог назвать срок окончания блокады?! Для нас все дни сливались в один поток, в одну мрачную и тяжёлую ленту почти без просветов.
Вот опишу один из дней.
Это была уже глубокая осень сорок первого. Рано утром, как обычно, пришёл наш куратор. Говорит, что очень много сегодня пришло машин с ранеными. Работникам госпиталя не справиться. Пошли, помогли врачам, медсёстрам. Все работали допоздна. Зашли в свой магазин, выкупить по личной карточке сто пятьдесят граммов хлеба. Он назывался чёрным, но если бы он был нормальным чёрным! Что в него вмешивали, не знаю точно, но муки, пусть даже самого низкого сорта, в нём было так мало! Но был запах. Вы знаете, я убеждена, что люди настоящий запах хлеба могут чувствовать только в таком состоянии, в каком были мы. И запах этот с такой силой бил по ноздрям, с такой силой проникал внутрь, что есть хотелось неимоверно. В течение дня мы уже приловчились терпеть голод. Может быть, могли бы терпеть и дальше, но в руках была блокадная пайка хлеба! Сначала слизывались крошки. Их нельзя было (это уже мы знали по опыту) сразу глотать, их нужно было погонять во рту, чтобы полнее ощутить вкус хлеба. Потом откусывали. По маленькому кусочку. Здесь лизнёшь, там лизнёшь… В общем, когда мы от магазина добирались до дому, то хлеба оставалась уже маленькая чуточка, а ведь этот хлеб – и на завтра, до вечера.
Уставшие, ложимся спать. Так удобнее – когда спишь, то не чувствуешь голода, хоть и во сне видишь, как ты что-то ешь и ешь… Вдруг обычный репродукторный голос: «Граждане, воздушная тревога, воздушная тревога!» Дело уже привычное, каждый знает, что делать. Все девчонки сразу повскакивали и побежали в бомбоубежище. А я так за день надвигалась, настрадалась, что плюнула и решила никуда не идти. Пропади она пропадом, эта бомбёжка, будь, что будет! И осталась.
Осталась я, легла, укрылась своим тоненьким одеялом, на голову подушку положила, лежу. И вот тут раздался взрыв ужасный, большой силы, грохот, всё летит, меня как-то крутнуло, накрыло чем-то. Сыплется на меня, куски падают. Засыпало меня, завалило совсем. Света не вижу, да он, наверно, и погас от взрыва. Пытаюсь пошевелить рукой или ногой – не шевелятся, хотя, по ощущению, целые. Но выбраться самой явно не получится. Лежу, зря сил не трачу. Потом слышу – отбой воздушной тревоги, голоса в здании, шаги, кто-то спрашивает: «Есть тут кто-то или нет?» А я шевельнуться не могу, но крикнуть сумела через подушку, которая у меня в зубах застряла: «Здесь я, здесь!»
Оказывается, дежурный стал обходить все комнаты со свечой, проверял, на моё счастье, – все ли живы. Так меня и нашли. Выяснилось, что бомба большая попала в соседний дом, а мы были в доме номер шесть на Моховой улице. И воздушной волной у нас выбило всё – рамы, двери. Мебель вся повалилась. И той же воздушной волной у меня кровать перевернуло, и я оказалась под ней. Хорошо ещё, что подушка на голове была.
Пришла в себя, пошла в бомбоубежище, куда уже начали поступать раненые люди из соседнего дома, потом человек прибежал оттуда, с завала, попросил помочь разобрать остатки дома. Мы сразу собрались все – и туда. Там стали растаскивать кирпичи, балки, вытаскивать людей.
– То есть были там, где нужнее всего.
– Старались, чтобы было так. Доработали почти до утра.
В пять приходит куратор. Нас опять посылают на работу. И мы идём. И вспоминаем о тех малюсеньких кусочках хлеба, которые остались заваленными в нашей комнате…
С того самого дня мы переселились в это самое так называемое бомбоубежище, бывшую нашу столовую. Жили там с железной маленькой печуркой, так называемой «буржуйкой», да с фитильком маленьким днём и ночью, потому что электричества не было. Без воды, впроголодь. И крыс полно.
И всё же мы верили. Была уверенность – обязательно выживем! Всё равно!


