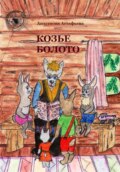Анастасия Викторовна Астафьева
Для особого случая
Вечером, уже к полуночи время шло, они смотрели телевизор: Лиза из своей комнатки, сидя в подушках, Володя в зале, в кресле. Он похудел, осунулся за это время. Слишком много курил. Не понятно, что ел. Всё время был настороже, как гончая, прислушивался к каждому шороху в Лизиной келье. Боялся лишний раз выйти из дома. Лиза умом жалела его, но короста недоверия, покрывавшая её душу, хоть и начала трескаться и крошиться, до конца ещё не сошла.
Утомившийся за день муж то и дело дремотно ронял голову на грудь, но вздрагивал, ёрзал в кресле и снова бессмысленно пялил спящие глаза в мерцающий экран.
Лиза, улыбаясь, следила за ним, что-то забытое, горячее подмывало её изнутри, пульсировало в солнечном сплетении.
Она тихо позвала:
– Алодя… иди к-ко м-мне.
Муж сразу подскочил, пришёл:
– А? Чего?
– П-посиди, – похлопала она ладошкой по постели.
Володя сел рядом. Она дотянулась до его плеча, погладила.
– Чего ты? Чего? – испуганно посмотрел он на неё.
– С-с-спасиба т-тебе, с-с-спасиба…
Лиза потянула к себе его руку: всегда грубая, шершавая и чёрная от машинных масел его ладонь за этот месяц постоянных стирок сделалась мягкой, белой. Лиза прижалась к ней щекой и шепнула:
– Обни-ими м-меня… – она слегка пододвинулась. – Л-л-ляаг…
Володя напряжённо прилёг рядышком, на самый край, и обнял жену одной рукой, боязливо прижал к себе.
Лиза уткнулась в него лицом, куда-то между шеей и плечом, втянула забытый мужской запах. Слёзы сами потекли из её глаз.
– П-п-прааа-сти… п-п-прааа-сти м-ме-еня, Алодя… яаа в-ведь… яаа с-сме-ети тебе жеаа…
Володя промолчал, только крепче прижал её к себе и очень глубоко вздохнул.
Лиза всхлипывала, как ребёнок, уткнувшись в его подмышку, вдыхая, вбирая в себя его родной запах, пропитываясь им и вновь становясь с мужем единым целым.
Володя потихоньку баюкал свою исхудавшую седеющую жену, словно маленькую девочку, и повторял про себя:
«Всё будет хорошо… всё будет хорошо…»
Дом
Рада металась у закрытых дверей магазина, бросаясь навстречу каждому встречному:
– Алинку не видели? Не видели? Сбежала Алинка. Утром рано уехала. Увезли Алинку!
Две другие дочери, помладше, с обеих сторон «висели» на длинном подоле её синей юбки. Всегда бессловесные на людях, они только пялили испуганные чёрные глаза на прохожих и жались к матери.
Густые тёмные волосы цыганки выбились из-под платка, растрепались, мужская болоньевая куртка от нервных резких движений и бессмысленной Радиной беготни колыхалась на ней, как на пугале, большие по размеру калоши, надетые на босу ногу, шаркали и хлопали, словно крылья всполошённых птиц.
У магазина остановилась легковая машина. Из неё вышла продавщица и двинулась было к дверям, но Рада, кинувшись к ней, не давала своими криками и суетой нормально открыть замки и ставни.
– Найдётся твоя проститутка, – огрызалась на цыганку продавщица, гремя замками. – Что? Скажешь нет? Вся деревня видела, как она на трассе то в одну машину сядет, то в другую. Катается со взрослыми мужиками! Не углядела – ищи теперь!
Она вошла внутрь и демонстративно захлопнула перед носом Рады дверь магазина. Но та сразу же просочилась следом и продолжала свои причитания, рассчитанные на сострадательных покупателей.
Часа через полтора вся большая деревня знала, что Алинку «увезли». Кто-то жалел Раду, замотанную с детьми и мужем-пьяницей и лентяем, кто-то откровенно посмеивался, кто-то отмахивался, зная её бестолковость и назойливость. Вся эта беготня, хлопотанье и оханье цыганки были привычными, какими-то уже почти семейными. Рада выносила на свет божий всё, что творилось в их маленьком, тесном, с текущей крышей взбалмошном дому. Рожая каждый год по ребёнку, она согласно, со слезой в карем взгляде, кивала сочувствующим женщинам на их интимно-тихие советы предохраняться или, в крайнем случае, поехать на аборт. Благодарно трогала за руку, повторяла: «Спасибо… Спасибо…», обещала так и поступить и… вскоре производила на свет следующего младенца.
– О-ой! – плакалась она в магазине, не стесняясь ухмыляющихся мужиков и не понимая стыда. – Я вот посуду мою, пол вытираю или стираю. Ему всё равно. Подойдёт сзади, наклонит, сделает своё. О-ой! А мне – рожай!
Над детской непосредственностью Рады потешались, но кое-кто уже на собственном опыте убедился: не так уж проста эта клуша и её вежливые цыганята.
* * *
Цыгане поселились в этой деревне давным-давно. Приехала откуда-то семья, да и осела. Рожали детей, те подрастали, женились, тоже рожали. Кто-то уезжал за лучшей долей, кто-то, как Рада, оставался. Вреда от них никому не было. Праотец этого цыганского рода когда-то дал наказ на все времена: не воровать, не попрошайничать, не бездельничать. Так и повелось. Хотя жили они всё равно по-цыгански: хитрили в работе, просили дорого, а делали тяп-ляп, не сажали собственных огородов, но пахали на лошади чужие и брали за это овощами. В их шумных домах царил вечный беспорядок, дров до весны никогда не хватало, и в печь летел сначала забор, затем обшивка дома, потом чёрный пол… Летом всё это кое-как латалось. Неистребимая беспечность гуляла в цыганской крови.
Радино семейство, как многодетное, по закону получало приличное пособие. К тому же, пятеро детей из восьми ходили в местную школу, где находились на спецобучении и получали бесплатное питание. И только самая старшая дочь, Алина, словно попала в чужое гнездо: роковая красотка, по-своему умная, с природной хитрецой, она ездила вместе с другими сельскими детьми в школу в соседний посёлок. Рада часто жаловалась, что девушка требует хорошую одежду и обувь, мобильный телефон, косметику, золотые украшения. И мытьём ли, катаньем ли, всё это у неё оказывалось. Училась она на тройки, и то с трудом, просидела два года в шестом классе, но никто с неё большего и не требовал. Судьба цыганской девчонки, даже с образованием, повязана неизменными и просто средневековыми в своей тупости и жестокости традициями – Алина была просватана ещё семилетней.
На днях ей исполнилось семнадцать. Пришёл срок. И вот сегодня утром Алина пропала.
Рада проторчала в магазине до обеда, не обращая внимания на продавщицу, мечущую в её сторону стрелы ненависти и презрения, и каждому рассказывая горестную историю исчезновения дочери. Потом всё-таки убрела домой, утащив за собой голодных худых девчонок. Те за всё время так и не проронили ни слова, не пискнули, не всплакнули.
А ровно через три дня та же Рада, счастливая и сияющая, летала по деревне и щебетала всем подряд:
– Алинка замуж вышла! Украли её! У нас так заведено… Ничего мне не сказали, украли! О-ой! Отец злой. О-ой, Алинка, что наделала! Украли девчонку…
И, притащившись в магазин снова со своим неизменным приложением и большими сумками, пела:
– О-ой! Хлеба давай. Колбасы давай. Вина давай. О-ой! Жених всё оплатит. Богатый жених. Молодо-ой!
Продавщица огрызалась, напоминая про крупный долг, но Рада забалтывала ей мозги и выманивала своё. Втроём с дочками они упёрли полные сумки провизии, а продавщица, выйдя на улицу покурить, всё выговаривала и выговаривала приходящим в магазин ни в чём не повинным людям:
– Как же! Жених! Через три дня твоя б…. домой явится. Нужна она кому-то больно!
Но жизнь распорядится так, что Алинка не явится ни через три дня, ни через неделю, а через девять месяцев сделает Раду бабушкой. И цыганка будет гордо ходить по деревне, хвастаясь прибавлением, одновременно пуская слезу и жалуясь.
Жители, уже привыкшие к этому моноспектаклю, длящемуся не один год, продолжат существовать каждый в своих заботах, бедах и радостях. И эта совершенно комическая для двадцать первого века история забудется ими быстро, уступив место иным событиям, пересудам, домыслам.
Но утро, когда Алина исчезла, словно толстый кусок от хлебного каравая, отхватило острым ножом целое десятилетие от жизни одного человека.
* * *
Саня-Саня проснулся по привычке рано. Ещё рассвет не забрезжил в единственном окне его убогого жилища, которое он делил с двумя задумчивыми козами, патлатой собакой и одноглазым котом. Включив радиоприёмник и опустив кипятильник прямо в пол-литровую кружку с водой, раздетый до пояса Саня-Саня бодро вышел на улицу, где растёрся и умылся снегом и сделал несколько гимнастических упражнений. Затем он забрался на чердак своего домика-баньки, скинул оттуда на снег несколько охапок сена, спрыгнул следом и вернулся в помещение. Голодные козы выхватывали клоки сена прямо из рук, не дожидаясь, пока хозяин утрамбует его в кормушки.
Выдернув из розетки кипятильник, Саня-Саня выбрал из спитых и высушенных чайных пакетиков два, на его взгляд ещё достойных, и бросил их в кипяток вместе со щепоткой сухого зверобоя и горсткой ягод шиповника. Пока чудо-чай заваривался, он надоил от коз по стакану молока и тут же выпил «парнуху», оставив пару глотков орущему коту. Свернувшаяся калачиком собака недвижно следила за всеми приготовлениями сквозь пушистый хвост и молниеносно подскочила, когда в её сторону полетел кусок чёрного хлеба. Она проглотила его ещё на лету и тут же улеглась обратно, продолжая терпеливую слежку из засады.
Радио передавало последние новости. Прислушиваясь к нему, иногда излишне эмоционально комментируя высказывания дикторов, Саня-Саня неторопливо, с душой выпил бледный чай, аккуратно отрезая от буханки чёрствого хлеба и намазывая куски тонким слоем томатной пасты.
Закончив завтрак, он оделся, не без труда застегнув заезженную молнию на старой неопрятной куртке и напялив на голову засаленную шапку-петушок, взял привычный рюкзак и вышел из избушки.
Рассветно алели верхушки ольшаника, сползающего с холма в широкий овраг. Распахнутое в утреннем нежном томлении небо пахло мартовской свежестью, отдающей лёгкой ольховой горчинкой. Саня-Саня с наслаждением втянул воздух через ноздри, задержал его в груди и медленно, словно жалея, выдохнул.
Его участок – большой, но обезображенный корявым, сколоченным из обломков и гнилушек забором, заваленный разным хламом, с низкой почернелой баней посередине, окружённый со всех сторон добротными коттеджами дачников, вызывал раздражение, как порченый зуб в белоснежной ровной челюсти. И тем большее недоумение порождал у прохожих построенный на этом же участке, в дальнем углу его, под пушистыми дерзкими елями, красивый, обитый нежно-салатовым сайдингом дом. Почти все были уверены, что дом этот принадлежит некоей родне Сани-Сани. Что бросили те строение из-за причуд и неуживчивого характера родственника, постыдились жить рядом с «чокнутым профессором».
Саня-Саня когда-то действительно был если не профессором, то преподавателем на военной кафедре какого-то питерского университета. Звали его в ту пору Александром Александровичем, он имел семью, квартиру в центре города, машину, уважение и регалии. На пенсию вышел рано, по-военному, в одно мгновение всё бросил, уехал жить на дачу, и никто никогда не видел ни его жены, ни детей, при нём остался только старый ржавый «жигуль».
Впрочем, всю эту историю жизни «профессор» излагал сам, поэтому слушатели делили её и на два, и на три, а кто и вообще не верил ни единому слову, намекая на «справку в кармане». По первости местные мужики пытались задружиться с ним – предлагали выпить, поговорить за жизнь. Но Саня-Саня довольно резко отшивал таких друзей, поскольку сам не брал в рот ни капли. Несмотря на трезвый образ жизни, от одиночества ли, от неведомой никому тоски ли, от равнодушия ли к бытию, опускался он с каждым годом всё ниже и заметнее – почти не мылся, отчего вечно вонял козлятиной, ел всякую дрянь, учил местных баб кормить коров размоченными в кипятке картонными коробками, уверяя, что его козы очень даже любят такое пойло, особенно если коробки из-под печенья. В конце концов деревенское население махнуло на Саню-Саню рукой и стало относиться к нему, как и ко всем убогим, с терпеливым снисхождением. В их глазах он стал равен цыганам. И как-то сам собой к цыганам Саня-Саня и прибился.
Он подружился с Радой, с её мужиком. Тогда ещё детей у них было только трое. Любящий порассуждать и похвастать, как все ленивые люди, Радин муж быстро сошёлся с Саней-Саней на общих темах: политике и обороноспособности страны. Это была их любимая песня! Пока вечно беременная Рада обихаживала дом и детей, они сидели либо у печки, либо на завалинке – в зависимости от времени года, слушали радио и ругали правительство. Кричали, спорили, строили прогнозы, били кулаком по столу, снова ссорились и спорили.
Тем первым летом их дружбы Саня-Саня помогал им с сенокосом. Душистый пыльный зной, дымок костра, облепленный оводами конь, звон кос, цыганская скороговорка и детский смех бойких цыганят совершенно очаровали его. Загорелая семилетняя Алинка льнула к нему, как дочь, приносила воды в бутылке, отгоняла мошкару ивовой веточкой, щебетала что-то непонятное и радостное, выкатывала из углей печёную картошку, дула в её кратерно-парящий разлом и протягивала дяде Саше.
Всем гуртом они отдыхали в тени тёплых, дурманящих запахами подсохшей травы копён, а дети без устали бегали в ближний лес, таскали землянику и грибы-колосовики.
Что с ним тогда произошло? Как это всё само сложилось? Он вдруг затосковал по уюту, по семье, по человеческому теплу. И однажды брякнул Раде, что готов ждать Алинку хоть десять лет, но чтобы они непременно отдали её за него, когда придёт срок. Что готов помогать им деньгами, пока его будущая жена растёт. Что обязательно построит дом, в который войдёт Алина полноправной хозяйкой.
Для цыган это предложение не стало ничем сверхъестественным. Покумекав над своей выгодой, они ударили с Саней-Саней по рукам. Договор подкрепили денежно – выпросили у простофили деньги на содержание будущей жены все разом, сто тысяч. Да разве это много, ромалэ? По десять тысяч в год, меньше, чем по тысяче в месяц!
У Сани-Сани на тот момент были некоторые сбережения, и он без сожаления и без соображения, поверив в своё счастье, отдал им половину. И с этого дня жизнь запустила для него обратный отсчёт. Он не томился в ожидании, не торопил годы, не облизывался на Алинку, нет, ничего такого.
Он строил дом.
Оставшихся сбережений хватило, чтобы купить несвежий сруб пять на шесть и шиферу на крышу. Всё остальное делал сам, на свою пенсию. Каждая дощечка, каждый брусочек в будущем доме были любовно оглажены руками Сани-Сани. Несчётное количество раз сходили и вновь нарастали мозоли на его ладонях. Он мог целый день нежить одну доску, то топориком, то рубаночком, то наждачкой. Не терпел, если что-то выходило криво, щелясто. Отрывал, подгонял, заново приколачивал. Когда ставил стропила – один, всё один! – сорвался с верхотуры, ушибся, сломал ребро. Отлёживался недели две. И снова туда, в дом. Покрыл крышу, сложил печь, настелил полы, вставил окна, двери. Под конец даже взял кредит и обшил дом по-современному, сайдингом. Чтобы не хуже, чем у других!
Он не торопился, он жил этим изо дня в день все десять лет.
И вот Алине позавчера исполнилось семнадцать.
Дом был готов.
Саня-Саня ещё с вечера сложил в рюкзак полотенце, мыло, мочалку, новое бельё, носки. Решил там же, в райцентре, хорошенько отпарившись и помывшись в общественной бане, сходить в парикмахерскую, купить в магазине костюм с ботинками.
Давно он не засыпал в таком волнении.
И вот сейчас стоял у низеньких дверей своего нищего жилища, вдыхал полной грудью мартовский воздух молодой весны, и сам внутренне молодел, и чувствовал себя опьянённым каким-то свежим, словно первым любовным чувством.
До электрички ещё оставалось время. Саня-Саня поставил рюкзак прямо у порога своей избушки, брякнул ключами в кармане куртки и пошёл по хрустящему насту к новому дому. Он захотел взглянуть на него её глазами.
Когда отпирал замок, руки странно дрожали. Распахнул дверь – не скрипнули петли, шагнул внутрь – не дрогнули половицы. В доме светло, румяные солнечные лучики бьют сквозь окна, заливают широкое просторное нутро с большой побелённой печью посередине. Он не стал ставить перегородки. Пусть хозяйка сама решит, где у них будет кухня, где спальня, где прихожая. И, если она захочет, можно пристроить к дому веранду. И мебель они постепенно купят вместе, чтобы ей нравилось. А столы, стулья он сделает сам – добротные, крепкие, гладенькие, как её кожа… Она посадит цветы около крыльца, будет ухаживать за огородом. Для неё он раскопает участок, построит новую баню. Да мало ли что можно желать и делать вместе с такой юной чистой красавицей! Новая, совершенно иная жизнь начинается.
Саня-Саня закрыл дом, спрятал ключ в карман, закинул рюкзак на плечо и широко пошагал вниз, под гору, к железнодорожной станции.
На платформе уже стояли несколько ранних пассажиров, с недовольными заспанными лицами, некоторые курили. Саня-Саня улыбался себе и всем вокруг. Мимо прошёл хмурый похмельный сосед, кивнул коротко. Потом вернулся и заискивающе спросил у него денежку. Щедрый по сегодняшнему праздничному для себя дню, Саня-Саня отвалил соседу целую сотню.
Близко, за лесным гребнем, гуднула электричка. Через пару минут она лениво и сонно подтащила продрогшие лязгающие вагоны к платформе. Грохнули, раскрывшись, двери. Пассажиры взобрались внутрь, расселись подальше друг от друга.
Электричка снова гуднула, дёрнулась, тронулась с места.
Саня-Саня сел в первый вагон, поближе к выходу, чтобы первым потом выскочить из дверей на перрон. Он приник к холодному стеклу горячим раскрасневшимся лицом и смотрел, как всё быстрее пробегает мимо лес с полыхающими на солнце верхушками, жмурился, если тот начинал рябить, если лучи били прямо в глаза. Так хорошо!
А позади, через три вагона, запрыгнув в электричку в самый последний момент, ехала Алина. В лёгкой курточке, без шапки, с одной маленькой сумочкой через плечо, она уезжала из дома, из родной деревни навсегда.
Ей было плохо и страшно. Она бежала от своей беды и позора. Бежала, может быть, к ещё большему позору – к парню, которого едва знала. В нём одном она видела сейчас спасение.
Когда она убегала, мать была в хлеву, давала корм поросёнку и курам. Скоро она вернётся и увидит, что дочери нет.
Но ещё есть минуты и часы, пока каждый из них живёт в неведении. И есть солнце. И есть весна. И есть дом. И где-то там, за поворотом стальных рельсов, может быть, есть счастье.
Темная ночь
Из-за непогоды, разгулявшейся накануне, праздничный митинг получился скомканным. Съёжившись под злым напористым ветром, школьники жались друг к другу, как воробьи на ветке, и прикрывали покрасневшими от холода пальцами квёлые букетики тюльпанов. Два десятка взрослых терпеливо ожидали окончания мероприятия и вполуха слушали речь главы сельского поселения. И только малочисленная шеренга ветеранов и тружеников тыла стояла под высокой бетонной стелой гордо и торжественно. Непогода горстями швыряла им в лица колкую порошу, силилась сорвать платки и шляпы, теребила седые пряди, распахивала пальто и куртки. Но они стояли твёрдо, не дрогнув ни единым мускулом, словно снова на рубеже, снова под пулями. Только предательски слезились глаза. От сильного ли ветра, от воспоминаний ли, взявших за горло… Кто разберёт?
– В нашем селе осталось двое ветеранов Великой Отечественной, участников боевых действий. Дмитрий Николаевич Семёнов и Матвей Васильевич Коровин. Обоим за восемьдесят, но посмотрите, какие это крепкие старики!
Глава тепло взглянул на ветеранов и улыбнулся в густые чёрные усы. Смущённые всеобщим вниманием, мужчины вытянулись во фрунт. Один высокий, сухой, в смешных круглых очках, пустой правый рукав пальто аккуратно засунут в карман. Второй – ссутуленный, корявый, опирался на палочку, но смотрел на окружающих остро, задиристо.
– Шестьдесят два года прошло, как окончилась война, – продолжал глава. – Наверное, она уже давно не снится вам?.. И давно нет той страны, за которую вы воевали. Всё другое кругом. Но День Победы… этот день навсегда останется для вас особенным. И для наших тружениц тыла тоже. Все силы отдавали они для фронта, для победы, ещё девчонками надрывались на лесозаготовках и в колхозных полях. Да, это праздник со слезами на глазах. Но это великий праздник. Это ваш День Победы. Мы поздравляем вас! Мы гордимся вами!
Глава поселения умолк. Заиграла музыка. Словно по команде, нарядные девчонки и мальчишки бросились вручать старикам цветы. Взрослые возложили к подножию стелы венок, все сфотографировались, и на этом торжественная часть закончилась. Вереница продрогших людей, осторожно спускаясь с пригорка, потянулась к своим домам, а ветераны и руководство направились к зданию клуба, где для них уже были накрыты столы.
Матвей Васильевич осторожно выдвинул левой рукой стул и неторопливо сел за стол. В зале громко играла музыка, густо пахло закусками и салатами, звенела посуда, суетились женщины, раскладывая по тарелкам горячую картошку.
Ритмично пристукивая по полу палочкой, к столу подошёл Семёнов и сел на угол напротив Матвея Васильевича, вытянув в проход несгибающуюся ногу. Из-за этой ноги он всегда садился с краю. Последствия тяжёлого ранения, полгода по госпиталям, но ведь сохранили, не ампутировали. Своя нога, не деревянная, хоть и прямая, как ствол.
– Ну что, Василич, выпьем фронтовые сто грамм? – спросил Семёнов надтреснутым стариковским голосом. – Или снова будешь фасон держать?
Матвей Васильевич судорожно сглотнул и крепко сжал в руке вилку.
– Я с тобой не пил и пить не собираюсь, – спокойно ответил он и ласково взглянул на моложавую соседку. – Я вот с Марией Сергеевной выпью!
– Кхе-кхе-кхе! – то ли засмеялся, то ли закашлялся Семёнов. – Эх, Василич, как есть ты упёртый, таким и помрёшь.
Глава поселения звонко постучал ножом по бутылке и вознёсся над столом, чтобы сказать тост. Застолье сперва затихло, прислушалось, затем аккуратно выпило, скромно закусило, а после второй-третьей отогрелось, зашевелилось, заговорило. Пошли в ход и песни, и слёзы, и объятия, и воспоминания, и фронтовые байки.
Колченогий Семёнов даже танцевал с дамами, отставив свой костыль, хорохорился, а потом, бледный, сидел на лавочке, долго и трудно отдыхиваясь. Но всё равно кривил беззубый рот в улыбке, выкрикивал что-то солёное…
Матвей Васильевич никогда не понимал и не терпел его. Семёнову всюду надо было сунуться, вставить своё словцо, влезть без масла. Ни годы, ни беды, ни болезни, ни утраты не изменили его. Был ли Семёнов недалёкого ума или таил за бравадой свои слабости и страхи – никому не ведомо. Матвей Васильевич уже не вдумывался в односельчанина до таких тонкостей. Между ними всё было давно решено…
* * *
Нескончаемые холодные октябрьские дожди расквасили не только дороги и окопы, не только насквозь пропитали вездесущей знобящей влагой солдатские шинели, сапоги, нательное бельё, но залили необоримой тоской саму душу.
От стрелкового батальона, в котором воевал Матвей Коровин, уцелела едва ли треть. Командир ранен. Боеприпасы стремительно иссякали. Из двенадцати пулемётов в бою оставались два. Походные кухни разбиты, из провизии только отмокшие сухари и вода из луж. Табак делили по щепотке, выкуривая одну самокрутку на пятерых. Голодные, грязные, злые от своей беспомощности солдаты отлёживались в вязкой жиже размичканных сапогами окопов, ожидая давно обещанного пополнения и отбивая слабые вылазки немцев.
Противнику тоже приходилось несладко. Расколотые атаками Красной Армии на отдельные группировки, попавшие в окружение, немцы теряли не только своё войско, но и напористость, так же страдали от голода и отсутствия подкрепления.
От истощения сил, моральных и физических, никто – ни фашисты, ни красноармейцы – не могли нанести решающий удар. Все ждали морозов, чтобы, наконец, замёрзли болота и встали дороги. Но пока что встало время. И ожидание было тягучим, сонным, болезненным.
Среди этого безвременья и прибыла в поредевший батальон небольшая рота, но назвать её полноценным пополнением язык не поворачивался. Это была толпа измождённых, израненных солдат, уцелевших в боях за городок, что располагался в сорока километрах от места, куда их теперь перебросили. Пытаясь прорвать окружение, немцы захватывали его, и дважды их оттуда выбивали наши войска. На третий не смогли, понесли огромные потери и были вынуждены отступить.
Вместе с горе-пополнением в распоряжение батальона поступила тощая кляча, притащившая в телеге два ящика патронов, пол-ящика гранат, один пулемёт, к которому не осталось запасных лент, и крохотный запас сухарей, вдобавок к уже имеющимся.
Страдающий от раневой горячки командир схватился за голову, на которую свалился этот «подарок», попсиховал, поорал, да что толку? Вновь прибывшая рота рассосалась по сырым окопам, смешавшись с «местными» солдатами, и, став неотличимой, также погрузилась в томительное, бессмысленное ожидание перемены участи.
Поговаривали, что к концу недели планируется общее контрнаступление, которое объединит разрозненные части, сгонит фашистов в «котёл» и поможет освободить городок. Солдаты ворчали, что в атаку придётся идти с берёзовыми дубинками, ну да русскому мужику не привыкать ходить на медведя с рогатиной.
Через пару дней по прибытии пополнения, уже в сумерках, Коровина вызвали к командиру батальона. Когда он вошёл в землянку, там уже собрались вокруг грубо сколоченного стола три офицера, а чуть поодаль, присев у железной печки, грел руки рядовой, похоже, из новеньких.
Командир жестом пригласил Коровина поближе к столу и сразу заговорил:
– Ответственное задание вам, рядовой Коровин. Вот здесь, – он ткнул пальцем в развёрнутую на столе карту, – километрах в семи-восьми, стоит деревня. Вся она окружена болотами и лесом. Есть там немец или нет – мы не знаем. Ваша задача – тихо пробраться в деревню, разведать врага, по возможности вступить в контакт с местными жителями и добыть любой провизии. Картошки, хлеба… чего угодно. Иначе мы скоро начнём хоронить товарищей, погибших от голода, а не от пули.
Солдат, сидевший на корточках у печки, поднялся. Коровин взглянул на него и остолбенел.
– Вот, рядовой Семёнов пойдёт с вами. Вы ведь знакомы? Земляки, кажется? – проговорил командир и улыбнулся одними глазами.
– Земляки, – едко усмехнулся Семёнов.
И хотя никто не заметил насмешливого тона, Коровина словно плетью по лицу огрели. Он до хруста сжал правую кисть в кулак, но вида не подал. Приказ есть приказ.
Командир положил на стол по десять винтовочных патронов и по гранате-лимонке.
– Это всё. Идти сразу. За ночь доберётесь. Если в деревне немцы, постарайтесь выяснить количество человек, наличие пулемётов, пушек. В бой не ввязываться. Языка не брать. Уйти незамеченными. С собой возьмёте лошадь, чтобы привезти продукты… Всё понятно?
– Так точно, – в один голос ответили бойцы.
– Выполняйте.
Семёнов шёл впереди и вёл лошадь. В промозглой чернильной теми Коровин не видел ни его, ни коричневого кобыльего крупа, ни земли под ногами. То и дело он спотыкался, едва не падая, хватался за что ни попадя. Хорошо, что сильный дождь скрадывал звуки, а размокшие ветви ломались почти без хруста. Но Семёнов злобно рычал на него, называл медведем. Сам он шагал, будто не касаясь земли. Упруго, ходко. И лошадь шла совершенно беззвучно.
Коровин плохо ориентировался в пространстве, брёл наугад, но вместе с тем постоянно ощущал раздражающее присутствие Семёнова, от чего у него внутри, во ввалившемся животе, чуть повыше пупка, свивался жёсткий колючий клубок. Клубок становился всё больше, плотнее, поджимал диафрагму, не давая полноценно дышать, и теснота эта, возникшая внутри, как будто сдавливала и другие органы, вызывая то тошноту, то тревожное томление под сердцем.
Так они прошли километров пять и оказались на опушке леса.
Словно им в помощь, дождь прекратился, плотная облачность внезапно расступилась. Скупой лунный свет облил открытую заосоченную долину, и узкую речушку, кривуляющую по ней, и отдельно торчащие голые деревья, и густые еловые гребни, взбирающиеся по холмам влево и вправо.
Там, за долиной, во вновь начинающемся густом буреломном лесу, притаилась нужная им деревня. Но попасть туда можно было, только преодолев три километра заболоченного топкого пространства. И неизвестно ещё, что или кого таят в себе и еловые гребни, и дальний лес.
Коровин вдруг уловил, как насмешливый взгляд Семёнова скользнул по его растерянному лицу, и клубок внутри мгновенно вспух до огромных размеров, больно толкнув под сердце и сдавив горло. Коровин с трудом сглотнул злобу.
– Вот что, паря, я думаю, – заговорил Семёнов, уже не глядя на него. – Ты с кобылой тут побудь, отдохни, а я налегке метнусь в деревушку, разузнаю. Думаю, на рассвете уже обернусь.
– Тебя за ночь до офицера повысили? Что ты тут распоряжаешься? – огрызнулся Коровин. – В бочажину провалишься, кто тебя за шиворот доставать будет? Вместе идём.
– Вот ведь упёртый, – сплюнул сквозь зубы Семёнов. – Лошадь только угробим зазря. Она и так едва на ногах стоит. Всё! Сиди тут, – он лихо сбежал под угорок и негромко добавил оттуда: – Ну, жди с провиантом…
Коровину показалось, что голос напарника при этом неуверенно дрогнул, но тут же до него долетели до смерти обидные слова:
– Да смотри, чтоб кобылу кто не увёл!
Не помня себя, он сдёрнул с плеча винтовку и нацелил её в спину уходящего в долину Семёнова.
«Пристрелю вражину!!! И не узнает никто! Война всё спишет…»
Сердце бухало в груди, рискуя разорваться, руки тряслись. Коровин навёл подрагивающую мушку винтовки на голову обидчика, потом опустил чуть ниже, в область сердца, потом ещё ниже, ещё… Семёнов удалялся быстрыми перебежками, ловко перепрыгивая по кочкам топкие места. Скоро его уже невозможно было различить среди пожухлой пожелтевшей осоки. Да и луна вновь ушла, наползли облака, и закрапал дождь.
Измученная лошадь чутко дремала, покачиваясь на слабых ногах. Коровин нащупал в кармане отмякший чёрный сухарь, разломил его, протянул половину животине. Та без энтузиазма прихватила угощение сухими губами и медленно разжевала. Коровин опустился на землю под толстой елью, привалился к стволу, куснул сухарь и вдруг заплакал, некрасиво, сопливо и слюняво, как девчонка. И словно за ниточку потянул – стал колючий клубок разматываться, высвобождая всю сжатую внутри боль…
Семёнов приехал к ним в деревню перед самой войной. Работал в колхозе шофёром на грузовике, лёгкий, бойкий, беспечальный человек. Хорошо разбирался он в технике, чинил и трактора, и косилки, и прочие механизмы. Квартировал у вдовой женщины с тремя детьми, и поговаривали, будто не просто так у них…
Семнадцатилетнего Матвея Коровина ни сам Митька Семёнов, ни его вдовица не волновали. У него случилась любовь, и ни о ком другом, кроме птичницы Клавы, он думать не мог.