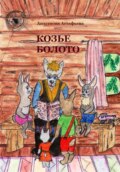Анастасия Викторовна Астафьева
Для особого случая
– Выплачиваю кредит, – сухо ответил ей Максим и впился глазами в экран.
Серёжа за всё время съёмки не улыбнулся. Заученные фразы выдавливал сквозь зубы, смотрел исподлобья, а с этим дурацким пирогом вообще… держал его впереди себя на прямых руках, как на лопате, и произносил, почти не шевеля губами: «Это я испёк для мамы…»
На запись передачи Серёжа так и не поехал, ничем его Максим не смог уговорить, даже обещанием подарить на день рождения ноутбук.
Видео закончилось, и ведущая бодрым голосом возвестила:
– Ну что ж, знакомьтесь с первой невестой!
Максим поднялся со своего места и на ватных ногах взошёл на сцену.
Невеста вышла к нему на тонких длинных каблуках, выше на целую голову, в белой мини-юбке и смелой красной блузке, чёрные распущенные волосы, макияж, маникюр, ухоженная городская девушка из хорошей семьи… Куда ему до такой? Поедет она за ним в небольшой городок? Будет воспитывать его замкнутого и ранимого мальчишку? Зачем это всё?… Так стыдно… так… что убежать хочется…
* * *
В ожидании обратного поезда Максим долго болтался по Ленинградскому вокзалу, ел невкусные холодные пирожки, глазел на обложки журналов, теснившихся за стёклами киосков, купил сборник сканвордов в дорогу и уродливого пластмассового трансформера для Серёжи. Дождило, было сумрачно и смутно.
Уже когда зашёл в вагон, сел на своё место, убрал под сиденье сумку, вынув из неё тапочки и припасы в дорогу, и стал бесцельно смотреть в окно, зацепился вдруг взглядом за фигуру бомжихи. Та медленно брела вдоль перрона. Её толкали торопливые пассажиры, задевали чемоданами, тележками. На ней была надета нелепая яркая куртка с грязными рваными рукавами, широкие, не по размеру, джинсы, разъехавшиеся кроссовки. Она бесцеремонно схватила за рукав дорогого пальто очень приличного пассажира. Тот, не глядя, достал из кармана пачку сигарет, выудил двумя пальцами одну и протянул ей. Бомжиха порылась в карманах куртки, нашла зажигалку и, привычным жестом откинув голову чуть назад и набок, долго, со вкусом прикуривала…
Внутри у Максима что-то болезненно сжалось: этот жест головой… как будто она откинула пышные длинные волосы назад, боясь их опалить… но ведь короткая стрижка… и как она держит сигарету в пальцах… и как курит, гордо, с достоинством, запрокинув голову и пуская колечки дыма в равнодушное отсыревшее небо…
Поезд дёрнулся, двинулся, заскрипел, пополз, и поплыл перрон за окном – сначала медленно, но вот скорее и скорее. И лица менялись всё быстрее, всё неразличимей, сливаясь в непрописанный коллективный портрет… Потом пошли городские спальные кварталы, мосты, шоссейные развязки… Потом пригородные дачи и голые лесополосы. Вагонное стекло то и дело прочерчивало тонкими штрихами дождя, а сумерки настойчиво покрывали заоконный пейзаж.
– Нет… Нет… – дважды, с долгой паузой, повторил Максим и, взяв кружку, пошёл по проходу раскачивающегося плацкартного вагона к титану, налить себе кипятку.
Непутевый
Бабка Паня ждала приезда сына. И боялась его.
Получив телеграмму, она лишилась сна, всё валилось из её корявых пальцев, кусок не шёл в горло, и никакой радости не стала она получать ни от всходящей на её маленьком огородике картошки, ни от любимой козы Белки.
Паня скрюченно сидела на табуретке у окна, уронив руки в подол выцветшего сатинового платья, и смотрела вдаль, не видя ничего и никого.
Федька был пьяницей. Горьким, страшным. Ещё парнем пристрастился он к вину, и не было с сыночком никакого сладу. Пил и с дружками, и вместе с отцом, пил на работе и дома, когда на халяву, когда в долг, а когда и вещи таскал. За вещи отец бил его и выговаривал, что-де последний вахлак из избы добро на водку тянет, за этим – край, амба! Федька и на мотоцикле с пьяными собутыльниками бился, по костям собирали, и на тракторе во что и в кого только не въезжал, и замерзал в сугробе – никакой чёрт его не брал…
Бабка Паня – в те годы ещё Павла Афанасьевна, кладовщица колхозной МТС – грешным делом благодарила судьбу за то, что та не послала ей больше детей и не нарожала она ещё таких вот вахлаков себе на погибель.
Передышка в Федькиных загулах случилась, когда забрали его в армию. Два года прожила Паня в покое: сыночек на дисциплине, а отец, захворав, от выпивки отступился сам, в одночасье. Ждали, что сын из армии вернётся другим человеком. Не тут-то было: как начал отмечать сыночек свой дембель, так остановиться не мог. Все дни слились для Пани в один: так бывает поздней осенью, в ноябре, когда беспросветное, набрякшее дождём небо уляжется на сирые поля и тощие перелески и неделями сеет, сеет нудную зябкую мокреть. Конца-края не видно…
Отстал Федька от пьянства внезапно, почти чудесно.
Однажды к соседке, точнее, к её дочке Натахе, приехала на майские погостить подружка из города. Учились они там вместе, ПТУ заканчивали. Как положено, вечером пришли в клуб, на танцы. Натаха – та крупная, бойкая, чернявая, а подружка полная ей противоположность: невысокая, аккуратненькая, блондиночка, имя редкое – Лиля, одета хорошо, духами пахнет. В общем, Федька влюбился, что называется, с первого взгляда. Обычно в клуб попрётся, так ни спецовки, ни сапог не снимет, а тут в бане вымылся, рубашку у матери чистую попросил, брюки, ботинки, как положено. Лежащий на кровати больной отец, собрав силы, поднялся, сел, подколол сыночка грубой шуткой и, получив в ответ свирепый взгляд, зашёлся в кашле. Федька ушёл, хлопнув дверью, и явился только на заре. Совершенно трезвый. И на следующий день так же. И на третий…
Праздники пролетели быстро. Городская гостья укатила домой. Федька неделю ходил мрачнее тучи, ни с кем не разговаривал. Трезвый! Потом собрал вещи, ничего толком не объяснил родителям, не попрощался как следует и усвистал на вечернем автобусе вслед за своей зазнобой.
Через три месяца после его отъезда пришло письмо: женился, работает на заводе, живут пока в общежитии. Так и осталось для всех загадкой, чем улестил деревенский пьяница Федька городскую красавицу по имени Лиля и что за сила была у этой хрупкой девушки, способная напрочь отбить молодого мужика от водки…
Долго Паня не верила, что союз этот навсегда. Думала, пройдёт немного времени, заглянет Федька в рюмку, и всё опять покатится под гору. Но прошёл год, молодые родили пацана-первенца, через три года произвели на свет девчушку. По письмам и слухам, доходившим до родной деревни, жили хорошо: и материально, и промеж собой. Спиртного Федька в рот не брал ни капли, вышел в бригадиры. Когда помер отец, приезжали всей семьёй на похороны, привезли бабке Пане внуков. Она смотрела на сына, как на чужого, так разительна была перемена. За поминальным столом вместо Федьки сидел солидный мужчина, с прямой спиной, строгим взглядом, густые пепельные усы делали его старше… Паня смотрела на него и физически чувствовала, как по капельке уходит из неё, из её сердца, из её памяти, из каждой клеточки тела многолетний ужас перед сыном, невыносимое напряжение, тоска, вина… Паня решила, наконец, отпустить себя, поверить и расслабиться. И такое это было счастье, такая невыносимая лёгкость, что она сразу после похорон слегла с гипертоническим кризом. Не справилась со своей свободой.
Дальше Паня жила одна. Сдала корову и завела вместо неё козу. Собиралась потихоньку дорабатывать до заслуженного трудового отдыха. Да грянули перемены в стране, колхозы обнищали, сначала перестали платить зарплату, потом и вовсе сократили. Паня, как и все оставшиеся на селе люди, выживала на подножном корму, научилась приторговывать на рыночных развалах, плела половики-кругляши, варежки-носки вязала, заготовки овощные, грибы в баночках продавала. Чтобы было на хлебец, на сахар… Так и дожила, дотянула до пенсии.
Федька матери писал исправно два раза в год: летом на её день рождения и на новогодье. Иногда присылал деньги, небольшие, но всё равно приятно. Она их никогда не проедала, использовала либо на ремонт, либо дрова покупала. Сын давно получил квартиру. Звал в гости, но она так ни разу и не собралась. Внуки уже окончили школу, пошли в институт. Как они растут, Паня видела только на фотографиях, которые выпадали вместе с письмами из конвертов.
Потом Федька писать перестал. Паня понимала, что времена трудные, не до того, работу бы не потерять, детей выучить. Но однажды не выдержала и села писать сыну сама. Долго и трудно выбирала слова, чтобы письмо не вышло жалобным, а всё равно съехала на грустное и одинокое своё житьё-бытьё и разревелась под конец, даже уронила на тетрадный листок несколько слезинок, под которыми тотчас же расплылись мелкие ровные буковки её почерка.
Ответ пришёл на удивление быстро. Писала невестка. Письмо, короткое и резкое, поведало Пане, что вот уже больше года Лиля с Фёдором не живут вместе, завод, на котором он трудился всю жизнь, давным-давно встал, её тоже сократили, найти новую работу в их возрасте в эти времена практически невозможно. Фёдор перебивался случайными заработками, потом запил… Дети уехали учиться в другие города. Ничего их больше не связывает. Обратной дороги нет. Развод назначен на пятое июня…
Давно забытым ужасом и тоской скрутило Панино сердце, всё вернулось в один миг, словно и не было почти двадцати лет её спокойной жизни. Письмо принесли седьмого. Значит, уже всё. Развелись. В таком-то возрасте! Уж не потерпелось невестушке, не поддержала мужика в трудную минуту. Худо ли прожила-то за ним? Он ради неё себя об колено смог переломить и столько лет держался. А она? И как теперь они все, и Паня в том числе, будут жить?
А вскоре пришла телеграмма от Федьки: «Буду субботу. Топи баню».
До субботы оставалось два дня, и вот эти два дня Паня ходила как в воду опущенная. Она хотела и очень старалась отыскать в своём сжавшемся нутре хоть какой-то, хоть самый крохотный огонёчек радости: сын приезжает, она теперь будет не одна!.. Но ничего, кроме страха, там не было. Ей навязчиво представлялось, как ввалится пьяный Федька в дом, заорёт, заблажит, в грязных сапогах протопает по половикам, завалится на постель, захрапит… а утром, ни свет ни заря, начнёт трясти её, требовать на опохмёлку…
– Господи… – зашептала Паня в отчаянье, – Господи… прости ты меня, я и сама не понимаю, как так… сына, своего собственного и единственного сына боюсь… ещё не видевши ненавижу… как жить?… Господи…
Хуже нет – ждать да догонять. Два дня и две ночи промаялась Паня, а в субботу встала раненько и сказала себе: будь что будет. Подоила козу и выгнала её пастись, затворила пироги, накачала воды и затопила старую прокопчённую баню, сходила в магазин и сама, словно хотела какую-то точку поставить в своих метаниях, купила бутылку водки, а к ней хлеба и две банки рыбных консервов. Пусть сын не знает о её страхе, пусть ему в родном доме будет уютно.
Утренним автобусом Федька не приехал. Стало быть, нужно ждать вечерним, в пять. А у неё к полудню уже и баня, и пироги поспели. Чем занять себя? Паня взяла тяпку и отправилась пошевелить картошку.
Всходы были ровные, густые, один к одному. Земля после вчерашнего дождичка влажная, податливая. Парило. Растревоженная мошка лезла в глаза, в рот. Не обращая на неё внимания, Паня работала споро, с охоткой. Когда от однообразной позы заныла спина, она разогнулась, опершись на тяпку, огляделась и вздрогнула: у забора стоял рослый тёмный мужик. Ослеплённая ярким солнцем, Паня не сразу признала в нём Федьку, только после того, как тот подал голос:
– Здорова, мать!
– Здравствуй, сынок… – отозвалась Паня. – Ты на чём же приехал? Я тебя утром ждала.
– Да с попуткой, – отмахнулся Федька, заходя во двор.
Мать скользнула взглядом по фигуре сына: одет он был чисто, опрятно, из вещей только большой рюкзак за плечами. Обнялись, вошли в дом.
– Ты покушать с дороги или в баню сразу? – спросила Паня тихо.
– Успеется… – неопределённо ответил Федька, присел на табурет у стола, подтянул к себе рюкзак, стал выкладывать скромные гостинцы. – Конфеток вот тебе… сыр, ты любишь… тут консервы кой-какие…
– Да будет тебе, Федя… – оборвала его Паня, с тревогой приметившая, что бутылку он не выставил, припрятал уже где-то. – Чего случилось-то меж вами? Чего разбежались-то?
– Дак… – пожал сын плечами, не глядя матери в глаза. – Как у всех, ничего нового… Куда мне вещи свои положить?
– Оставь, я вон в комоде ящик освободила. Уберу. Иди в баню-то, выстынет.
Паня выдала ему банное, отправила мыться. Сама разложила немногую привезённую им одежду в нижнем ящике комода, сапоги и ботинки поставила к порогу, куртку и пиджак повесила на плечики и прибрала в шкаф. Немного нажил сын с невестушкой за двадцать-то лет. Сколь увёз – столь привёз…
Пока Федька мылся, Паня успела сварить картошки, достала с подпола солёных огурцов, накрыла на стол, выставив на середину запотевшую бутылку. Рюмочки поставила себе и ему, по-хорошему чтобы, по-человечески.
Распаренный, краснолицый Федька сел за стол, с жадностью навалился на еду, а когда мать потянулась за бутылкой, устав гадать, чего это он фасонит и не наливает, остановил её:
– Не надо. Я это… закодировался. Убери…
Паня оторопела сперва, а потом послушно встала и спрятала бутылку в валенок, лежащий на русской печи. Почему туда? И сама не поняла.
Наевшись, Федька сыто потянулся и предложил матери:
– А пойдём пройдёмся по родной деревне? Поглядеть хочу, как тут у нас всё изменилось.
И они пошли. Высокий широкий Федька и едва достающая ему до плеча седая Паня. Она даже под руку его взяла! Небывалое дело! Неспешно шагали они по родной улице, где каждый второй дом стоял теперь с заколоченными окнами, за разобранным забором, завалившись на угол. Поля за деревней зарастали сорным березняком и ёлкой. Три фермы на взгорке, бывшие когда-то богатыми, зияли пустыми чёрными окнами, провалившейся крышей, раззявленными воротами. В овраге ржавел остов комбайна…
За всю прогулку им встретилась только старуха, выползшая на лавку за калиткой погреться на солнышке, да почтальонка проехала на велосипеде.
– Вот они, наши перемены, Федя, – горько сказала Паня. – Зря ты приехал. Ничего тут тебя не ждёт… Работы нет. Пенсию и ту не пойми как носят. Третий месяц уж дожидаемся. Хорошо своя картошка. А хлеб да чай под запись в магазине дают…
– Думаешь, в городе лучше? – перебил её сын. – Нам на заводе зарплату утюгами и женскими китайскими пальто стали выдавать: иди, перепродавай, если жить хочешь. А потом и вовсе в бессрочный отпуск… Я и на стройке, и на рынке… надоело. – Он помолчал, собираясь с мыслями, и заговорил тихо, глухо. – Мама, ты не бойся меня… не рада ты мне, вижу ведь… думаешь, на шею твою приехал?.. гулять, думаешь, опять?..
У Пани острый ком встал в горле, до боли, она и дышать перестала, и идти дальше не смогла. Слёзы сами покатились по её щекам, и она стыдилась их и никак не могла сдержать. А Федька продолжал:
– Летом огород, сенокос, дом подлатать надо, хватит работы. А к зиме – в лес. Мужик, что меня подвозил, звал в артель, говорил, можно заработать. Дрова-то всегда нужны, и кругляк они гонят на продажу в Москву… Ты прости меня, мама, прости, что я… непутёвый такой у тебя… хочу новую жизнь начать. Сорок пять лет – самый срок…
Они давно вышли за деревню и сидели в берёзках на краю оврага, на прогретой солнцем мягкой траве, среди которой часто белели маленькие цветки земляники. Сын всё говорил и говорил, мать слушала и плакала, и старалась верить в его слова и обещания. Ей так хотелось любить сына. Просто любить, легко, светло, ничего не боясь, ничего не ожидая плохого. Так, как любила она его маленького, чистого, до всех этих бед. Ведь любила же? Как давно это было. И было ли? Словно в другой жизни…
Живет моя отрада
Тесный зал районного суда оказался забит людьми до отказа, а любопытные всё пёрли в дверь из коридора, хотя бы постоять, хотя бы краем уха послушать. Виданное ли дело – ветеран Великой Отечественной, уважаемый всеми человек, бывший депутат сельского совета, инвалид, глубокий старик – и покалечил человека! Да ведь как покалечил – руку отрубил! В местной прессе называли это уголовное дело «резонансным» – красивое слово, пусть не всем понятное. На заседание суда даже приехали репортёры из областной газеты. Пришли представители районной администрации. Члены ветеранской организации. Адвокат подсудимого, прокурор. И, конечно, вся семья Зориных. Вызванные в качестве свидетелей, они вчетвером сидели на передней лавочке.
Полина, сорокалетняя внучка подсудимого, от стыда и горя не знала, куда себя деть, низко наклонившись, прятала лицо в ладонях и, кажется, плакала. Рядом с ней сидела старенькая сухонькая тётушка, её бесцветный покорный взгляд застыл на пустом кресле судьи. Дальше парой разместились отец Полины и её мать Василиса Андреевна. Отец, такой же сухонький и тихий, как тётушка, то и дело доставал из кармана пиджака пачку сигарет. Курить в зале, разумеется, было нельзя, и он всё вертел, мял в пальцах сигаретину, всё нюхал её. Василиса Андреевна восседала гордо, с прямой спиной, зло поглядывая на раскисшую дочь, на подавленного мужа, на собравшихся зевак. Но ни разу не взглянула она на потерпевшего, притулившегося у окна на соседней лавочке. Здоровый взрослый мужик, он бережно нянчил забинтованную и подвешенную на лямке за шею культю. Его поведение чудовищно раздражало Василису Андреевну, виделось показным, демонстративным.
Суета у входа в судебный зал вдруг усилилась, толпа расступилась, и в образовавшийся узкий проход вошёл сперва молоденький конвойный, а за ним уверенной походкой, с прямой спиной шагнул высокий крепкий старик, которому на вид нельзя было дать больше семидесяти пяти. Ни на кого не глядя, подсудимый проследовал за барьер, ограждённый решёткой. Замыкал шествие второй конвойный, он довольно сурово попросил посторонних покинуть зал и закрыл за ними дверь.
Взволнованная Полина пыталась посмотреть деду в глаза, но тот сел на своё место и устремил спокойный взгляд в пустоту.
– Встать, суд идёт! – громко сказала девушка-секретарь, и все собравшиеся последовали её призыву.
Судья – женщина лет пятидесяти, в очках с дымчатыми стёклами, за которыми нельзя было угадать выражение глаз, коротко взглянула на собравшихся и начала заседание. Когда зачитывалось обвинительное заключение, она разрешила подсудимому присесть, если ему тяжело стоять в силу возраста. Но Андрей Яковлевич отрицательно мотнул головой и остался на ногах. И вот тут, на какой-то миг, взгляды деда и внучки встретились. В воспалённых глазах родного старика Полина увидела такое глубокое страдание, такую тоску и муку гордого волка, попавшего волею судьбы на цепь, что невольно вскрикнула и зажала ладонями рот, чтобы не разрыдаться в голос.
* * *
Иван нетерпеливо продрался сквозь заросли ивняка, оцарапав веткой щеку, и жадно набросился на Полину.
– Подожди ты… подожди… – шептала та сквозь поцелуи. – Соскучился? да?… дурачок!
– Ах ты моя… сладкая ты моя… – мурлыкал Иван, стискивая её всё крепче, прижимая горячее.
– Выпил опять? Ведь выпил?..
– Да самый чуток, – ласково проворчал он, с наслаждением пряча лицо в пышной тёплой женской груди.
Вдруг Полина напряглась, оглянулась.
– Подожди! – сказала уже неласково, прислушиваясь к чему-то. – Тихо! Тссс!!!
Медленные синие сумерки спускались на посёлок. От болотистых низин поднимался туман. С железной дороги доносились переговоры дежурных. Затем стихли и они.
– Ну что ты? Что ты? – зашептал Иван, возобновляя поползновения.
Но настроение Полины уже изменилось. Упираясь в его плечи, она выпросталась из объятий, присела на поваленное дерево. Иван сел рядом. Закурил. Полина резко и больно выбила папиросу у него изо рта.
– С ума сошёл?! Сколько просила не курить при мне? Мать учует, прибьёт.
– Да чтоб тебя!.. Так и будем по кустам прятаться? А зима придёт?
– Нору в сугробе выроем… – горестно ответила Полина. – С милым рай где? Везде. Только не в родном дому…
– Да это ж средневековье какое-то! – вспылил Иван и, заикаясь, как это с ним бывало в минуты возмущения, заговорил. – К-к-когда ты ей уже признаешься? Я хочу, чтоб всё к-к-как у людей, чтоб свадьба, гости чтоб. Привыкнет. Простит. Поймёт же, наконец, что т-т-так нельзя.
– Нет, она не поймёт. Не простит, – клонила всё ниже голову Полина, неосознанно потирая шрам над левой бровью, который достался ей на память с того дня, когда мать узнала, что её дочь встречается с Кузьминым. Василиса Андреевна таскала Полину за волосы по всему двору, выбивая дурь и непослушание. Никто не осмелился заступиться за Полину, ни родной отец, ни дедушка. Сломленная, словно мёртвая, с окровавленным лицом и растрёпанными волосами лежала Полина на сеновале. Только глубокой ночью пробралась к ней тётушка, омыла лицо, утешила. Разбитую бровь надо было сразу накрепко заклеить пластырем, может, и не такой заметный шрам бы остался, да чего уж там…
Они расписались с Иваном два месяца назад. Тайно. В другом районе. И Полина каждый день в немыслимом напряжении ожидала, что всё откроется. Иван петушился, рвался в бой с тёщей, обещал «всех порвать», а пока что молодожёны встречались, как запретные любовники: по чужим квартирам, по тёмным закоулкам, по кустам. И было это гадко, пошло, тоскливо. Они ссорились, мирились, Полина плакала, Иван уговаривал уехать. Но куда ехать-то? В чужой огромный город, где нет ни жилья, ни работы, ни друзей. Жаль было бросить деда-инвалида, отца, тётушку… А ещё Полина знала, что мать достанет везде, и месть её за самовольство, за враньё будет тогда стократ страшнее.
Полина никогда и ни в чём не перечила матери. Да и попробовала бы… Василиса Андреевна была женщина с хара-а-актером! Держала в железном кулаке всю семью. Блюла большое хозяйство со множеством скотины и птицы, с бескрайним огородом, дальними и ближними покосами. Успевала и на работе – бригадирила на местной пилораме, зычно покрикивая на медлительных с вечного похмелья мужиков. А то могла и матюгом и кулаком приложить. Как такую женщину не уважать и не бояться? Так и привыкли в семье Зориных, что мнение домочадцев ничего не значит, просьбы ничтожны, возражения бессмысленны. Давным-давно никто из них не принимал никаких самостоятельных решений, не совал носа, куда не следует, не задавал лишних вопросов. Единоличная тираническая власть Василисы Андреевны царила над их домом. И была эта власть незыблема во веки веков.
Засидевшаяся по материной воле в девках Полина уже давно плюнула на свою личную жизнь, когда в ней вдруг появился Иван. Разведённый, с довеском в виде алиментов на двух пацанов, без собственного угла. Такого ли зятя хотела принять в дом Василиса Андреевна? Да ни в жись! Сына своего, Полининого брата, она женила самолично на работящей, хозяйственной женщине, пусть и постарше возрастом. Зато и живут они вот уж двенадцатый год, и дом у них полная чаша, и дети воспитанные.
Девчонкой Полина была премиленькая, и ухажёров вокруг неё вилось много. Василиса Андреевна всех отшивала: рано, выучись, ума наберись, в подоле хочешь принести? Во время учёбы в институте Полина сильно влюбилась в парня с параллельного курса, гуляли, собирались пожениться. Замирая от ужаса – примут не примут – привезла его познакомить с родителями. Вроде всё сладилось. Но уже когда начинали готовиться к свадьбе, мать вдруг упёрлась – не пойдёшь за него. Что? Почему? Полина узнала причину только через много лет: не понравилось Василисе Андреевне, что будущий зять вырос без отца. Мол, неизвестно, что за наследственность, мол, такой и сам легко бросит, оставит с детьми, будешь сопли на кулак наматывать.
Реки слёз пролила Полина. Уходили годы, увядала красота, всё отчётливее маячило на горизонте одиночество. Но ни разу ей в голову не пришло взбунтоваться, уехать, зажить вольно, своим умом. Полину согревала и удерживала жалость дедушки, забота отца и тётушки. Они уговаривали её, успокаивали, убаюкивали, и она их жалела, любила, не представляла жизни вдали от родных людей. Да и мать, бывало, сядет вечером за чаем, разговорится, оттает, похвалит, приласкает скупо. И в тысячу раз дороже ценилась эта отмеренная по капле ласка. Полина с недоверием смотрела на иные семьи – добрые, уважительные отношения между домашними казались ей неискренними, сыгранными на публику. Жизнь есть жизнь, невозможно, чтобы всегда тишь да гладь.
Так пришло сорокалетие – страшный для одинокой бездетной женщины рубеж, за которым зияла пустота безвестности и отчаяния. Полина стала бояться заглядывать в зеркало – время всё чётче, всё грубее наносило штрихи морщин на её открытое лицо. Взгляд, ещё не потускневший, по-прежнему ярко-синий, то и дело вдруг останавливался, застывал, словно оборачивался внутрь, заглядывал в душу, пытаясь разгадать, разглядеть написанную ей на роду судьбу. Неужели всё? Неужели так и пройдёт жизнь? Но хуже всего было то, что у Полины портился характер. Боже! Как она не хотела становиться похожей на мать! Но рассуждала, успокаивала себя, что Василиса Андреевна прожила полную жизнь, есть у неё и дети, и муж при ней. А уж норов этот от природы, куда его денешь?
В такую вот пору, в предзимье, чьё дуновение чуяла Полина и внутри себя, и по всей деревенской округе, и появился на её пути Иван Кузьмин. Прямой, азартный, откровенный, он не дал ей опомниться, задуматься, усомниться. Заждавшаяся своего счастья Полина потеряла голову, поддалась на все уговоры Ивана, а он умел уболтать, и даже на тайную роспись в ЗАГСе.
Теперь первый угар проходил, сахарок любви медленно растворялся в жгучем кипятке бытовых неудобств, мелких распрей, в выяснении отношений. Уже хорошо познав упорный характер Ивана, Полина еле сдерживала его от решительных действий. С каждым днём это давалось ей труднее и труднее. Совсем беда была, если муж приходил на свидание выпившим. Во хмелю Кузьмин становился неуправляемым и безрассудно смелым.
Вот и сегодня он явился с тем опасным огоньком в глазах и с чекушкой в кармане.
– Любовь и голуби, бля! – Иван закурил-таки. – Всё! Прямо сейчас идём. Пусть попробует выгнать – ты у себя дома. Я т-т-вой муж. По закону! Не имеет п-п-права.
– Нет! Нет! Прошу тебя, – Полина повисла на нём, успокаивая, усаживая обратно на поваленное дерево. – Завтра, хорошо? Я подготовлю их как-нибудь, намекну, пошучу как будто! Да?
Она нежно гладила ладонями лицо Ивана, целовала. Муж отмякал, прижимался, смешно сопел и постанывал от удовольствия. Уговорила, заласкала, усыпила. Оставила его проспаться прямо здесь, в кустах ивняка, на помятом пиджаке. Сама убежала домой, юркнула мышкой на веранду – с вечера сказала, что жара, что ляжет спать в полог. Хорошо всё устроилось, тихо, не заметили её двухчасового отсутствия.
Засыпая, Полина думала, что снова не сказала Ивану про задержку. И ладно, так спокойнее. А то его, бешеного, тогда вовсе не удержать будет. Только что она станет делать через три месяца? Через шесть? Когда живот уже не спрячешь?.. Потом… Завтра… Или через неделю… спать… спать…
Нечеловеческий крик раздался над самым ухом, словно тяжёлым кулаком огрели по голове. Полина взметнулась с кровати, как была, в нижнем белье, босиком бросилась в дом, на грохот, вопли и вой.
Влетела в свою спальню и окаменела у порога.
Посреди комнаты с топором в руке стояла мать. Подол её ночной сорочки, пол, подоконник были забрызганы кровью. Под окном, распахнутым в журчащую сверчками ночь, завывал Иван. Он катался по траве, придерживая здоровой левой рукой изуродованную окровавленную правую.
– Это сон… Это сон… – зашептала она одними губами, отступая назад и проваливаясь в пропасть беспамятства.
* * *
Полина лежала в переполненной душной больничной палате, глядела в стену и равнодушно отколупывала с неё штукатурку.
Беременные молодухи, кто сидя, кто лёжа на своих кроватях, щебетали, перемывая косточки мужикам, похохатывали, шумно и бестолково разгадывали сканворды.
Кто-то подошёл к углу, в который уткнулась Полина, и присел рядом с её кроватью на стул.
– Спишь? – спросил тихо родной голос. – Полюшка, как ты?
Отец мягко сжал её плечо, развернул к себе.
– Нормально я…
– Вижу как нормально.
Отец горестно вздохнул, выудил из кармана брюк пару мандаринок, протянул ей.
– Не хочу, – снова отвернулась Полина в угол. – Ничего не хочу… Я умерла.
– Дед тебе кланялся, – не обращая на слова дочери внимания, продолжал он. – Его взяли под стражу, но, может быть, отпустят на подписку. Если судья утвердит. Рассмотрение то ли завтра, то ли послезавтра.
Отец положил мандарины на тумбочку, туда же поставил пол-литровую банку с куриным бульоном, в котором плавали белёсые ошмётки мяса.
– Это я варил. Не брезгуй… Но дед сам домой не хочет. Не знаю, в общем.
Он посидел молча. Полина всё так же тупо колупала штукатурку.
– Ты тоже домой не торопись, если подержат тут, дак и лучше… наверное.
– Ага…
– Пошёл?
– Не приноси ничего. Я всё равно не ем.
– Тебе восстанавливаться надо, доча, надо есть… Бульончику-то попей, помаленьку, по глоточку.
Этот отеческий зуд страшно раздражал Полину, и она отмахнулась:
– Пошёл, дак иди!
И вслушалась в удаляющиеся шаги отца. И закрыла глаза. И если бы могла, остановила бы сердце.
* * *
Следствие было скорым. Чистосердечное признание, написанное Андреем Яковлевичем, свидетельские показания, показания потерпевшего, всё подтверждало вину старика. Следователь быстренько оформил дело и передал в суд.
Но для семьи Зориных за этим «быстренько» стояли страшные бессонные ночи и глухая ненависть друг к другу. После того как дед предложил взять вину на себя, потому что ему, как ветерану, инвалиду, заслуженному работнику и уважаемому человеку, дадут маленький, скорее всего, условный срок, все молчали о случившемся и не смотрели один другому в глаза. Каждый винил кого угодно, только не себя.
Много крови стоило Зориным уговорить Ивана дать «правильные показания». Полина, оказавшись в больнице с выкидышем, не участвовала в этом мерзком предприятии. И так и не узнала никогда, какую сумму отвалила семья её мужу. Ко дню суда Кузьмин уже официально развёлся с Полиной.
Василиса Андреевна две недели пролежала в постели с гипертоническим кризом, заставив домочадцев попрыгать около себя. Она уверяла, что приняла Ивана за вора, что испугалась и не понимала, что делает. Но говорила она это слишком убедительно, слишком часто, слишком подробно, а потому ей, хоть и кивали, не верили. Саму Василису Андреевну больше волновал позор, покрывший имя Зориных. Все эти статьи в газетках, любопытные расспросы, сплетни, пересуды односельчан. Если она входила в магазин, осиный улей тут же затихал. Взяв товар, она отходила к дверям и жёстко выговаривала оттуда: