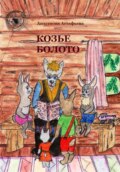Анастасия Викторовна Астафьева
Для особого случая
Враз поглупевший от первого сильного чувства, Матвей по делу и без дела забегал на птичник, громко и без всякого повода смеялся, беззаветно таскал вёдрами воду, мешки с зерном для куриц, получая тычки от матери и бригадира за свою невыполненную норму. Он числился скотником, и его коровы, в отличие от сытых Клавиных куриц, то недополучали сена, то утопали в навозе.
Клава была почти на два года старше Матвея и принимала его неуклюжие ухаживания за безобидную игру, подтрунивая над парнем вместе с подругами. Но однажды на беседках длинный лохматый Матюха Коровин, выпивши для смелости, прижал Клаву в холодных сенках и, дохнув на неё винным духом, серьёзно пробасил:
– Поженимся, а?
– Обалдел? – выпучилась на него Клава. – Женилка не выросла.
– Выросла… – задавленно прохрипел Матвей, заливаясь краской и ещё крепче стискивая девушку.
Клава, невольно убедившись в его мужской состоятельности, смутилась, с силой вырвалась из настойчивых объятий и убежала.
Они гуляли всю зиму и весну, и уже целовались, и собирались подать заявление в сельсовет. А на майские в клубе Митька Семёнов вдруг по-петушиному атаковал Клаву и с того дня не давал ей прохода.
Матвей лез в драку на Семёнова, которому хоть и стукнуло двадцать, но выглядел он мельче и был на голову ниже несбывшегося жениха. Уговаривал Матюха и Клаву, плакал, умолял. Но в ответ получал только насмешки. И в середине июня Клава пошла в сельсовет с Митькой Семёновым. Они сыграли свадьбу, а ровно через неделю началась война, и новоиспечённый муж ушёл вместе с другими односельчанами на фронт.
Матвея же призвали только через год. И весь этот унизительный год он, не понимая себя, таскался за Клавой, даже когда у той заметно округлился живот, даже когда она родила…
– Вот убьют твоего Митьку, и я всё равно на тебе женюсь. И ребёнка усыновлю. И воспитаю, как своего!
– Типун тебе на язык! – кричала ему в ответ Клава. – Да уйди же ты, уйди-и! Ой, грехи мои-и!
И горько, навзрыд плакала, потому что от Семёнова не было вестей давным-давно.
Но когда Матвея забирали на фронт среди других, годных по возрасту ребят, Клава стояла в отдалении у забора с маленьким на руках. Под вой матерей новобранцы споро попрыгали в кузов грузовика. Машина тронулась с места. Матвей привстал, тревожно заозирался по сторонам и увидел Клаву. Та коротко махнула ему и быстро пошла прочь.
Рассвело. Коровин открыл глаза, поднялся. Долину окутывал густой туман. Прислушался. Плотная тишина давила на уши. Где Семёнов? Что с ним? Коровин не знал, что ему делать.
Лошадь лежала на земле и смотрела на него тусклым тёмным глазом, полным глубокой печали. Он подошёл к ней, наклонился, погладил по морде и потянул за уздечку.
– Ну! Ну! Вставай…
Лошадь мотнула головой, дёрнулась, привстала на передние ноги, но тут же повалилась обратно.
– Давай, милая! Давай!
Коровин тянул лошадиную морду за уздечку вверх, уже понимая, что животина не встанет. Стегнул веткой. Раз, другой.
Лошадь испуганно прядала ушами, пучила с натуги глаза, но, обессиленная, валилась набок, и уже клала морду на сырую землю, и вздыхала тягостно, совсем по-человечьи.
Коровин ясно понял, что с Семёновым что-то случилось. Зря он отпустил его одного. И приказ не выполнен, и не знает ничего ни о судьбе товарища, ни о фашистах. Не с чем возвращаться. Надо идти в деревню.
Он с досадой посмотрел на лошадь и встретил её смиренно вопрошающий взгляд:
«Пристрелишь?»
Коровин почувствовал, как по спине пробежали острые мурашки. Его передёрнуло.
«Не могу…» – ответил он одними глазами и, сбежав с пригорка, сделал шаг в туман.
* * *
За столом оставалось человек шесть. Женщины почти все ушли домой. Клубные работницы потихоньку убирали посуду.
Кто-то фальшивенько тянул песню:
– В тёмную ночь ты, любимая, знаю, не спишь,
И у детской кроватки тайком ты слезу утираешь.
– Эх, Василич… – пьяно выдохнул Семёнов, присев рядом и положив руку на плечо Матвея Васильевича. – Зря глава-то сказал, что не снится… Снится, проклятая. И деревня та снится. Ажно заблажу во сне! Как пытали они нас. Как мы драпали… Как тащил ты меня с ногой этой.
Он сильно стукнул кулаком по бесчувственной конечности и потянулся за бутылкой, плеснул себе и товарищу по полрюмки.
– Ну выпей ты! Чего нам теперь делить-то?
– Ты знаешь, что я тебя не простил и не прощу! И пить я с тобой не стану до края земной жизни, – от беспомощности Матвей Васильевич начинал говорить красивостями.
– Ну и дурак! – Семёнов выплеснул водку в рот, сунул следом кружочек колбасы. – Чего ж ты тогда не пристрелил меня? А? – спросил он вдруг совершенно трезво и заглянул Матвею в глаза. – Я ведь ждал. Всю жизнь ждал, что рано или поздно отомстишь. А на войне-то чего проще? Кто бы разбираться стал, чья пуля? Утоп в болоте, да и шито-крыто.
Сидящий на другом конце стола глава уверенным голосом подхватил песню, и она зазвучала чище и пронзительнее:
– Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи.
Вот и теперь надо мною она кру-жит-ся-а.
Ты меня ждёшь и у детской кроватки не спишь,
И поэтому, знаю, со мной ничего не случится…
– Песня хорошая, жизненная, – вроде бы не в тему ответил на все нападки Семёнова Матвей Васильевич и, оставив застолье, потихоньку вышел из зала.
Быстро и ловко управляясь одной левой рукой, он надел и застегнул пальто, поблагодарил за всё кинувшуюся ему на помощь женщину. На улице он радостно и глубоко вздохнул и неспешно побрёл к дому.
Ветер унялся, выглянуло солнце, запахло сырой весенней землёй. На перекрёстке улиц Матвей Васильевич остановился, взглянул на подвявшие красные тюльпаны, завёрнутые в прозрачный кулёчек, и поменял направление.
Длинная деревенская улица, по которой он шёл, упиралась в автобусную остановку. За остановкой начиналось поле, пересечённое просёлочной дорогой. По этой самой дороге переселялись деревенские жители, когда приходил срок, на вечный покой. Там, на сельском кладбище, уютном и светлом, уже почти тридцать семь лет ждала его Клава. Он знал, что в той, другой жизни, они точно будут вместе.
Тёмная ночь, только пули свистят по степи,
Только ветер гудит в проводах, тускло звёзды мерцают…
Иветта, Лизетта, Мюзетта…
У Савельевых родились одни девчонки. Как ни старались Павел с Мариной состряпать пацана – ничего у них не выходило. Через девять месяцев после страстных усилий на свет появлялась очередная барышня. Остановились на седьмой. Хватит! Этакую ораву «мокрощёлок» Павлу надо и одеть, и обуть, и накормить. Да ещё и урезонивать, и терпеть капризы, и желания исполнять, и ссоры, вспыхивавшие в бабьей толчее ежеминутно, тушить… Воспитанием дочерей в основном занималась Марина, а его дело – добывать деньгу и кормёжку для восьми ртов. О своём, девятом, почти не заботился, уж что останется. И потому был Павел худ, сух, работящ и скуп на эмоции. Спал мало, дома бывал редко: то в лесу, то на пилораме, то на охоте, то на рыбалке. Годы стояли тёмные, лихие – девяностые. Только вертись да срок не схлопочи, и украсть умей с умом, и работай не оглядываясь. Девки росли, как во поле трава. Марина тоже за ними не всегда успевала уследить, а потому старшая Наташка с шести лет уже света белого не взвидела – младшие сёстры висели на ней, как серёжки на берёзе весной. В тринадцать она выкричала матери с отцом, что те лишили её детства, и сбежала из дома. Вернулась через неделю. И сдержанный Павел в ответ на бабий вой и крики, заполнившие их маленький домик до предела, наказывая Наташку, в сердцах, по неосторожности, сломал ей руку. С того дня он окончательно отступился от дочерей.
* * *
Зима приходить, похоже, и не собиралась. Истекала вторая декада декабря, а температура днём и ночью держалась выше ноля. Население находило в этом свои плюсы: урожай ягод случился небывалый, и за клюквой ходили до упора – покуда не грянут морозы. Носили её рюкзаками, отвозили в городок, сдавали и на следующее утро, едва отдохнув и обсушившись, снова тянулись на болото.
Павел – заядлый и ловкий ягодник, которого иногда за глаза в шутку называли «комбайном» – пасся на клюкве с начала сентября. Его тощая журавлиная фигура появлялась на тропе, ведущей от трассы к болоту, ещё в утренних сумерках и без устали кланялась кочкам до самого вечера. В тот угол, где он ходил, никто уж не совался. Брать после Павла было нечего, всё до самой малой клюковки выберут из мха его длинные жилистые пальцы. К тому же никто не решался даже ради богатой и крупной ягоды лезть в настоящую трясину, где обычно спокойно ходил Павел. Все знали, что того с младенчества брал с собой на болото дед и передал внуку многие лесные хитрости и тайности.
Обычно Павел отправлялся за клюквой один. Но в это воскресенье договорились с братом поехать вместе. Побрать, переночевать в деревне и рано утром в понедельник отвезти ягоду – а накопилось её уже мешка три – в городок.
Выехали затемно. Мотоцикл оставили у края болота. Брат сразу зацепился за первую попавшуюся кочку, а Павел, не терпящий побранной ягоды, быстро углубился внутрь, туда, где мох под ногами лениво и мирно покачивался и между островками, алеющими россыпью клюквы, стояли тихие озёрца чёрной воды. На их словно стеклянной поверхности плавала жёлтая листва, обрывки ряски. Неведомая глубина таилась в этом обманчивом покое.
Облюбовав местечко, Павел сбросил с плеч лёгкий пустой рюкзак и повесил его на ближнюю жидкую сосёнку. Извлёк из кармана куртки алый головной платок и повязал на верхушку этого же деревца. Примета – яркая, заметная на прозрачном болоте издалека. Теперь он будет кружить вокруг этого места с трёхлитровым пластмассовым ведёрком-набирушкой, удаляясь и возвращаясь, не боясь заблудиться. А заблудиться на болоте проще простого: куда ни глянь, на километры одинаковые чахлые сосны да гнилые берёзы, мох да кочки. Сонное провисшее небо над головой и ни души вокруг. Ни птички, ни лягушки. Тихо. Безветренно. Жутко.
Павел склонился к крупным кровянисто-красным ягодам, и пальцы его привычно, споро, цепко принялись собирать клюкву с сырой холодной кочки. Брал он быстро и чисто, успевая вынуть из горсти случайную мшину, сосновую иголку, почерневший листик. Ведёрко наполнялось меньше чем за полчаса. Тогда Павел разгибался, отдыхал, неспешно пробирался к помеченной сосёнке, высыпал клюкву в рюкзак. Медленно курил. И снова уходил по качающемуся мху, останавливался, склонялся к ягодам. И снова работали его пальцы – без устали, без перебоя. Клюква обсыпала кочку тесно, плотно, бочок к бочку. Всё ещё сохранившая твёрдость, весомая, крупная и прохладная, она похожа была на красный град, просыпавшийся на округу из невесть откуда прилетевшей ягодной тучи.
Неспешную работу и тихие, спокойные раздумья Павла нарушала только дурацкая песенка, навязчиво звучавшая в его голове: вечером девчонки смотрели старую, советскую ещё комедию. Скакали, бесились, громко выкрикивая: «Иветта, Лизетта, Мюзетта!» Хохотали, толкались, обзывали друг дружку глупыми заморскими именами. А он и не слушал их вроде, а вот, поди ж ты, привязалась…
«Иветта… Лизетта… Мюзетта…»
Клюква глухо стукалась о стенки ведёрка. Бродни погружались в сырой мох по колена. Чавкала и недовольно булькала под ними вода. Даже закутанные в шерстяные портянки, ноги чуяли, какая она ледяная, эта вода, как властно и упорно тянет мох в свою глубину. Павел с силой выдёргивал сапоги из хлюпающих бочажин, переступал на другое место, вновь погружаясь по колена.
Внезапно тишину над болотом разорвал оклик брата. Павел выпрямился. Отозвался. Больше оклика не последовало. Значит, всё в порядке. Просто «проверка связи».
Спугнутая перекличкой братьев ворона уныло пролетела над верхушками болотных сухостоин и пару раз каркнула раздражённо.
И снова лишь глухие постукивания ягод в ведре. И снова слова песенки в голове: «Иветта… Лизетта… Мюзетта… А дальше-то что? Погремушка какая-то, а не песня…»
Чтобы отвлечься, Павел стал прикидывать, сколько сможет завтра выручить за клюкву и что нужно купить. Олюшке и Викушке – по зимним сапогам. Катька вчера в клочья разорвала куртку – не девка, а супарень, через забор лезла, зацепилась… Тетрадок всем надо, кто-то просил фломастеры… Иветта… Лизетта… Мюзетта… Тьфу!..
Павел высыпал в рюкзак очередное полное ведёрко и присел рядом с сосёнкой. Достал из кармашка рюкзака «тормозок»: куски чёрного хлеба с салом, пару солёных огурцов, варёное яйцо. Сидел, равнодушно жевал хлеб. Очистил яйцо. Съел. Закурил.
Полинку отвезти к врачу. У Ани день рождения на следующей неделе… Наташка со своими колготками загрызла. А ещё муки мешок, а ещё сахару… А ещё Новый год на носу! Это сколько же клюквы надо сдать!.. Одна Сонечка пока ничего не просит. Спит да титьку сосёт.
Павел невольно улыбнулся, припомнив младшенькую.
Время давно перевалило за полдень, но декабрьские сумерки так и не рассеялись. Лес вокруг стоял в болезненной дремоте.
Рюкзак был полон, но Павел хотел ещё добрать ведёрко. Ходил уже лениво, выискивая самые крупные ягоды, выбирал не дочиста.
Снова над болотом разнёсся оклик брата. Устал братец, замёрз, домой хочет. Павел крикнул в ответ и решил двигаться к выходу. Надел на плечи рюкзак, сразу придавивший его своей двухведёрной тяжестью. Отвязал алый платок, сунул его в нагрудный карман куртки. Выломав для опоры и безопасности длинную крепкую жердь, Павел стал осторожно перешагивать с кочки на кочку, ненароком примечая россыпи ягод, которые оставались теперь никому не нужными. Наклонился за клюквой пару раз, но сразу и бросил это занятие: с тяжеленным рюкзаком за плечами очень уж неудобно. Распрямился, увидел приметную кривую берёзу. Вот и выход, совсем близко.
Павел ткнул перед собой жердью в нескольких местах: жидковато… Нащупал кочку…
«Иветта!» – прыжок.
«Лизетта!» – прыжок. Нога поехала по скользкому мху, но он быстро поймал равновесие.
«Мюзетта!» – прыжок. Палка сломалась. Откинул обломки. Примерился к следующей кочке. Оттолкнулся. Под правой ногой предательски хрустнула и просела ненадёжная опора – обросший мхом остов дерева, и оттого прыжок получился недостаточно сильным. Тело по инерции пошло вперёд, но соскользнувшие ноги уже погружались во взбудораженную жидкую ряску, под которой не было никакой опоры, никакого дна…
Павел провалился сразу по пояс, но руками на лету успел ухватиться за ненадёжную твердь, за которой трясина заканчивалась и мох уже не таил смертельной опасности. Один неудачный шаг, одна секунда, и вот его тело во власти леденящего бездонного пространства, исхоженного поверху вдоль и поперёк, но абсолютно неведомого внутри, в своей глубине.
Да это просто смешно!
Нужно снять и откинуть рюкзак. Держась одной рукой за торчащий из тверди скользкий корень, Павел принялся выбираться из лямок рюкзака. От каждого движения тело словно ввинчивалось в густой кисель трясины, намокшая одежда, наполнившиеся болотной жижей сапоги тянули вниз. Тяжело дыша, Павел выкинул рюкзак на высокое место. Собрав все силы, впившись руками в осклизлые корни и ветви поваленных когда-то и затянутых мшанником и ягодником деревьев, он вытягивал и вытягивал себя из трясины. Но там, внизу, кто-то гораздо более сильный тянул и тянул его к себе! И стоило ему чуть ослабить хватку, как он провалился в болото уже по грудь.
Павел закричал. Но отклика не услышал. Он снова напрягся и, хрипя от немыслимой натуги, вытягивал себя, покуда не выдохся. Снова крикнул. Брат ответил издалека, не сразу. И совсем с другой стороны, чем думалось. Звать на помощь – значит терять силы, надеяться на брата – значит сдаться и погибнуть. Сам! Только сам! Лишь бы дотянуться до этой берёзки! Какие-то жалкие сантиметры не доставали до неё пальцы! А жадная голодная трясина, распустив липкую бурую слюну, сладострастно тянула жертву в свою утробу…
Держась за корень окоченевшей левой рукой, Павел правой вытащил из нагрудного кармана платок и попытался закинуть его за стволик берёзки. Раз, другой, третий… платок зацепился за сучок, теперь нужно было аккуратно подтянуть и наклонить деревце к себе. Но едва берёзка стала крениться, ненадёжная ткань поползла. Тогда Павел рывком выпростал из болотной жижи левую руку и ухватился за свесившуюся к лицу спасительную веточку. В панике подтягивая к себе слабое деревце, едва не упустил его. И только почувствовав в руках казавшийся спасительным белый стволик, понял, что берёзка ничем ему не поможет. Его засосало в трясину по плечи. Он стремительно замерзал и уставал. Всё его измученное тело сделалось словно чугунным. Павел решил какое-то время не двигаться, накопить немного энергии для нового рывка. Он в последний раз позвал брата. Уже слабо, уже не понимая силы собственного крика.
Он знал, что долго отдыхать нельзя, но прикрыл глаза и вдруг отчётливо услышал детский смех. Совсем рядом. Девчонки прыгали, визжали и весело повторяли:
«Иветта! Лизетта! Мюзетта!»
Павел улыбнулся и одними губами прошептал:
«Олюшка… Викушка… Наташа…»
И, вздрогнув, очнулся! И впился грязными пальцами в берёзку, и со звериным рычанием вытягивал и вытягивал себя из гибельной ловушки, из морока, уже окутывающего сознание. Показалось, что выбрался немного, что отвоевал у смерти несколько сантиметров.
Но только показалось…
Трясина поглощала свою добычу с каким-то почти плотским наслаждением. Даже по-зимнему леденящая, она обнимала, обволакивала, втягивала в себя страстно и как-то совсем по-женски, в свою влагу, в самую её глубину. Спелёнатый этой смертной лаской, уставший сопротивляться ей, Павел делал ещё какие-то движения немеющим телом… ему казалось, что делал.
Он снова прикрывал глаза, снова отдыхал. Тела уже не было. Он его не чувствовал. Но ещё теплилось сознание.
«Иветта! Лизетта! Мюзетта!» – смеялись вокруг неугомонные дочки.
«Вся жизнь моя вами… как солнцем… – вспыхивали в засыпающем мозгу Павла слова, которых он вроде и не запомнил… – как солнцем июльским… согрета… согрета… Полина, Аня, Катька…»
«Иветта! Лизетта!! Мюзетта!!!» – хохотало всё вокруг.
«Вся жизнь моя вами… Сонечка…»
Его всё крепче окутывал морок. В густеющей замедляющейся крови разливалось безразличие. И уже не было страха, не было борьбы…
Жизнь уходила.
Посиневшие губы Павла дрогнули. Вместо улыбки по ним скользнула боль.
До туманящегося слуха долетел зов брата – такой далёкий, такой нереальный, но его хватило, чтобы кровь ударила в голову, чтобы тело с неистовой жаждой жизни рванулось вверх из жадной склизкой пасти…
Но ничего, совсем ничего не случилось.
Оклик донёсся снова и вдруг вонзился клинком в сердце. Павел судорожно втянул ледяную струю воздуха в обожжённую грудь. Но адский взрыв внутри разрастался, стирая последние мысли, чувства, останавливая пульс… Через мгновение ободранные грязные пальцы выпустили исковерканную берёзку, и та, словно не веря в свою свободу, выпрямилась не сразу, медленно, болезненно расправляя тонкие голые ветви.
Трясина сомкнула гнилую пасть над головой жертвы и сыто, утробно отрыгнула…
Часа через два на потаённое место выбрел медведь, так и не залёгший из-за тёплой погоды в берлогу. Он долго принюхивался, улавливая в воздухе остывающие запахи недавней трагедии. Сильно пахло человеком. Но ещё тянуло чем-то съестным с кочки, на которой росла ободранная берёзка с повисшим на сучке алым платком. И медведь, немного помявшись в осторожном сомнении, ловко и легко перепрыгнул туда, присел и деловито распотрошил намокший тяжёлый рюкзак. Пожива оказалась невеликой: пара раскисших кусков хлеба с салом. Собранную клюкву медведь не столько съел, сколько рассыпал и передавил. Не найдя больше ничего для себя интересного, лесной хозяин побрёл дальше. А над болотом повисла та самая сонная и равнодушная тишина, которая предвещает скорый и сильный снегопад.
Давай поженимся!
– Серёжа!.. Ну! Улыбнись!.. Прямо в камеру смотри и пирог впереди себя держи… Руки-то вытяни… Ну что ты как деревянный!
Максим присел перед сыном на корточки и заглянул в потемнелые его глаза.
Оператор выключил камеру и закурил, повесив на своём лице выражение невыразимой скуки.
– Серёжа, ну надо улыбнуться. На одну всего минуточку. Они снимут, и всё! – уговаривал отец насупленного сына. – Пирог вот так держи, руки под тарелкой… не надо пальцами его прижимать! И стесняться нечего. Ты же его сам испёк?
– Сам… – еле прошелестел Серёжа.
– Так и скажи прямо в камеру: «А этот пирог я испёк сам, для моей будущей новой мамы!»
– Я не хочу… – ещё тише произнёс сын. – Зачем это, папа? Так стыдно… так… убежать хочется…
* * *
На съёмках передачи всё происходило совсем иначе, чем потом показывали в телевизоре. Максим долго сидел в большой ярко освещённой студии, за знакомым всем овальным столом. Под пиджак ему подвешивали аппаратуру с микрофончиком, гримёр грубовато поправляла что-то в причёске и смахивала кисточкой с лица. Три ведущие сухо переговаривались. Вокруг них тоже суетились гримёры и техники. С сидящей на разноярусных рядах публикой репетировали аплодисменты по определённому сигналу. Максим старался улыбаться, пробовал пошутить с гримёршей, попытался поймать взгляд знаменитой ведущей. Но она, если и смотрела в его сторону, то не на него, а словно сквозь. Взгляд её был жёстким и холодным.
Но вот прозвучала команда режиссёра. Зрители дружно зааплодировали. И лицо ведущей резко изменилось.
– Здравствуйте, Максим! Вот я смотрю на вас: вы такой молодой, ухоженный, и не могу поверить в ту историю, которую вы описали… Что такого могло произойти с вашей, с позволения сказать, женой, что она ушла от вас, бросила сына… Расскажите нам! Она ведь загуляла?
– Здравствуйте! – от долгого нервного напряжения голос Максима прозвучал хрипло. Пришлось откашляться. – Так сложилась жизнь. Я не хочу никого осуждать. Мне кажется, что в житейских бедах, а в неурядицах семейной жизни уж точно, никогда не бывает виноват кто-то один…
* * *
Родители Люси не были алкоголиками. Они даже проблемными людьми не были. Трудолюбивые, тихие, скромные до замкнутости. Многие в деревне считали их нелюдимыми и скупыми, но при встрече всё равно здоровались, вежливо интересовались делами. Работали родители всю жизнь на железке, после школы путь в железнодорожный колледж был назначен и их дочери – жили-то на станции, поэтому династии железнодорожников здесь не были редкостью.
Максим с Люсей учились в одном классе, дружили сначала компанией, потом разделились на пары. Так и пошли дальше парой – в колледж, после годичной Максимкиной службы в армии поженились, работали в одной бригаде проводниками на пригородных поездах, потом родился Серёжа, но Люся в декрете недолго просидела – скучала без работы.
В тот августовский вечер они уже заканчивали смену: оставалось четыре небольших перегона до конечной станции. Пассажиров в вагоне было немного – понедельник, дачники разъехались накануне, люди в основном возвращались с работы.
И вот электричка резко встала посреди леса. Встала и стоит. Охрана заметалась по составу, к машинисту, обратно. Максим за ними. Авария! Впереди сошёл с рельсов скоростной поезд. Пока бригады «скорой помощи» едут, пока МЧС вызовут, пока те доберутся… Охрана, проводники, все, кто первым на месте оказался, похватали аптечки, фонари, рации – и туда…
Машинист двери электрички заблокировал, чтобы пассажиры не лезли, прокричал «оставаться на своих местах». Ему-то своё место тоже покидать нельзя, но побежал всё-таки. Женщина в окно стучит, кричит ему. Ничего не понять. Форточку догадалась открыть: «Я врач!..» Вернулся, матюгаясь, выпустил её через свою дверь… Остальные пассажиры, как любопытные дети, прилипли к окнам, пялились бессмысленно в темноту…
Бежали в сумерках, спотыкаясь и скользя по насыпи. Люся за Максимом, следом ещё проводники. Лучи фонарей выхватывали из полутьмы людей, мечущихся на фоне бесформенных огромных груд металла. Кто-то кричал о помощи. Кто-то громко и жёстко отдавал команды. Слышались щелчки и скрипучие переговоры по рации. А вообще была какая-то жуткая тишина. Лес кругом чернеет, искорёженные вагоны, рельсы из-под них торчат в разные стороны, погнутые, словно проволочки, провода болтаются, столбы завалены… Аварийный свет горел, но не ярко, а словно жидкий желток лился на всю эту чудовищную картину…
Максим даже не успел спросить, куда, что, чего – ему через разбитые окна уже стали подавать людей. Он на всю жизнь запомнил эти ощущения, эту кожу, скользкую и липкую от крови, эту теплоту безвольных тел, женские волосы, наоборот, прохладные, путающиеся… Иногда вместо человеческого тела в его руках оказывалась мёртвая холодная тяжесть чемоданов или ледяной металл искорёженных кресел – их тоже нужно было вынимать и выбрасывать подальше, потому что там, под ними, стонали живые ещё люди. Многие выбирались сами: кто слабо раненный, в сознании… Тут же суетились и только мешали совсем здоровые пассажиры, зачем-то прибежавшие из передних непострадавших вагонов. Какая-то истеричная женщина вскрикивала и рыдала… Мальчишка лет двенадцати стоял в стороне, как столбик, молча… К нему подошёл машинист:
– Как ты себя чувствуешь?
Он ответил:
– Хорошо.
– Страшно было?
– Нет, я уже большой. Я понял, что всё хорошо… Маму только надо найти…
Мальчика увели.
Раненых относили и складывали ближе к лесу. Там уже работали медики: кололи обезболивающее, бинтовали, накладывали шины… «Скорая» хоть и приехала к переезду, но дальше было никак нельзя, и они шли до места аварии пешком по насыпи с носилками, с кейсами своими неподъёмными… МЧС-ники тоже уже давно прибыли на место и оттесняли проводников, благодарили, просили не мешать, а помочь разгонять зевак, сложить в одно место разбросанные вещи, поставить кого-то сторожить.
Максим еле отыскал в этой жуткой круговерти Люсю: она сидела около раненых, кого бинтовала, кому давала пить, кого-то просто обнимала, успокаивала. А увидев Максима, вдруг сама заплакала и стала повторять на одной ноте:
– Как на войне! Как на войне! В кино, помнишь? Если состав разбомбят… Как на войне…
Максим поднял её с холодной сырой земли и повёл обратно к своему пригородному составу. Здесь они были уже не нужны, а там надо было успокаивать пассажиров, надо было как-то решать вопрос с их доставкой домой.
– Как на войне! Как на войне…
Максим остановил Люсю и дважды резко ударил её с обеих сторон по щекам.
Она мгновенно ослабла и бессильно сползла к его ногам…
* * *
– Пережитое вместе горе, весь этот ужас… бывает, что он сплачивает людей, – говорила хорошо поставленным голосом ведущая. – Но это был не ваш случай. Так, Максим?
Вырванный из воспоминаний её вопросом, Максим не сразу вернулся в настоящее и не сразу ответил. Поэтому она продолжала твёрдыми своими комментариями выводить его на нужную по сценарию программы дорожку:
– А ваша жена после пережитого справиться с собой не смогла… Она стала искать утешения в спиртном и… – ведущая выдержала паузу, – …и… в мужчинах. Ни ваша любовь, ни маленький сын её не остановили.
– А вы пытались обращаться к психологу? – спросила в свою очередь холодная, как снежная королева, астролог. – Жену вы не пробовали отправить на сеансы психотерапии? Такие стрессовые ситуации можно отрабатывать…
– У нас маленький городок, там нет достаточно квалифицированных специалистов… да и стоит это дорого, – оправдывался Максим.
– Ну что ты хочешь? – обернулась к астрологу ведущая. – Люди в сельской местности относятся к депрессии, как к насморку, – само пройдёт, и хватит дурака валять! А основное лечение – опрокинуть стопарь… – Она посмотрела на Максима. – Чем ваша супруга и стала регулярно заниматься!
– Это не совсем так, – тихо возразил Максим и снова откашлялся – хриплый комок всё стоял в горле и не давал говорить. – У неё началась бессонница, и она не ела совсем… Ей корвалол выписали, пустырник, но это же мёртвому припарка… Я не сразу заметил, что она стала выпивать. Она ведь на работу продолжала ходить, только нас потом в разные бригады развели. И я уже не мог быть всё время рядом…
* * *
Просто однажды он учуял исходивший от неё запах алкоголя. Люся отговорилась, что отмечали с девочками чей-то день рождения. Но и назавтра, и ещё через день, и через неделю, и через месяц… А потом она стала позже приходить домой, всё позже, позже, а как-то не пришла совсем. И утром не вышла на смену. Он искал её тогда целый день и нашёл только к вечеру в настоящем притоне… Она спала на замызганном топчане совершенно голая, едва прикрытая какой-то серой рваной простынёй.
Максим приволок Люсю домой, отмыл, привёл в чувство… Неделю с ней не говорил. Не мог. Да и она не особо стремилась. Серёжа всё это время находился с её родителями. А она и сыном не интересовалась, и с работы её уволили за прогулы. Уходя на смену, Максим запирал Люсю дома, отбирал телефон. Но что толку? Вскоре он опять не обнаружил жены дома. Снова искал её, снова нашёл в притоне, тогда ещё и сам чуть в беду не попал – подрался с её собутыльниками, его порезали, хорошо хоть не сильно…
И жизнь превратилась в ад. Почти год он пытался Люсю спасать: всё по тем же притонам, вынимая почти бесчувственную из-под грязной алкашни, вытаскивая полуживую из сугробов, уговаривая, матеря, умоляя сыном, жалея, презирая, ненавидя, любя. Но однажды, в очередной раз отмывая жену после загула, он вдруг увидел её лицо: искажённое безобразной гримасой, с разбитым ртом, где уже не хватало передних зубов, какое-то жёлтое, морщинистое, со слипшимися, скатавшимися в колтуны волосами… Максим понял, что его Люси больше нет, а у его сына больше нет матери. Есть «соска Люська», которой в его жизни больше быть не должно.
В течение месяца он перевёлся на работу в соседний район, переехал, снял жилье, устроил сына в садик и стал жить дальше. Через год ему удалось добиться лишения Люськи родительских прав. Больше о ней и их совместной жизни Максим не вспоминал, но доброхоты доносили о «подвигах» бывшей. Ещё через год один за одним умерли её родители, и Люська бурно пропивала доставшуюся в наследство хату. А потом и вовсе куда-то исчезла…
Молодым отцом-одиночкой часто и порой настырно интересовались самые разнообразные женщины. Пытались проникнуть в их маленький мужской мирок. Но Серёжа никого не принимал, да и сам Максим ещё не набрался сил для создания новой семьи.
* * *
– Сколько же лет вы живёте вдвоём с сыном? – ведущая талантливо изображала сочувствие, а, может, и вправду прониклась… – Без женской помощи, без ласки…
– Семь, – отозвался Максим, – сын в этом году в третий класс пошёл.
– А давайте посмотрим видео, где ваш сын проводит экскурсию по вашей квартире.
– Да! Нам приданое нужно посмотреть! Квартира-то ваша? Или служебная? – проквакала в свою очередь сваха.