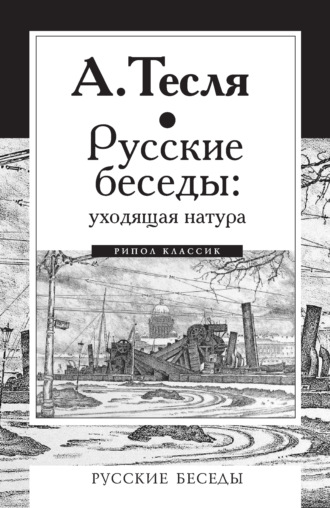
Андрей Тесля
Русские беседы: уходящая натура
© Тесля А.А., 2018
© Издание, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2018
Предисловие
Старый мир, европейский мир, закончился в 1914 г. – тогда же, собственно, закончилась и старая Россия. Для нас, правда, 1914 г. оказался затемнен другим водоразделом – 1917-м, но и февраль, и октябрь того года – лишь следствия или, точнее, одно из действ общеевропейской драмы, разыгрываемой с августа 1914-го. В данном сборнике весьма немного сказано о самих этих событиях, но все, о чем в нем говорится, происходит в их тени – в ожидании, переживании, действии. Для одних, как, например, для Бакунина, вопрос был в том, как похоронить этот в корне несправедливый мир – как можно устроить другой способ человеческого общежитья. Для иных, как для Драгоманова, речь шла о том, что перемены неизбежны – реальность меняется в самых основаниях: эти изменения можно приветствовать или осуждать, но они есть данность – и, следовательно, вопрос в том, как возможно устроить разумное человеческое сосуществование – не окончательно, но в движении, что придет или что может прийти при достаточных усилиях на смену существующим порядкам. Соловьев сходился с Бакуниным в том, что ожидал решительной перемены, меняющей все рамки нашего существования, – но если для Бакунина корень проблемы был в том, как можно избавиться от власти (arche), как возможна человеческая жизнь без иерархии (и потому антитеологизм был неотъемлемой частью его мысли – до тех пор, пока существует иерархия, пусть только небесная, будет воспроизводиться и иерархия земная), то для Соловьева целью было привести мир в должный порядок, иерархически устроить его: порядок небесный и порядок земной в конце концов должны были прийти в идеальное соответствие, а этот конец виделся в непосредственной близости.
В этот сборник вошли статьи, написанные с 2012 по 2017 г. и опубликованные в различных изданиях. Мне представляется, что несмотря на то что писалась каждая из них по конкретному поводу и в связи с конкретным вопросом, в них есть единство – сообщаемое самим материалом, уходящей или уже ушедшей натурой. Потому я и счел необходимым завершить этот сборник статьей, посвященной Йозефу Роту, – он писал уже «с той стороны зеркала», фиксируя новый мир, но принадлежа тому, который оставался лишь в памяти и в опыте, более ни к чему не применимый.
Наставник реакции[1]
Правительствам, наверное, надо что-то пожертвовать безумию нашего века, но ровно столько, чтобы успокоить его и ни в коем случае ему не потворствовать.
Жозеф де Местр
Сделав все зависящее от меня, погрузился я в бесплодное ожидание. Zaf ra (завтра) – вот страшный пароль сей страны.
Жозеф де Местр – кавалеру де Росси, 14/26.XII.1804
Жозеф де Местр – фигура достаточно известная, однако известность ее ограничивается преимущественно именем да несколькими типовыми фразами и оценками, передающимися от одного автора к другому. Образованный читатель припомнит, разумеется, его пассаж о палаче и вспомнит его контекст – рассуждение о трансцендентности власти. Он, безусловно, реакционер – и идеолог ультрамонтанства, одна из ключевых фигур в движении католической церкви к I Ватикану. Отечественный читатель вспомнит также, что де Местр – прообраз одного из посетителей салона Анны Павловны Шерер, виконта Мортемара, а вспомнив это, может быть, припомнит и интерес к нему Льва Толстого, внимательного читателя, многое позаимствовавшего из текстов де Местра для «Войны и мира». В целом, однако, для основной аудитории он остается персонажем, лишенным конкретики, судят о нем обычно с чужих слов, и в этой ситуации нельзя не приветствовать появление переводов нескольких его текстов, дающих возможность восполнить безусловно интересный образ.
Граф де Местр приехал в Россию в 1803 г. и пробыл в ней 14 лет, ставших временем его творческого расцвета, за эти годы он напишет или подготовит вчерне все свои основные тексты, получит признание в обществе и успеет стать влиятельной политической фигурой. Здесь же он собирался и остаться, присоседившись к своему брату, Ксавьеру, перебравшемуся в Россию еще в 1800 г., вызвав семью и определив сына в конную гвардию. Ему и самому предлагали перейти на русскую службу, но это предложение он отклонил – весьма благоразумно, предпочтя влиять в том числе и на русские дела, не становясь подчиненным.
Официальный его статус определялся пребыванием в должности посланника короля Сардинии, однако у короля, которому служил де Местр, не было ни денег, ни армии, ни собственно королевства – он правил лишь милостью британского флота и теми крохами, что удавалось ему собрать со своих подданных и субсидиями британского правительства. Быть посланником державы, у которой практически нет ни сил, ни средств – тяжкая обязанность, которую де Местру удалось исполнить сполна, поставив на службу своему монарху свою известность и влияние, приобретенное силой и остротой ума. Он был реакционером – и одновременно одним из умнейших людей своего времени. Редкость подобного сочетания признавал и он сам: «Читайте историю, г-н Кавалер, и вы увидите, что великие таланты всегда служат революциям, а правая сторона только обороняется, ибо революции не были бы возможны, ежели великие таланты выступали бы против них» (Жозеф де Местр – кавалеру де Росси, 5-6/17-18.VII.1806).
Лишенный возможности опереться на авторитет того государства, посланником которого он был, де Местр избрал единственную реальную возможность оказывать и иметь влияние в Петербурге – свой талант собеседника и интеллектуала. Круг его постоянного общения составляли, в частности:
«…адмирал П.В. Чичагов, братья Н.А. и П.А. Толстые, министр внутренних дел В.П. Кочубей, граф П.А. Строганов, князь А.М. Белосельский-Белозерский, княгиня Е.Н. Вяземская. Список весьма красноречив: реформаторы из Негласного комитета Кочубей и Строганов[2] соседствуют с ярыми противниками реформ братьями Толстыми. Не менее показательно и пояснение де Местра ‹…›: „Таким образом я разговариваю с высшей силой“. „Высшая сила“ – это Александр I. Характерно, что „разговаривает“ с ней де Местр не только через проводников правительственного курса, но и через оппозицию. Савойский посланник верно уловил суть политики Александра I – лавирование между противоположными лагерями и стравливание сторонников и противников реформ» (Парсамов, 2010: 248–249).
Де Местр заставлял себя слушать – для петербургского общества он был необычен, как, впрочем, и для любого. Но в Петербурге, в кругу новой знати (а в России она была неизбежно новой, даже если могла в некоторых случаях отсылать к древним родословным[3]) он производил необыкновенное впечатление. Общество, напитанное непереваренными новыми европейскими идеями и мнениями, то, где мысль десятилетней давности считалась уже отжившей, недостойной рассмотрения, встретилось с первоклассным интеллектуалом, европейской знаменитостью, чьи суждения шли вразрез со всем, что привыкли считать за «последнее слово», но в то же время и само претендовало быть этим самым «последним словом», который говорил совершенно непривычные для просвещенческого сознания вещи, и в то же время проповедуемое им оказывалось нередко тем, что желали услышать его влиятельные собеседники – он давал интеллектуальный аргумент в ситуации, когда казалось, что все аргументы подобного рода в руках противника. При этом он смущал самих реакционеров – для них он был слишком «другим»: как и у всякого мыслителя, его «реакция» оказывалась стимулом для мысли, он возвращался «назад», но чтобы вернуться назад, ему приходилось ходить нехожеными или давно забытыми тропами. Если одних он шокировал своими рассуждениями о Бонапарте, будучи готов проигнорировать принципы легитимизма, полагая, что Господь мог избрать и такой путь для реализации своей воли, то других поражал серьезностью своей веры – за всем остроумием и точностью взгляда обнаруживалась своеобразная религиозная философия. В мире, где одни верили «по обязанности», а другие не верили от уверенности в силах своего ума, в мире еще не дошедшего до своего воплощения, но уже ставшего бесспорным принципом секулярного сознания, понимающего веру и религию лишь как одну из «сфер жизни», «культурных форм», которую можно отгородить от всех других практически непроницаемыми перегородками и где уж точно политическое мышление должно быть свободно от религиозных «предрассудков», он воплощал новое, возвращение (раскрытие) религиозного в политику(е) – опыт революции, не только пережитой, но и осмысленной им, стал для него и возвращением к Богу и к пониманию религиозного, как лежащего в основе политического (когда религиозный выбор является первым политическим – выбором послушания, повиновения).
Основной враг для де Местра – это «либерализм», межеумочная позиция, отказ быть последовательным и надежда на то, что балансировать так можно вечно. Молодому Сергею Семеновичу Уварову, будущему автору доктрины официальной народности, де Местр писал: «С восемнадцатым веком нельзя вступать в сделки: лучше быть якобинцем, чем фейяном, и лучше разделить печальную славу разрушителя, чем стать во весь рост между двумя вражескими армиями и служить и той и другой мишенью для пуль и издевательств» (26.XI/8.XII.1810). Как пишет в предисловии к «Четырем неизданным главам…» В.А. Котельников, припоминая знаменитое выражение Константина Леонтьева, де Местр показывает, «как надо „делать реакцию“» (стр. 20), а первым в числе уроков стоит ясность и смелость мысли, готовность додумывать мысль до конца, что, стоит отметить, не следует непосредственно переводить в практику. Если Уварова де Местр наставляет оставить попытки занять межеумочную позицию, то «правительствам, наверное, надо что-то пожертвовать безумию нашего века, но ровно столько, чтобы успокоить его и ни в коем случае ему не потворствовать» (стр. 277): чтобы идти на уступки и заключать компромиссы, надобно осознавать, какова твоя собственная позиция и каковы ее основания; реальная политика требует отказа от многого, что желалось бы, но она же требует и понимания того, где нельзя уступать.
Де Местр рассчитывал до конца своих дней остаться в России, обосновываясь в Петербурге навсегда, однако он оказался слишком убедительным проповедником, его беседы и деятельность общества Иисуса, которое он всеми силами поддерживал, вылились в волну обращений в католичество в высшем свете. Новая религиозная политика Александра I не могла принять и примириться с подобным – Александр I исповедовал надконфессиональное христианство, но как раз в силу его надконфессиональности каждый подданный должен был оставаться в своем исповедании; для де Местра, напротив, христианские деноминации ранжировались с точки зрения своей политической вредности/полезности, однако истинной оставалась, разумеется, одна лишь Римско-католическая церковь[4]. В результате практически отошедший от политических дел и давно сосредоточившийся на вопросах философских и религиозных, де Местр получил повеление покинуть Империю (а три года спустя был изгнан из России и орден Иисуса). Ксавьер де Местр писал их брату Никола 28.V.1817:
«Невозможно передать, какую ужасающую пустоту в моей жизни оставил его отъезд и всего семейства. После проведенных вместе четырнадцати лет это довольно жестоко. Теперь его здесь нет. Да пребудет с ним Господь и сохранит его! Ему весьма повезет, если найдет он в своем отечестве столько же друзей и уважения, сколько и здесь. Впрочем, я сильно в этом сомневаюсь…».
С отечественными переводами де Местру не повезло – сначала его тексты не могли преодолеть кордоны духовной цензуры (да и особенной нужды к тому не было, поскольку основные его отечественные читатели, принадлежащие к свету, читали и думали на языке, общем с автором), позже, когда эти препятствия перестали быть существенными, ушел интерес к де Местру, оказавшемуся в сознании публики в числе «крайних реакционеров» (что во многом справедливо) и не заслуживающим внимания (что уже вовсе не справедливо). Внимание исследователей он привлек в 1920-е – начале 30-х годов, однако затем уже внешние по отношению к науке обстоятельства привели к очередной паузе, растянувшейся на десятилетия. Только в 1995 г. вышли избранные письма де Местра (Местр, 1995), вобравшие наиболее интересные и «вкусные» части его переписки за время пребывания в Петербурге; в 1997 г., к 200-летию первого издания, наконец вышел русский перевод первой книги де Местра (Местр, 1997), принесшей ему мировую славу и ту репутацию, с которой он вошел в петербургское общество, – «Рассуждения о Франции»; год спустя вышел перевод «Санкт-Петербургских вечеров» (Местр, 1998), сразу же ставший библиографической редкостью. По сей день остаются непереведенными две главные книги «зрелого» де Местра – «О Папе» и «Рассмотрение философии Бэкона» в двух томах, являющиеся, по его собственному мнению, его основным философским трудом. Издательский интерес к де Местру, столь неожиданно проявившийся в 1995–1998 гг., явно пошел на спад, не вызывая даже переизданий ранее вышедших работ. Тем более радостно последовательное появление двух переводов де Местра, выполненных А.П. Шурбелёвым и изданных «Владимиром Далем», которые объединяет «русская тема». Если «Четыре неизданные главы…» и «Письма об испанской инквизиции» были адресованы автором русским читателям, а именно графу А.К. Разумовскому, то анекдоты собирались де Местром для себя, аналогично многим другим подобным сборникам тех времен. Передавая своему сардинскому корреспонденту, кавалеру де Росси, известие о крещении вопреки закону сына Великой княгини Екатерины Павловны, Александра Георгиевича Ольденбургского, в лютеранскую веру, де Местр 14/26.IX.1810 писал:
«Недавно в разговоре с одной из здешних особ я вполне откровенно сказал: „Хотите знать мое мнение? Это лютеранское крещение придумано для того, чтобы новорожденный не мог занять в будущем некоторую должность“. Он же ответствовал мне пренебрежительным жестом: „Боже мой, вы рассуждаете об этой стране так, будто здесь возможна какая-то логика!“ Впрочем, умный иностранец не должен поддакивать таким разговорам; я никогда не забываю сего правила и непременно восхваляю эту страну, когда сами русские ругают ее».
Однако, читая тексты, одни из которых обращены к русским читателям, а другие создавались для себя, равно как и перечитывая переписку де Местра, убеждаешься, что между ними есть разница в интонации, в формах вежливости (от которых он избавлен, набрасывая письмо своему сардинскому собеседнику или фиксируя анекдоты для памяти), но мысль остается неизменной: де Местр готов сообразить изложение с положением и нравами собеседника, но не содержание того, что он желает сказать.
Адресуясь русскому вельможе (и рассчитывая, возможно, на куда более влиятельного читателя), де Местр, ограниченный в своих наблюдениях светским обществом и сам оговариваясь о возможности для иностранца давать советы, тем не менее передает свое основное ощущение (то, которое затем позволит с очевидностью увидеть связь с его мыслью «Философических писем» Чаадаева не только в области общих рассуждений, но и применительно к России) – это ощущение хрупкости всякого порядка, где любые европейские формы лишь фасады, прикрывающее нечто иное, куда более простое (и, соответственно, сложное для внешнего взгляда), где под имперским покровом находится народная толща, живущая своей автономной жизнью, и притом не упорядоченная и религией (не знающей посттридентской христианизации), которую столкновение с просвещением, вносимым правительством, освобождение от крепостной зависимости и т. д. – приведут в движение, с которым мало шансов совладать. Призывая опасаться не столько невежественного крестьянина, сколько того, что «появится какой-нибудь новый Пугачев с университетским образованием», де Местр в результате бессилен дать реальные советы – поскольку его советы «медлить» опровергаются его же видением ситуации. Реакционер, он в «семейных делах Европы» призывал опираться на то, что ее создало, утверждая, «что род человеческий в его целом способен воспринимать гражданскую свободу только в той мере, в какой его пронизывает и направляет христианство. ‹…› Эта истина, являющаяся истиной первостепенной важности, была совсем недавно явлена нашим очам самым ярким и самым ужасным образом. На протяжении целого века на христианство непрестанно посягала одна отвратительная секта. Правители, которых она соблазнила, не только попустительствовали ей, но даже самым плачевным образом содействовали этому преступному посягательству. ‹…› В мире стало слишком много свободы. Развращенная воля человека, освободившегося от узды, смогла совершить все, о чем мечтали гордыня и порочность. ‹…› Не прошло и двадцати лет, как европейский дом рухнул, верховная власть теперь барахтается под его обломками, и никто не знает, сумеет ли она когда-нибудь оттуда выбраться. ‹…› Теперь ‹…› два якоря, удерживающие общество в спокойном состоянии, каковые суть религия и рабство, одновременно утратили свою силу, и корабль, унесенный бурей, потерпел крушение». Но этих якорей не существует в России, и де Местру остается лишь предостерегать от опасностей, не видя выхода, ведь если для «европейского дома» есть то прошлое, к которому надлежит сознательно вернуться, т. е. возродить прежние основания, рухнувшие в силу непонимания, что именно они и являются основаниями, то для России его нет – она нечто «иное», удивляющее де Местра, записывающего анекдоты о местных нравах настоящего и прошлого, и в то же время привязавшее его к себе, то место, где он хотел бы остаться навсегда.
Часть 1. Конец старого мира
1. Самоубийство Европы
Арнольд Тойнби в мемуарах, написанных уже в 60-х годах, совсем в другом мире, вспоминая о юности, о первом, кажется, лете, проведенном после окончания университета, рассказывал о том, как отправился в путешествие по Европе – где паромом, где пешком, где третьим классом поезда. Это было непосредственно перед Первой мировой войной. И Тойнби пишет (уже тогда, когда вовсю развивался ЕЭС и были уже модными рассуждения на тему «Европейского единства»), что те, кому не довелось жить до 1914 г., не знают, что Европа уже была единой – именно перед мировой войной.
Разумеется, «единство» – это всегда «единство для кого-то»: так, говоря, что «мир стал единым», в этот мир мы не помещаем какие-нибудь забытые уголки, которые не надо искать особенно далеко и в экзотичных местах – вполне подойдет какая-нибудь русская деревня, – и подразумеваем, что он стал относительно «единым» для нас, достаточно быстро, чтобы эту перемену явственно осознать. Так и «единство Европы» было единством для высшей части среднего класса, но для нее оно означало возможность странствовать по ней, в принципе, без документов – надзор был бдителен к «подозрительным» и к «низшим классам», стремясь привязать их к месту, но человек «приличный» мог не заботиться об этом (за исключением Российской Империи – достаточно вспомнить многочисленные мемуарные зарисовки иностранцев о пересечении русской границы, где их поражал досмотр и требование документов). Государство, которого боялся Спенсер, в апокалиптических тонах описывая правительственную власть, под разными предлогами забирающуюся во все новые и новые сферы человеческой жизни – от образования до здравоохранения, – на наш современный взгляд почти отсутствовало: даже информацию о том, где и кто родился, оно (за исключением Франции) продолжало получать от приходов, налоги были преимущественно косвенные, в том числе и потому, что достоверно узнать об уровне доходов своих граждан для того, чтобы затем взымать в казну положенный процент, не было никаких возможностей. Единая валюта, о которой долго мечтали многие из послевоенных европейцев (и которая теперь выглядит уже не столь однозначно привлекательной задумкой), существовала на практике, поскольку действовал золотой стандарт, и британскому путешественнику, коли он не хотел связываться с банковскими конторами, следовало лишь взять не билеты Английского банка, а запастись гинеями. Переживания, связанные с обменным курсом, правда, отчасти могли доставить некоторое беспокойство – по той причине, что одни страны придерживались золотого, другие серебряного, а третьи были уверены в верности биметаллического стандарта, ценовое же соотношение двух драгметаллов колебалось, впрочем, с такой неторопливостью, что мы сейчас вряд ли можем оценить их тревоги.
Земля по-прежнему считалась самым надежным вложением денег, и, что возможно, важнее, оставалась весьма значима с точки зрения приобретения социального престижа. Человек, добившийся прочного успеха, должен был быть помещиком: власть была неподвижна, перемещаться с места на место было уделом низших. Индустриальная цивилизация в этом отношении многие вещи оставила неизменными, как выразительно напоминает Зигмунд Бауман, достаточно вспомнить внешний вид заводов и фабрик начала XX века: владелец возводил их, держа в голове рыцарские замки, тратясь на архитектуру и декор, рядом располагая заводоуправление и свой особняк, а нередко и в одном и том же здании. Он врастал в землю и мыслил себя «фабричным бароном», «рыцарем капитала», обзаводясь своим укреплением, вокруг которого размещались (как в старину лепились к замку постройки крестьян) жилища его работников, которые не могли рассчитывать на подобную долговечность.
Если новая аристократия подражала старой, то и старая никуда не делась, – она демонстрировала достаточную способность усвоить перемены, сохраняя свое положение: не столько она «упадала», сколько другие росли быстрее. Все помнят по литературе хрестоматийные истории о том, как дочери графов выходили за банкиров, а сыновья герцогов женились на дочерях фабрикантов, но это-то как раз и демонстрирует «хорошую форму», в какой старая аристократия встречала XX век, оказываясь способной вбирать в себя и перерабатывать под себя все новые и новые поколения «успешных» людей, включая их в существующие сети и иерархии и тем самым превращая возможных противников в союзников или в тех, кто надеется со временем ими стать. Эта аристократия едва ли не больше всех делала Европу действительно единой – Соединенное Королевство, Франция (сначала империя, а затем республика), Российская, Германская и Австро-Венгерская империи – все эти и другие, относительно мелкие, политические образования могли быть в самых сложных отношениях друг с другом, но их аристократии не были только «национальными» или «имперскими»: в первую очередь они были единой европейской аристократией, связанной родством, свойством, соседством, общей культурой, способом проводить время и видеть мир.
Мир Европы до 1914 г. был монархическим, на этом фоне выделялась лишь Франция, но с ней смирились и к ней привыкли, после всех потрясений с 1789 г. соседи приняли «Французскую Республику» без восторга, но с пониманием, как странное исключение, но которое надлежит терпеть, раз ей удалось каким-то образом достигнуть внутреннего мира в бесконечно тревожимой стране. Собственно, аристократии могут жить без монархии, но монархии без аристократии – нет, и «хорошее самочувствие» европейской аристократии демонстрирует неплохое положение монархий – более или менее им удавалось встраиваться в меняющийся мир, все в большей степени уходя от сиюминутной политической активности (предоставляя ее партиям и кликам) и беря на себя роль арбитра (сила которого, помимо прочего, обеспечивалась традиционным контролем над армией).
Вся эта Европа осознавала себя единым миром, отделяя себя от остального пространства, тем миром, где действует международное право, субъектами которого являются отдельные державы. Прочие земли – объект, с ним можно и нужно делать то, что возможно и желаемо, но договаривающиеся стороны – только европейские державы: как можно или нельзя поступить с Китаем или что Россия может потребовать от Турции в 1878 г., определялось не только и не столько в переговорах с Китаем или с Турцией, но европейскими державами между собой, как «семейное дело»: «европейский концерт» и был той «единой Европой», где каждый должен был учитывать другого, а война хоть и сохранялась как ultima ratio, но решающим этот довод был в конкретном споре – презумпцией было, что само существование другого под вопрос не ставится. Правда, этот мир стал разрушаться до 1914 г., не только через вхождение Северо-Американских Штатов в дела, которые ранее были «исключительно европейскими», но и через размывание круга того, кто является субъектом, и через все меньшую ясность, что есть «правильная война» (как писал Карл Шмитт, борьба против «войны как таковой», моральное требование признать всякую войну незаконной, приводит к тому, что война утрачивает свои пределы, враг больше не имеет прав, а следовательно, с одной стороны, против него позволено все что угодно, а с другой – «войны» больше нет – есть «полицейские операции», «меры по охране порядка» и т. п.). Но то, что в фундаменте европейского мира пошли подвижки, стало очевидно лишь много лет спустя, когда здание уже обвалилось.
1914 год и стал этим обвалом, датой, после которой всякий европеец мог с полным правом сказать, что «мир никогда не будет прежним»: достаточно сравнить мир в 1914-м и в 1918 г. – за четыре с небольшим года войны не стало трех европейских империй (или четырех, если в их число включать Порту, для чего есть масса убедительных аргументов), разрушилось прежнее полусословное общество, началась эпоха идеологий. Post factum сильнее всего хочется предположить «неизбежность катастрофы» – уже потому, что утверждая «логичность» происшедшего, мы тем самым возвращаем разум в историю и таким образом обретаем хотя бы покой «понимания». Но, быть может, ирония истории в том, что к катастрофе 1914 г. привела цепь случайностей и отнюдь не необходимых поступков – начиная с Сараевского выстрела и заканчивая недопониманием позиций каждой из сторон в треугольнике Вена – Берлин – Петербург. Европейский мир перед катастрофой был хрупок, в этом смысле можно согласиться с «логичностью» происшедшего, поскольку случайности накапливались и система не была способна с ними справиться; как о весьма пожилом человеке, причиной смерти которого стала обычная простуда, трудно сказать, что смерть его была случайна, хотя в том, что именно простуда стала летальным заболеванием, не было никакой необходимости. Но история все-таки не биология, и, миновав благополучно развилку 1914 г., европейский мир отнюдь не был обречен на то, чтобы получить мировую войну годом или двумя позже – он менялся, и менялся существенно иначе, чем то направление, которое получил после лета 1914 года.
XX век, начавшийся в 1914 г. и который вряд ли можно считать завершимся и сейчас, был одержим стремлением «восстановить порядок», «вернуть» или «переучредить норму», памятью о самой возможности которой снабжал оставшийся в прошлом, но реальный как воспоминание, XIX век.







