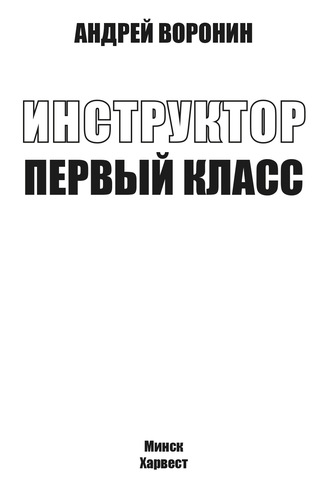
Андрей Воронин
Инструктор. Первый класс
© Подготовка и оформление. Харвест, 2009
Глава 1
Воскресенье выдалось сырым, пасмурным и относительно теплым – прибитый снаружи к гнилой оконной раме старенький термометр показывал четыре градуса выше нуля, а то, что синоптики скромно именовали туманом, более всего напоминало облако, уставшее без цели и смысла мотаться над центральными областями России. Переменная облачность, наблюдавшаяся над городом Песковом накануне, в субботу, в воскресенье уже представлялась некоторым его обитателям не то сном, не то досужим вымыслом охочих до беспардонного вранья синоптиков, а прошедшее лето вспоминалось с трудом, и воспоминания эти выглядели не более правдоподобными, чем дошедшие до наших дней мифы Древней Эллады.
К вечеру, однако, погода переменилась. В сумерках, которые в это время года наступают рано и длятся совсем недолго, сырой воздух был таким же неподвижным и мутным, но в темноте тучи незаметно ушли в неизвестном направлении, туман рассеялся, и в небе, на которое никто не удосужился взглянуть, засверкали крупные звезды. Из-за покосившихся черных заборов в частном секторе (который, к слову, составлял девяносто процентов жилого фонда города Пескова) с самого утра начали выползать клубы белого горького дыма – хозяева, пользуясь погожим деньком, жгли опавшую листву.
Вдыхая этот горький осенний запах под натужный скрип педалей своего дышащего на ладан дамского велосипеда, Клим Зиновьевич Голубев неожиданно для себя вспомнил, что именно в такой погожий осенний денек двадцать лет назад они с Мариной решили пожениться. Небо в тот день было таким же голубым, и прозрачный воздух так же пах горечью сжигаемых листьев. Точно так же золотились полуоблетевшие липы на единственном в городе бульваре, так же пламенели поредевшие кроны старых кленов на церковном погосте и шуршала под ногами опавшая листва. Они шли взявшись за руки, и казалось, нет ничего прекраснее этого прикосновения теплой и нежной девичьей ладони с трогательно тонкими пальчиками. И еще казалось, что нахлынувшее счастье будет вечным, что бы ни случилось, как бы ни повернулась жизнь.
С трудом крутя несмазанные педали, Клим Зиновьевич горько усмехнулся. Молодым людям свойственно думать, что они – единственные в своем роде, отличные от всех прочих представителей рода людского, что чувства, которые испытывает влюбленный юноша, не испытывал до него ни один человек и дальнейшая судьба подхваченного вихрем гормональной бури сопляка, естественно, не имеет ничего общего с серым будничным прозябанием, из которого состоит жизнь старших поколений.
Но годы идут, и в один далеко не прекрасный день ты вдруг обнаруживаешь, что волосы на голове поредели, зубы испортились, блеск в глазах потускнел, а сияющие перспективы подернулись туманной дымкой и растаяли, как мираж. Юношеские мечты вспоминаются смутно, с печальной улыбкой, а между тобой нынешним и тем пьяным от счастья юнцом, каким ты был когда-то, пролегла топкая трясина однообразно серых будней, и нет ни возможности, ни, что страшнее, желания проделать этот путь в обратном направлении. А впереди уже сгущается мрак; идти туда не хочется, но река времени неумолимо и безостановочно несет тебя к неизбежному концу…
С этого дня начинается постепенное прозрение. Сначала ты обнаруживаешь, что не нужен обществу, стране, государству – словом, внешнему миру, который превосходно обойдется без тебя и даже не заметит твоего исчезновения. Потом оказывается, что ты неинтересен тем, кого по наивности считал своими друзьями; еще какое-то (как правило, очень недолгое) время спустя выясняется, что ты точно так же неинтересен собственной семье, после чего становится ясно, что и самому себе ты не нужен и неинтересен.
Большинство людей устроено настолько примитивно, что им такие мысли даже не приходят в голову. Они живут сегодняшним днем – мучаются, как бессловесные животные, от многочисленных болячек, тупо радуются, когда удается набить брюхо или перекричать соседа, и топят в алкоголе даже ту слабенькую искру разума, которой наградила их мать-природа в лице самодовольных родителей.
Клим Зиновьевич Голубев был не таков. В свои сорок два года он представлял собой типичный образец состоявшегося неудачника, но винил в этом не себя, а обстоятельства, а паче того – окружающих.
Учась в химико-технологическом, он мечтал об аспирантуре, которая позволила бы ему остаться в Москве и сделать блестящую карьеру исследователя или, на худой конец, администратора. Учился он не хуже остальных и, как ему казалось, имел все шансы на успех. Но вокруг всегда было навалом преподавателей-взяточников и их любимчиков – проныр, лизоблюдов, стукачей с московской пропиской, которые спали и видели, как бы им подсидеть Клима Голубева и отправить его прозябать обратно в провинцию. Он потерпел поражение, а его недруги преуспели, и то обстоятельство, что недругов своих он придумал сам, и притом намного позднее, когда пытался разобраться в причинах своей неудачи, ничего не меняло в нынешнем отношении Клима Зиновьевича к тогдашнему периоду своей жизни.
Получив распределение на один из гигантов химической промышленности, он стиснул зубы и стал работать, мечтая сделать карьеру на производстве – через посты мастера, начальника смены и начальника цеха к директорскому, а в перспективе, может статься, и к министерскому креслу. До начальника смены он кое-как дорос, но потом в цеху случилась авария, в которой обвинили – естественно, несправедливо – его, и Клим Зиновьевич глазом моргнуть не успел, как вновь очутился на собачьей должности сменного мастера цеха без видимых перспектив карьерного роста. Некоторые считали, что ему повезло – дескать, мог бы загреметь в простые работяги, а то и за колючую проволоку, – но Клим Голубев так не считал. Он был из тех людей, которые просто не способны признать свою вину в чем бы то ни было.
Уволившись с завода, он вернулся в родной Песков и поселился в старом родительском доме, перебиваясь случайными заработками в ожидании счастливого случая, что вознесет его на сверкающие высоты, которых он достоин. Химик-технолог – не самая востребованная специальность в городишке с населением в двадцать пять тысяч человек, вся промышленность которого состоит из ремонтно-механических мастерских, хлебо- и молокозавода да дышащего на ладан заводика плодово-ягодных вин. В течение десяти лет Клим Зиновьевич поочередно преподавал химию во всех пяти школах родного города. К тому времени, как администрация последней из них, отчаявшись добиться толку, рассталась с Климом Голубевым, его жена Марина уже давно перестала верить в блестящее будущее супруга и все разговоры на эту тему пресекала однообразно-ворчливой репликой: «Ну, понес…» Дочь, когда чуточку подросла, решительно приняла сторону матери, и теперь они выступали единым фронтом – всегда против Клима Зиновьевича и никогда за.
Крутя тугие педали и с ненужной силой стискивая обтянутые потрескавшейся резиной рукоятки ржавого руля, Клим Зиновьевич Голубев ехал на работу. Горькие мысли привычно глодали изъеденное обидами нутро, и даже нежданно погожий, солнечный денек не радовал, а, напротив, усугублял его дурное настроение: выходные были испорчены ненастьем, из-за которого ему пришлось сидеть дома, в компании злобно ворчащей жены и пренебрежительно фыркающей шестнадцатилетней дочери, зато в понедельник, который ему предстояло провести в сыром, продуваемом злыми сквозняками цеху, где не было ни одного окна, погода выдалась просто загляденье. Как будто нарочно, ей-богу! И что за доля у Клима Зиновьевича? Даже природа и та против него…
Он с натугой преодолел длинный подъем, миновал огороженный старым кирпичным забором Свято-Никольский храм, на паперти которого, как всегда, было черным-черно от набожных старух, прокатился, мелко дребезжа расхлябанным звонком, мимо двухэтажного особнячка музыкальной школы и свернул направо, в тенистый переулок. Переулок носил гордое имя Розы Люксембург, которое вряд ли что-то говорило обитателям притаившихся в глубине заросших замшелой сиренью и могучей крапивой палисадников. В отличие от них, Клим Зиновьевич знал, кто она такая и чем прославилась, и это знание служило ему дополнительным поводом для раздражения: Голубев вовсе не считал Розу Люксембург достойной того, чтобы ее имя было увековечено в названиях тысяч улиц и переулков, а также заводов и фабрик, разбросанных по бескрайним просторам бывшего Советского Союза.
Переулок имени Розы Люксембург имел одно неоспоримое достоинство: от церкви он шел под уклон, позволяя сидеть в седле и, отдыхая, глазеть по сторонам, пока сила земного притяжения работает за тебя, вертя колеса велосипеда. Увы, на обратном пути это достоинство превращалось в недостаток, с которым приходилось мириться, – мир несовершенен, и с этим ничего не поделаешь.
Правда, с некоторых пор у Клима Зиновьевича появилось средство сделать этот несовершенный мир более пригодным для существования. Изменить рельеф городских улиц с помощью этого средства Голубев не мог; не мог он и переменить мнение о себе окружающих, не говоря уже о собственной судьбе, которая после сорока лет обычно проявляет явные тенденции к окончательному окостенению. Все, что могло изобретенное бывшим химиком-технологом Голубевым средство, – это подарить ему немного радости, которой ни с кем нельзя поделиться.
Скрипя и дребезжа, облезлая «дамка» с восседающим в седле лысоватым невзрачным субъектом средних лет прокатилась по короткому и кривому переулку Розы Люксембург и, повернув налево, выехала на улицу Береговую. Сделав два плавных поворота, пыльная улица уперлась в железные ворота, петли которых были намертво вмурованы в кирпичный забор. Над забором виднелось современное сооружение – тоже кирпичное, темно-красное, со стрельчатыми закопченными окнами и ненужными финтифлюшками по всему фасаду. Крыша блестела новенькой оцинкованной жестью; два года назад пристроенное к производственному корпусу административное здание резало глаз белизной гладко оштукатуренных стен и блеском отмытых до скрипа стеклопакетов. Рядом с проходной к стене была привинчена табличка, которая гласила: «Открытое акционерное общество „Песковский завод виноградных вин“». Клим Зиновьевич не стал смотреть на табличку: он и так знал, что там написано, поскольку трудился на данном предприятии уже три года – едва ли не с того самого дня, как оно обрело вторую жизнь с подачи столичных толстосумов.
Упомянутые толстосумы, по мнению Клима Голубева, были хоть и подонки, но далеко не дураки. Выкупив давно закрытое ввиду хронической убыточности предприятие, они не стали реанимировать производство дешевой яблочной бормотухи, которой издревле травились аборигены города Пескова и его окрестностей. Вместо этого господа олигархи наладили тесное взаимодействие с иностранными партнерами, установили на предприятии суперсовременную автоматическую линию и занялись розливом тонких импортных вин, которые привозили откуда-то из-за границы в громадных, сверкающих нержавеющей сталью автоцистернах. Деньги, таким образом, извлекались чуть ли не из воздуха: будучи всего-навсего разлитым в узкогорлые бутылки темного стекла с неброскими, вызывающими доверие этикетками, привезенный из Франции виноматериал дорожал в десятки раз. Какую именно прибыль владельцы завода извлекали из этой нехитрой операции, оставалось только гадать: лишь они да их иностранные партнеры знали, сколько на самом деле стоило доставляемое автоцистернами из Франции исходное сырье. Клим Голубев не знал даже, какова цена конечного продукта: он, этот продукт, считался элитным, и торговая сеть города Пескова его не закупала ввиду заведомого отсутствия спроса. Поэтому Клим Зиновьевич очень смутно представлял себе, сколько стоит каждая из прошедших через его руки узкогорлых бутылок.
Спешившись, он протащил велосипед через новенький блестящий турникет. Охранник в форменной рубашке, похожей на те, в которых щеголяют американские копы, придирчиво проверил у него пропуск, хотя знал Клима Голубева как облупленного, потому что жил на соседней улице. Голубев не роптал: таков был заведенный хозяевами порядок, нарушение которого могло стоить и ему и охраннику работы.
Очутившись на территории завода, Голубев снова оседлал велосипед и, кивая знакомым, покатил к производственному корпусу. Его длинная тень, кривляясь и приседая на неровностях почвы, беззвучно и неотступно скользила рядом. Лысые покрышки негромко шуршали, взметая с земли желтые листья, которых за ночь нанесло через забор с росшей на углу старой березы. Поднявшееся высоко солнце все так же ярко светило с безоблачного неба, и отполированные бока двух стоявших под разгрузкой автоцистерн в его лучах сверкали так, что было больно глазам. От виновозов к серебристой емкости хранилища тянулись длинные и толстые гофрированные шланги. Шланги заметно подрагивали; в чистом утреннем воздухе слышалось ровное гудение насосов и разносился аромат хорошего вина. Небритые, небрежно одетые дальнобойщики, щуря от яркого света усталые глаза, курили возле кабины одного из тягачей, рассеянно обмениваясь какими-то замечаниями. Номера на тягачах были французские, но, когда Клим Зиновьевич проезжал мимо, ушей его коснулся обрывок разговора, из коего явствовало, что водители родились и выросли на широких российских просторах. Конечно, научить ругаться матом можно и француза, и бельгийца, и папуаса, но истинно творческий, душевный подход к сквернословию свойствен лишь русскому человеку. Только русский человек может возвести сквернословие в степень высокого искусства.
Водители скользнули по Климу Зиновьевичу одинаково пустыми, невидящими взглядами. Короли больших дорог, рыцари международных трасс, повелители сверкающих динозавров смотрели сквозь него, словно он был сделан из пыльного оконного стекла. Он был для них никто – невзрачный провинциал верхом на облезлом дамском велосипеде, простой работяга, с которым даже не о чем поговорить. А полученное им когда-то высшее образование давно уже перестало служить Климу Голубеву плюсом даже в его собственных глазах, поскольку никакого толку от него не было и, главное, не предвиделось. Как сказали бы те же дальнобойщики, случись им узнать о его дипломе: «Если ты такой умный, почему не богатый?»
Голубев прислонил велосипед к стене производственного корпуса, отцепил от багажника замок и замкнул переднее колесо. Он знал, что с территории завода велосипед не украдут, и возился с замком исключительно в силу многолетней привычки. Сунув в карман ключ, он снял и отправил туда же бельевую прищепку, которая предохраняла его правую брючину от попадания между зубьями звездочки и звеньями велосипедной цепи.
В раздевалке, как всегда в начале и конце рабочей смены, было многолюдно. Полуодетые работяги здоровались с Климом Зиновьевичем за руку, отпускали дежурные остроты и замечания по поводу отличной погодки. Клима Зиновьевича привычно коробило это панибратство: все это тупое быдло, с превеликим трудом получившее аттестаты о среднем образовании, имело наглость держаться с ним, обладателем институтского диплома, на равных, а некоторые даже позволяли себе говорить покровительственно и с легким пренебрежением, свойственным работягам в отношении интеллигенции, неспособной самостоятельно заменить прокладку в подтекающем водопроводном кране.
Затягивая на груди молнию ярко-желтого с синими вставками рабочего комбинезона, Клим Зиновьевич еще раз мысленно перепроверил свои нехитрые расчеты. Впрочем, пересчитывать было нечего: две недели прошли, он убедился в этом еще накануне и трижды перепроверил все по календарю. Да, две недели истекли, а это означало, что долгожданный день настал.
Ровно в восемь часов по московскому времени Клим Зиновьевич Голубев занял свое рабочее место. Где-то в глубине освещенного люминесцентными лампами обширного помещения противно задребезжал звонок, громко щелкнуло реле, лента конвейера конвульсивно дернулась и пришла в движение. Рабочий день начался. Голубев отработанным до автоматизма движением вскрыл первую в этот день картонную коробку и начал одну за другой сноровисто вставлять в гнезда ленты пустые темно-зеленые бутылки с длинными, узкими, слегка искривленными для удобства наливающего горлышками.
Негромко позвякивая от мягких толчков направляющих роликов, бутылки длинной вереницей поползли к дозирующему автомату. Мимо прошел сменный мастер Егоров – бывший ученик Клима Зиновьевича, двоечник и лоботряс, так и не сумевший превзойти азы неорганической химии, не говоря уже о химии органической, а теперь волей обстоятельств сделавшийся начальником своего учителя. У Клима Зиновьевича были – или ему казалось, что были, – все основания считать Антона Егорова большой сволочью, однако, когда мастер приветственно кивнул, Голубев кивнул в ответ и даже заставил себя улыбнуться.
Убедившись, что отставной химик на месте и приступил к выполнению своих обязанностей, Егоров повернулся к нему спиной и двинулся дальше. Как только он скрылся из вида, Клим Зиновьевич извлек из кармана крошечный бумажный пакетик и со сноровкой, которая свидетельствовала о немалом опыте, высыпал содержимое в одну из только что установленных на конвейер бутылок.
Темно-зеленое, почти непрозрачное стекло надежно скрыло дело рук Голубева от посторонних взглядов. Слегка покачиваясь, бутылка поплыла по конвейеру, почти сразу затерявшись среди своих товарок. Она начала свой путь в отгороженный от простых смертных неприступной стеной наворованных денег, живущий по своим странным законам, сверкающий и недосягаемый мир толстосумов, которым ничего не стоит выложить несколько сот долларов за бутылку вина. Что ж, в добрый час! Они отобрали у Голубева все; Клим Голубев, в свою очередь, нашел способ отнять все у них – пусть не у всех, но хотя бы у некоторых. Мир людей, делающих покупки только в дорогих и престижных бутиках, уже полгода, сам того не ведая, играл в изобретенную никому не известным оператором конвейерной линии разновидность русской рулетки, и Клим Зиновьевич только что вложил в ее гигантский барабан очередной боевой патрон.
То обстоятельство, что он до сих пор ни разу не увидел плодов своих усилий, его нисколько не огорчало: в конце концов, сцены, которые рисовало ему воображение, наверняка были куда красочнее и ярче того, что происходило в действительности.
Руки Клима Голубева продолжали один за другим вскрывать картонные ящики и вставлять в гнезда конвейера пустые бутылки. Он действовал механически, как запрограммированный робот; заслоненные толстыми стеклами очков глаза его при этом были пустыми, обращенными вовнутрь, а на тонких бледных губах играла мечтательная улыбка.
* * *
У нее были глаза глубокого орехового оттенка и стройная, подтянутая фигура бывшей спортсменки. Одевалась она недорого, но со вкусом, держалась независимо и вместе с тем приветливо; она тонко шутила, очень мило и заразительно смеялась над чужими шутками и явно была не прочь приятно провести время в хорошей компании – что, собственно, и требовалось доказать. Обручальное кольцо на безымянном пальце ее правой руки отсутствовало, но Иван Ильич был достаточно опытен и мудр, чтобы не придавать этой детали значения. Какая разница, замужем она или нет, если обоим заранее ясно, что продолжения этой истории не предвидится?
– А вы кто? – спросила она, бросив на него снизу вверх быстрый, полный доброжелательного любопытства взгляд.
– Кто я? Что я? Только лишь мечтатель, синь очей утративший во мгле… – раздумчиво, с легкой грустью проговорил в ответ Иван Ильич.
Анна Адамовна улыбнулась, взяв его под руку.
– Что ж, – сказала она, – можно считать установленным, что Есенина вы читали. Но я спрашивала о вашей профессии.
– А вы? – с шутливой подозрительностью отстранился от нее полковник ГРУ Замятин. – Уж не налоговый ли инспектор? Нет, в самом деле, – дождавшись очередной улыбки, продолжал он, – какое значение имеет моя профессиональная деятельность?
– Мне просто любопытно, – сказала она. – В наше время нечасто встретишь человека с вашей внешностью, способного вспомнить и прочесть хотя бы одно стихотворение, не включенное в школьную программу.
Иван Ильич улыбнулся. Он прекрасно понял, что имела в виду спутница. Внешность у него была в высшей степени мужественная: широкий разворот плеч, гордая осанка, чеканный профиль с орлиным носом и волевым подбородком, густая копна волос, на висках густо посеребренных ранней сединой, – все это делало его похожим не столько на полковника Главного разведывательного управления, сколько на актера, играющего роль упомянутого полковника в кино. Только в кинобоевике, снятом в сказочной голливудской манере, сотрудник спецслужб может выглядеть как кинозвезда и, в сотый раз спасая мир, сыпать направо и налево цитатами из классиков мировой поэзии.
Полковник Замятин прекрасно знал, какое впечатление на женщин производит сочетание его героической внешности с чтением стихов, и умело этим пользовался. Знатоком поэзии он, разумеется, не являлся; познания его были ограничены полутора десятками тщательно подобранных стихотворений, и этого джентльменского набора, как правило, хватало с избытком: ему еще не доводилось встретить женщину, которую после более или менее продолжительного периода ухаживания стихи продолжали бы интересовать больше, чем постель. Ни одной из его пассий не удалось проверить глубину поэтических познаний Ивана Ильича – им на это просто не хватало времени, да и желания тоже. Ухаживал он красиво, в постели неизменно доставлял удовольствие не только себе, но и партнерше, никогда не давал невыполнимых обещаний, а главное, умел безошибочно выбрать именно ту, которая хотела того же, что и он, то есть короткого, ни к чему не обязывающего курортного романа. Профессиональному разведчику по долгу службы полагается быть хорошим психологом, так что осечек у полковника Замятина не случалось.
– Я не учитель русской литературы, если вы это имеете в виду, – шутливо заявил он. – Просто люблю на досуге полистать томик любимого поэта.
– Ваше счастье, – сказала Анна Адамовна. Она мягко отняла у него руку и, грациозно присев на корточки, подобрала с земли лимонно-желтый кленовый лист, присоединив его к красно-золотому букету, который успела собрать за время прогулки. – Представляю, какой ажиотаж начался бы среди старшеклассниц! О коллегах-педагогах я уже и не говорю…
– Пожалуй, вы правы, – согласился Замятин. – Такой жизни врагу не пожелаешь.
– Ну-ну, – с лукавой улыбкой произнесла Анна Адамовна, – полноте! По вашему виду не скажешь, что вы испытываете дефицит женского внимания. Или что оно вам неприятно.
– Может, поздно, может, слишком рано, и о чем не думал много лет, походить я стал на Дон-Жуана, как заправский ветреный поэт, – с уморительно серьезным видом сообщил ей Иван Ильич.
Живописная кленовая аллея, плавно изгибаясь, вывела их на пустую, густо засыпанную красно-золотой листвой террасу. Внизу, петляя и отливая на солнце холодным свинцовым блеском, неторопливо и плавно текла неширокая речка. Опустевшие поля на ее противоположном низком берегу были подернуты голубовато-серой дымкой, в прозрачном воздухе уже чувствовалось дыхание приближающихся холодов. Крапчатый красно-желтый лист сорвался с ветки, бесшумно спланировал вниз и, задев краешком плечо Ивана Ильича, упал на землю. Он был красивый, и Замятин, подобрав его, протянул Анне Адамовне. Какая-то мелкая пичуга, коротко пискнув, перепрыгнула с ветки на ветку, а потом, чего-то испугавшись, отчаянно работая крыльями, стремглав улетела за реку.
– Хотите, угадаю, кем вы работаете? – предложила женщина.
– Ну-ка, ну-ка! Даже любопытно.
– Вы, наверное, разведчик, – мечтательно, не то в шутку, не то всерьез, закатив глаза, сказала она. – Наш отечественный Джеймс Бонд. Отдыхаете здесь после того, как в очередной раз спасли мир. А может быть, наоборот, выполняете ответственное задание, а я нужна вам для прикрытия.
Конечно, она шутила – по крайней мере, процентов на семьдесят. Вежливо улыбаясь, Замятин подумал, что внешность кинематографического шпиона служила и продолжает служить ему отменным прикрытием: ни один сколько-нибудь знающий профессионал не поверит, что за столь вызывающе броской наружностью может скрываться именно то, на что данная наружность намекает. И даже если на полковника ГРУ Замятина падет подозрение, противник чисто подсознательно будет не склонен воспринимать его всерьез: профессионалы всех времен и народов пренебрежительно относятся ко всякого рода красавчикам, справедливо полагая, что более всего на свете их интересует собственная внешность, которая является их основным и чаще всего единственным достоинством.
– А может быть, я не отечественный, а как раз таки зарубежный Джеймс Бонд? – вкрадчиво предположил он. – И здесь вовсе не отдыхаю, а, наоборот, напряженно работаю, вербуя агентуру? Вы как, не против поработать подругой шпиона? Для прикрытия, а? Дорогие рестораны, шикарные авто, приемы в высшем свете, вечерние платья, бриллианты, никелированный браунинг с перламутровой рукояткой…
– Пуля в сердце и прощальный поцелуй в окровавленные губы в финале, – с улыбкой закончила она. – Честно говоря, я думала, такое бывает только в кино.
– Честно говоря, не знаю, – в тон ей откликнулся Иван Ильич. – На самом-то деле у меня довольно скучная профессия. Я – торговый представитель России за рубежом. Работа, бесспорно, солидная, уважаемая и недурно оплачиваемая, но, повторяю, неимоверно скучная.
Последнее заявление было почти правдивым: должность торгового представителя при российском посольстве много лет служила ему официальным прикрытием при выполнении разведывательных миссий в разных точках земного шара, так что уличить полковника Замятина во лжи не смог бы даже квалифицированный специалист в области внешней торговли.
– Скучная? – усомнилась Анна Адамовна. – Да ведь вы, верно, годами не вылезаете из заграничных командировок!
– Ну и что? Офисы, конференц-залы и гостиничные номера в наше время одинаковы повсюду, а на местную экзотику времени почти не остается. Кроме того, вся эта экзотика довольно быстро приедается. Допускаю, это всего лишь мое личное впечатление. Возможно, я просто скучный человек, но пословица «Где родился, там и сгодился» – это про меня.
Со стороны реки вдруг потянуло острым, холодным ветром. Поредевшие кроны старых кленов и лип глухо зашумели, осыпав террасу шуршащим дождем желтой и багряной листвы. Анна Адамовна зябко поежилась и, плотнее прильнув к плечу Замятина, запахнула у горла воротник легкого пальто.
– Вернемся? – предложил полковник.
– Пожалуй, – согласилась она.
Подмосковный дом отдыха «Рябинка» когда-то имел статус правительственного. С тех пор утекло много воды, но от перемены владельцев «Рябинка» только выиграла, превратившись в тихое, уютное, предельно комфортабельное, истинно райское местечко. Здесь отдыхали, приводя в порядок потрепанные нервы, воротилы бизнеса, чиновники, шоумены – словом, все, кому был дорог «серенький ситец бедных северных небес» и кто мог себе позволить приобрести путевку в «Рябинку». К числу этих ностальгирующих господ, пресытившихся красотами тропиков, с некоторых пор относился и полковник ГРУ Замятин. За последние пять лет он стал здесь постоянным клиентом, не реже раза в год проводя в «Рябинке» десять-двенадцать дней и частенько, когда находился в России, наведываясь сюда на выходные.
Около восьми лет назад Иван Ильич овдовел. К тому времени он уже имел ряд неоспоримых заслуг перед Родиной и был на хорошем счету в управлении, так что ставить его продвижение по службе в зависимость от новой женитьбы начальство не сочло необходимым. Это было очень кстати: с покойной женой Замятин жил не то чтобы плохо, но накопленный за пятнадцать лет супружества опыт семейной жизни надежно удерживал его от новых экспериментов. Практически постоянно находясь в разъездах, он не имел налаженного быта, который надо было поддерживать, а в плане межполового общения его вполне удовлетворяли непродолжительные, но частые случайные романы, которые при его внешности и манерах практически не требовали от полковника усилий.
Просторный, со вкусом обставленный номер, который Иван Ильич занимал всякий раз, когда наведывался в «Рябинку», располагался на четвертом, самом верхнем этаже старого здания. Из широкого панорамного окна поверх крон парковых деревьев открывался вид на реку и заливные луга на другом ее берегу. Этот неброский пейзаж в любое время года дышал таким покоем, что Иван Ильич, когда не спал и не был занят охмурением очередной дамочки, часами просиживал в глубоком кресле перед окном – курил, потягивал коньяк и размышлял о всякой всячине, как правило не имеющей никакого отношения к сфере его профессиональных интересов.
Сейчас в любимом кресле полковника расположилась гостья. Плотная ткань пальто больше не скрывала ее великолепно сохранившейся фигуры, а положенные одна на другую ноги выглядели в высшей степени соблазнительно. Анна Адамовна была дамой бальзаковского возраста: Иван Ильич редко останавливал свой выбор на молоденьких девицах, которые в подавляющем своем большинстве сочетали красоту и свежесть юной плоти с куриными мозгами и рефлексами голодного аллигатора. Охотники за малолетками просто покупают по сходной цене сомнительное (ввиду неопытности партнерш) плотское удовольствие; для Ивана Ильича Замятина секс без приятного общения мало чем отличался от упражнений с надувной куклой, и он неизменно останавливал свой выбор на зрелых, опытных и неглупых женщинах, которые искали в нем не покупателя, а партнера.
На низком журнальном столике перед Анной Адамовной красовался стандартный в подобных ситуациях набор: букет роз, ваза с фруктами, коробка шоколада, а также пузатая бутылка темного стекла с длинным, узким, слегка искривленным горлышком и неброской, словно бы поблекшей от времени двухцветной этикеткой, которая как будто намекала на то, что содержащийся в данном сосуде продукт не нуждается в рекламе. Вино было, разумеется, не самое дорогое из тех, какие теперь можно приобрести на российских широтах, но и полковник ГРУ Замятин не числился в олигархах, чтобы выбрасывать тысячи долларов за бутылку вина только ради того, чтобы произвести впечатление на случайную знакомую. Вино было дорогое, купленное в хорошем специализированном магазине на Новом Арбате; впервые его попробовав, предпочитавший всем иным напиткам коньяк или, в крайнем случае, водку Иван Ильич нашел данный продукт весьма недурным и взял на вооружение.







