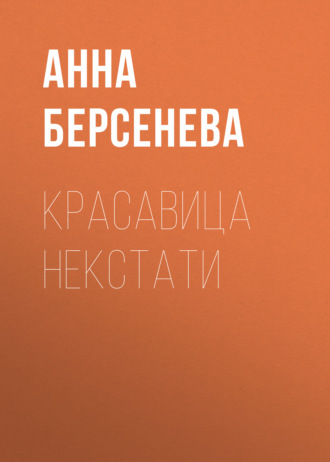
Анна Берсенева
Красавица некстати
Глава 11
– Знаешь, Вер, мне кажется, им вообще нельзя в любви признаваться.
Алинка дернула острым плечиком и даже носом шмыгнула – видимо, от уверенности в своей правоте.
– Что значит – признаваться? – усмехнулась Вера. – Рыдать от переизбытка чувств, конечно, не стоит.
– Про рыдать вообще речи нет, – махнула рукой Алинка. – Но и ничего нельзя. Мужчины не должны даже догадываться, что их любят. Они от нашей любви киснут, как молоко на солнце. И перестают нас ценить. Неужели не замечала?
Вера это, конечно, замечала. Не то чтобы у нее скопился большой материал подобных наблюдений. Но и того, что она узнала замужем, было вполне достаточно. Теперь, оглядываясь на прожитые с Димой годы, она ясно видела ту границу своих с ним отношений, после которой он вот именно скис и стал относиться к ее присутствию в его жизни как к чему-то само собой разумеющемуся. Но согласиться с Алинкой в том, что это качество присуще всем мужчинам, она все-таки была не готова. А как же тогда Кирилл? От него-то она своих чувств не скрывает, но он ведь все равно ее ценит. Правда, она и ни разу не сказала ему о своих чувствах… Но разве для того, чтобы мужчина это понял, надо все называть словами?
– Ничего я про это не понимаю, – вздохнула она.
– А должна понимать, – наставительно заявила Алинка. – Иначе потеряешь своего миллионера. Или он у тебя миллиардер?
– Понятия не имею! – засмеялась Вера. – Я у него финансового отчета не требую.
– А у меня, – сразу вспомнила о своем Алинка, – постоянно финансовый отчет требуют. Кажется, только что годовой сдала – уже, бац, опять квартальный на носу!
Алинка была финансовым директором школы «Инглиш форевер», где Вера вот уже полгода работала преподавателем. Школа эта появилась в Москве недавно, но была очень солидная – настоящая английская, с историей, с сетью филиалов по всему миру, и владел ею британский сэр, которому она перешла по наследству. Вера даже удивилась, что ее взяли сюда на работу с таким перерывом в стаже, который образовался у нее, пока она мыла подъезды да пересказывала своими словами корявые авторские тексты для журнала «Индивидуальное предпринимательство». Но директор школы Владилен Максимович сказал, что испытательный срок она прошла блестяще, и дал ей приличную ставку.
Директор этот с самого начала показался Вере интересной фигурой. Он выглядел так рафинированно, что, разговаривая с ним, она с трудом сдерживала улыбку. Но при этом Владилен прекрасно владел искусством руководства людьми. И, что особенно обрадовало Веру, его представления об этом искусстве были прямо противоположны представлениям Аглаи Звон. Ежеминутно давать подчиненным понять, что все они ничто и звать их никак, – этого у него в заведении не было. Он знал другие способы не позволять людям садиться себе на голову и с успехом применял эти способы в руководстве школой.
– Мне особенно понравилось, Вера, – сказал он, сообщая, что решил взять ее на постоянную должность, – что в день знакомства вы не спросили, сколько будете получать. Причем я сразу понял, что вы не спросили об этом не от избытка денег, а лишь потому, что правильно понимаете: это не первый вопрос, который следует задавать, устраиваясь на работу.
«Почему это он понял, что у меня не избыток денег? – подумала Вера. – Вроде бы одета вполне прилично».
Но ни подтверждать его догадку, ни возражать ему она не стала, только мило улыбнулась. Владилен тут же улыбнулся ей в ответ и продолжил свою мысль:
– Когда человек на третьей минуте собеседования спрашивает: «А сколько я буду получать?» – я сразу понимаю, что имею дело с неисправимым совком. И сразу спрашиваю его: «А что вы будете делать?»
– И что он вам говорит? – спросила Вера.
Этот практикум руководителя очень ее заинтересовал.
– Обычно он говорит: «Я буду у вас работать», – сказал Владилен. – А я ему на это немедленно отвечаю: «Я буду вам платить». Нет, ну сами подумайте! Что значит работать? Что именно вы умеете, какова ваша квалификация, какая репутация у вас сложится, будут ли к вам стремиться ученики? Я же не могу назначить зарплату раньше, чем все это станет мне понятно! А в ваших замечательных качествах я уже убедился, – приятно улыбнулся он, завершая разговор. – Успешной работы, Вера.
И Вера стала работать, и работа ее была успешной.
Кроме того, она сразу перезнакомилась со всеми сотрудниками «Инглиш форевер», а с финансовым директором Алинкой Риджинской еще и подружилась. Вера даже удивлялась такой своей общительности. То есть, конечно, она никогда не была мизантропом, но общение с коллегами по «Индивидуальному предпринимательству» не доставляло ей ни малейшего удовольствия. Надо было пристойно вести себя с людьми, которых видишь каждый день, и она вела себя как положено, но и только. Такого, чтобы ей захотелось посидеть с кем-нибудь после работы в кофейне и поговорить о любви, вот как сейчас с Алинкой, на прежней работе она и представить себе не могла.
Видимо, общее настроение влияло на все проявления жизни. И настроение, охватившее Веру с момента знакомства с Кириллом, разбудило в ней интерес к миру и людям, который она считала уже утраченным.
Алинка же вообще казалась Вере личностью выдающейся – она просто любовалась ею. Внешность у Алинки была самая обыкновенная, даже, пожалуй, невыразительная: носик острый, глаза небольшие, близко поставленные, неопределенного серо-голубоватого цвета… И уши у нее были оттопырены, и рост невелик. Но держалась Алинка при этом так, как будто была бесспорной красоткой. И, самое поразительное, все мужчины, которые становились объектами даже мимолетного ее внимания, именно таковою ее и считали!
Вот хоть сейчас: стоило ей только углядеть за соседним столиком симпатичного, как она его назвала, мужчинку, и пожалуйста, он тут же оживился и стал бросать в ее сторону заинтересованные взгляды.
Алинке, впрочем, было не до него: она рассказывала Вере о своем только что завершившемся отдыхе в Италии.
– Шопинг там, ничего не скажу, насыщенный, – сообщала она. – Но цены – не прислониться! А я люблю, чтобы все было по пятьдесят евро. Ну ты скажи, разве сумка по сути своей может больше стоить? Она же сумка, а не авто! Нет, за понты пускай дураки платят. Так что я себе не очень-то и много прикупила. В один чемодан все уместилось. – И тут же вспомнила особенно яркое впечатление: – Ой, Вер, представляешь, пошли мы с девчонками на дискотеку. Ну, я там с девчонками познакомилась, две из Челябинска, одна из Киева и наша, московская. Прихожу, смотрю – мама дорогая! Вырядились, как тургеневские девушки. И стоят у стеночки – ждут, видимо, когда им Шуберта сыграют. Я им: девки, вы что? На дискотеку надо одеваться, чтобы одна часть тела была голая, а все другие сильно обтянутые. Тогда и от мужиков отбою не будет, и веселье пойдет!
Вера не выдержала и расхохоталась. С того момента, как она начала работать в «Инглиш форевер», уроки жизни сыпались на нее, словно из рога изобилия!
– А что ты смеешься? – Алинка скорчила смешную рожицу; Вера снова фыркнула. – Чистая правда.
– Чистая, – кивнула Вера. И добавила: – Весело с тобой. Даже жалко, что домой пора.
– Да вообще-то… – Алинка тоже взглянула на часы. – Сейчас мобильник включу.
– А зачем ты выключала? – не поняла Вера.
– А чтобы супруг не доставал. Он вчера простудился, на работу не пошел. Ну, ты же представляешь, что такое мужик с температурой тридцать семь и три. Ему же уже кажется, что он умирает. А я, соответственно, должна сутки напролет сидеть у его смертного ложа.
Она включила телефон, и он в самом деле немедленно разразился бодрой мелодией. Пока Алинка воркующим голосом объясняла супругу, что она стоит в пробке, сколько еще будет стоять, неизвестно, а что телефон не работал, так это она проезжала мимо здания ГРУ, в котором, всем известно, установлены ужасные глушилки, – Вера рассеянно смотрела в сияющее огромное окно на блестящую летними лужами улицу, и в голове у нее кружилась не вполне ясная, даже какая-то опасливая мысль.
«А если бы Кирилл заболел? – думала она. – Стал бы он звонить каждые пять минут? Хотел бы, чтобы я сидела у его кровати? А я? Я этого хотела бы?»
Нет, в том, что она стала бы сидеть у кровати Кирилла, если бы в этом, не дай бог, возникла необходимость, Вера не сомневалась. Но вот в том, что близость между ними так сильна, что это действительно было бы необходимо и ему, и ей, – в этом она сомневалась очень. И именно эта мысль неясно встревожила ее, вызвала опасливое недоумение.
Чем было ее чувство к Кириллу? Любовью? Вера вдруг поняла: да ведь она просто не знает, что это, собственно, такое, любовь. Было ли любовью то, что заставило ее когда-то выйти замуж за Диму? Ох, как она теперь в этом сомневалась! Так – возникло некоторое душевное оживление от того, что в ее жизни появился ухажер с серьезными намерениями. Оживление нарастало с каждым днем Диминого ухажерства и наконец стало таким сильным, что его и мудрено было не принять за любовь. Но вряд ли оно ею было…
Несколько мимолетных связей до замужества вообще были не в счет: любви в них не было и помину, это знала и Вера, и ее кратковременные мужчины.
Те часы, которые она провела с Алексеем Гайдамаком, Вера тоже не считала любовью. Она боялась вспоминать эти часы – они были слишком накалены, слишком непонятны и страшны по сути того, что с нею тогда произошло. Да и слишком давно все это было. Так давно, что как будто бы и не с нею.
И вот теперь она вдруг поняла, что не знает, чем же являются ее ровные, приятные отношения с Кириллом. Вера даже вздрогнула, настолько не по себе ей стало от этого, так странно пришедшего, понимания.
– Между прочим, Вер, почему тебе твой миллионер машину не купит? – спросила Алинка.
– Мне и брат сто раз предлагал, – пожала плечами Вера.
– Брата, наверное, в лишние расходы вводить не хочешь, – проницательно заметила Алинка. – С невесткой проблемы, да? Плавали, знаем. Ну и не надо, чтобы брат. А мужчинка пусть покупает.
– Я об этом как-то не думала, – сказала Вера.
– Почему? Боишься, что ли, машину водить?
– Не то что боюсь, но такие пробки везде. На метро быстрее.
– Пробки в Москве – объективная реальность, – наставительно сказала Алинка. – Они теперь будут всегда. Во всяком случае, на наш век хватит. Так что это не повод душиться в метро. И что тебе пробка? Она себе стоит, а ты себе в красивенькой машинке сидишь, музычку слушаешь, по телефону болтаешь, глазки подмазываешь. Поди, лучше, чем под землей с бомжами.
– Ну, в метро не только бомжи ездят, – улыбнулась Вера.
– Приличного мужчину там уже не встретишь, – заявила Алинка. – Разве что студента, так они нам без надобности. А которые постарше и приличные, давно за руль пересели, или вообще шофер их возит. Ты, кстати, обратила внимание, что в метро детей мелких практически не стало? А возить же их туда-сюда – ну, в поликлинику там, в кукольный театр какой-нибудь – не перестали. И о чем это говорит? Что нормальные родители считают: метро для детей неподходящее место. А себя мы должны холить и лелеять не меньше, чем детей, – заключила она. – Так что не сомневайся, Вер. Намекни кавалеру, что хочешь машинку. Судя по тому, что ты о нем рассказывала, возражений у него не возникнет.
В этом Вера тоже была уверена. Но ее так встревожила неожиданная и неясная мысль о собственном отношении к Кириллу, что простая и здравая мысль о машине не могла сейчас затронуть ее сознание. Она даже почти не поддерживала разговор, пока провожала Алинку до ее машины, нежно-зеленого новенького «Пежо».
Правда, Алинка не сразу заметила, что ее собеседница вдруг притихла. Она рассказывала о сумке, которую все-таки выискала за пятьдесят евро в Милане, притом в шикарном бутике на распродаже, о какой-то жутко модной книжке, которую написала обыкновенная офисная дамочка, но там такие страсти, такие страсти, Достоевский отдыхает. Потом она как-то незаметно перешла к разговору о том, как должна предохраняться современная женщина, и сообщила, что один очень толковый врач посоветовал ей «Мирену».
– Контрацепция без забот. Один визит к гинекологу, и пять лет никаких проблем. К тому же и критические дни протекают намного легче. Представляешь?
Тут Алинка наконец заметила Верин рассеянный вид и, наверное, чтобы ее порадовать, заговорила о том, что скоро во всех школах «Инглиш форевер», то есть во всем мире, ожидается повышение зарплаты.
– Если так и дальше пойдет, – засмеялась она, сообщив эту новость, – ты себе еще и сама машину купишь, без спонсора. Не «мерс», конечно, но на «корейку» хватит.
– По всему миру одновременно зарплату повысят? – спросила Вера.
Она спохватилась, что молчать все-таки неудобно. Но и болтать на темы любви ей тоже уже не хотелось. Поэтому практический вопрос оказался очень кстати.
– Ну да, – кивнула Алинка. – Мы же мировая сеть. Даже те школы, которые по франшизе работают, все-таки в общую дудку дуют. Знаешь, что такое франшиза?
Что такое франшиза, Вера, конечно, знала. Зря, что ли, два года отсидела в «Индивидуальном предпринимательстве»? И то, что бизнесмены, купившие франшизу у крупной компании, обязуются соблюдать в своей самостоятельной работе общие правила этой компании, она знала тоже.
– Я думала, это только к методикам относится, – заметила она.
– Не только, – объяснила Алинка. – Вот я недавно в командировку ездила, ростовскую нашу школу проверяла. Ее одной дамочке муж на день рожденья подарил. Чтобы она делом занялась. Между прочим, это правильно, – заметила она. – Салоны красоты женам все дарят, это уже не фокус. А английская школа – культурно, солидно, респектабельно. Да, так я у этой бизнес-леди всю отчетность проверяла.
– Но почему? – не поняла Вера.
– Потому что уровень должен сохраняться. Мы же не можем допустить, чтобы под нашей маркой какие-нибудь облезлые парты фигурировали. Положено, чтобы все путем: мебель определенной ценовой категории и даже определенных цветов, зарплата на высоте, компьютеры. В общем, пришлось дамочке попотеть, пока все наладила, – засмеялась Алинка. – Зато теперь она в Ростове самая уважаемая бизнес-леди.
– Интересно, – сказала Вера. – Я не знала.
В действительности же это было ей сейчас совсем неинтересно. Просто она умела держаться так, как считала нужным. Поэтому даже проницательная Алинка не заметила неискренности ее тона.
– А просто ты сама интересная, Вер, – заметила Алинка. – Потому тебе все интересно. Необычная ты какая-то. – И добавила удивленно: – А в чем, даже я не понимаю. И работаешь так, что воздух вокруг тебя звенит. Нет, ей-богу! – горячо закивала она, заметив, что Вера улыбнулась. – Ты себя, по-моему, не очень-то знаешь. Ни насчет работы, ни вообще.
– Может, не очень, – задумчиво сказала Вера. – Но что-то ведь знаю…
Глава 12
– Конечно, самое ужасное в нашем положении, – сказал Иннокентий, – это невозможность быть на фронте. Согласитесь, Игнат Михайлович, во время войны для мужчины это унизительно и просто неприлично. – И добавил с горечью: – Вряд ли я сумею простить им это. Я не настолько проникнут христианской моралью.
Игнат промолчал. По своей привычке говорить прямо обо всем, что его волнует, Иннокентий даже не заметил, что его слова не просто тяжелы, а мучительны для собеседника. Как болезненный упрек.
Впрочем, сердиться за них на Иннокентия было невозможно. И не из христианской снисходительности к человеческим слабостям. Слабость Иннокентия была уже нечеловеческой – с каждым днем она все более становилась слабостью в прямом, страшном смысле этого слова: он умирал. Может быть, туберкулез в такой же срок проявился бы и на самой легкой работе, и в теплушке, и в тюремной камере; установить это было теперь невозможно. Но после месяца работы на лесоповале болезнь эта не просто проявилась, а сразила Иннокентия напрочь.
И вот теперь он умирал в лагерном лазарете. Это было очевидно не только для Игната, который заходил проведать его после работы, но и для него самого.
И весь он был в том, чтобы, находясь в нескольких шагах от смерти, сокрушаться о неприличии своего невоенного положения.
– Что же неприличного, Иннокентий Платонович? – сказал Игнат. – Вам теперь не воевать, а выздороветь надо. Успеете, навоюетесь еще. Не может же быть, чтобы они совсем ничего не соображали. На фронте люди понадобятся, вспомнят и про нас. Мы ведь не из последних…
Последние слова он произнес с такой глухой тоской, которой, как ни старался, не сумел удержать. Конечно, Иннокентий был прав! Большего унижения, чем теперь, Игнат не переживал никогда. Даже во время ночных допросов на Лубянке, когда чувствовал себя не человеком, а какой-то галлюцинирующей от бессонницы, размазанной по полу сапогами субстанцией. Даже во время этапа, когда им по нескольку дней не давали воды и приходилось сосать намерзшие на стенах теплушки, черные от копоти и грязи сосульки, которых на всех не хватало и за каждую из которых могли поэтому убить.
Невозможность делать то, что положено делать мужчине, когда идет война, была страшнее.
Но обсуждать это с Иннокентием было бы сейчас жестоко.
– О вас непременно вспомнят, я уверен, – кивнул Иннокентий. – Даже насколько я, совершенный дилетант в инженерном деле, могу судить, вы прекрасный специалист. Так что не изводите себя, Игнат Михайлович, – улыбнулся он. – Будет и на вашей улице праздник.
– На нашей, – поправил Игнат. – На нашей улице он будет.
Иннокентий не ответил. В комнате установилась тишина. Это была не обычная палата, а изолятор, и Иннокентий лежал здесь один. Конечно, эта привилегия была ему дана не из заботы о его здоровье, а лишь потому, что лагерное начальство не хотело возиться с большим числом туберкулезников, а потому старалось изолировать их в последний, самый тяжелый период болезни. Обычно этот период оказывался недолгим, смертники сменяли друг друга в изоляторе часто и особых хлопот, таким образом, не доставляли.
Игната, разумеется, не должны были бы сюда пускать из соображений этой же самой лагерной целесообразности. Но он отдавал санитару махорку из своей пайки, и тот позволял ему заражаться туберкулезом сколько угодно.
Лицо Иннокентия выделялось на серой лазаретской подушке такой смертной синевой, что непонятно было, откуда он берет силы, чтобы говорить. Игнат и не стал бы донимать его разговорами, но Иннокентий так радовался его появлению и так охотно разговаривал с ним сам, что было бы отвратительным ханжеством удерживать его от этого ради какой-то мифической экономии сил. Понятно же, что экономить их уже незачем.
Иннокентию это было понятно тоже.
– Да, наверное, – кивнул он. – Даже безусловно, будет праздник и на моей улице. И, знаете… – Его глаза блеснули каким-то детским блеском. – Мне чрезвычайно любопытно узнать, каков он будет… Но не стоит об этом, – оборвал он себя. – Расскажите что-нибудь, Игнат Михайлович, – попросил Иннокентий. И тут же спохватился: – Если, конечно, вас это не слишком затруднит.
– С чего это меня затруднит? – пожал плечами Игнат.
– Ведь вы страшно устали за день, – печально сказал Иннокентий. – Я это прекрасно понимаю. Вы не можете себе представить, как я вам благодарен за то, что вы здесь. – Виноватая улыбка как тень тронула его губы. – Видите, я так и не сумел избавиться от эгоизма.
«Эгоизм! – с тоской подумал Игнат. – Да если б не ты, совсем бы хоть в петлю».
А вслух сказал:
– Что же рассказать, Иннокентий Платонович?
– Да что угодно! – В голосе Иннокентия на мгновенье возникло то же детское любопытство, которое только что блеснуло во взгляде. – Вы необыкновенный рассказчик, знаете вы об этом?
– Так-таки необыкновенный! – хмыкнул Игнат.
– Именно необыкновенный! – со всей горячностью, на какую у него достало сил, подтвердил Иннокентий. – Конечно, вы не говорливы. Но это же вот именно оттого, что не страдаете пустым словоблудием. От внутренней содержательности! И это же ваше качество позволяет вам быть интереснейшим рассказчиком. Потому что вы говорите только о главных вещах.
В его словах не было ни грана лести. Он всегда говорил только то, что думал. Но голос его становился все тише, дыхание – все затрудненнее. И лучше было бы, чтобы он отдохнул сейчас молча.
– Расскажите… о вашем детстве, – словно прорываясь сквозь это свое затрудненное дыхание, проговорил Иннокентий. – Как интересно было бы… составить ваше генеалогическое древо… Наверное, обнаружилось бы родство… с вашим знаменитым земляком…
Он закрыл глаза и затих, но по лицу его Игнат видел, что он слушает внимательно.
– Родство-то, может, и есть, только дальнее очень, – сказал Игнат. – Ломоносовых по всему Поморью немало. У нас в Колежме, кроме нашей, две семьи еще было.
– Большие семьи? – не открывая глаз, спросил Иннокентий.
– У нас семьи почти все малые. Из практических соображений, – усмехнулся Игнат. – Близко к морю мы сели, хлеб не родится. К весне совсем не остается, как ни запасай. А одной рыбой сыт не будешь. Да и не засолишь ее много: соль-то дорогая. И как тут чужую ораву кормить? Племянников, стариков… Ну, каждый своим домом и живет. Такого, чтобы все братья, да с семьями еще, под одной крышей жили, совсем не заведено. Бабушка моя, помню, говорила: «Задвённая наша сторона. Только море нам на радость Господь в ней пролиял. И всегда-то оно душе мило. Летом, в вёдро, любить его не диво. А и когда по осени ветра падут, и колышень по нему ходит, и все оно зыбит, и нет ему ни днем ни ночью покою – и тогда по сердцу оно. Это морюшко чистоту свою так блюдет – бревна, щепу, никакую дрянь в себе держать не хочет, все на берег мечет».
Игнат улыбнулся – обрадовался, что не забыл эти похожие на сказку слова, сам этот живой говор.
– Красиво… – не открывая глаз, чуть слышно проговорил Иннокентий. – Чудесная речь… Я думаю, у вас там и люди красивые. Если судить по вас…
– У нас женщины красивые, – сказал Игнат. – Именно в нашей деревне, в Колежме. И почему так, непонятно. К нам весь Онежский берег за невестами ездил, из Мезени заезжали, с Летнего берега тоже. Осенью придут парни с промысла, с Мурмана, и давай жениться. Неделями свадьбы гуляли!
– Вы, наверное, с детства работать привыкли, – с детским же восхищением произнес Иннокентий. Он даже глаза открыл, и в глазах у него это чистое восхищение проступило еще отчетливее, чем в голосе. – Я успел это понять на лесоповале.
– Да здесь-то что ж за работа? – усмехнулся Игнат. – Деваться некуда, вот и работаешь. Руки привыкли, это правда. С четырнадцати лет на промысел ходил. Рыбы в Белом море много. Сельдь особенная, такой нигде больше нет, и столько ее бывает, что весло в воде стоит, будто дерево в земле. Семга есть, камбала, навага, кумжа.
– Кумжа – это ведь какое-то местное название? – спросил Иннокентий. – Возможно, по описанию я узнал бы ее.
– Форель это, – сказал Игнат. – Крупная форель. Она вообще-то в реках водится, но и в море тоже заходит. Ну, и белуху били. Это уже считается зверь. Не кожный, как нерпа, а сальный.
– Белуха из семейства дельфиновых, – чуть заметно кивнул Иннокентий. – Такая она необычная, просто очень неожиданное существо! Знаете, когда я в детстве разглядывал картинки в книгах Брема, она почему-то казалась мне похожей на пингвина. Но ведь белуха шести метров в длину достигает, и ловить ее, я думаю, должно быть, опасно. В четырнадцать лет…
– У нас к этому по-другому относились, – улыбнулся Игнат. – Дал Бог с детства силу, значит, с детства и работай. Да и какое в четырнадцать лет детство? Отец в море погиб, когда мне десять было, я у матери старший остался – сестра к тому времени уже к мужу ушла. И младшие еще, двойняшки, по три года им. Тогда, конечно, тяжело было. А в четырнадцать уже ничего – в силу вошел, к работе привык.
– Странно, что вы решили уехать в Москву, – сказал Иннокентий. – Ведь вы просто так сначала приехали, не на учебу?
– На заработки приехал, – кивнул Игнат. – А странного ничего в этом нет. Сестра овдовела, да как еще овдовела – дом сгорел, муж на пожаре погиб. С двумя детьми малыми к нам вернулась, третьим брюхата. А во время родов несчастье с ней. – Иннокентий молчал, однако Игнат догадался: он хочет спросить, какое именно несчастье случилось с его сестрой, но находит такой вопрос бестактным. – Молоко ей в голову бросилось, – объяснил он. – От стыда.
– Как от стыда? – не понял Иннокентий.
– Так в деревне говорили. К врачам-то, конечно, не возили ее. Бабка-повитуха, что роды принимала, решила почему-то, будто ребенок у нее уродливый. Будто голова у него песья, лохматая. Бред, в общем. Но повитуха, как только головку увидала, давай голосить: ой, люди добрые, да собаку баба рожает, да за что ж сердешную Господь покарал… Дура старая! – зло добавил Игнат. – Ну, сестре стыдно стало, страшно: урода родила, что теперь будет? Умом она повредилась от этого. И замуж больше не брали, и в дому не помощница стала.
– А ребенок? – спросил Иннокентий. – Он в самом деле родился нездоровым?
– Да нет, здоровый. От одной своей дурости бабка сестрину жизнь угробила. В общем, если б еще и я дома остался, с голоду бы все померли, – сказал Игнат. И объяснил: – По прежним временам, конечно, нет: прежде-то рыбу продавали и все, что нужно, покупали, хоть в России, хоть в Норвегии – туда много лодей наших ходило. А после революции вся торговля разладилась. Как в других местах у крестьян зерно реквизировали, так у нас рыбу. Всю отнимали, до последнего хвоста. И живи, как можешь, а не можешь, так не живи. Сначала мать на заработки подалась. У нас в шестнадцатом году летом этнографы жили, москвичи, муж и жена. Сказки поморские собирали, песни, поговорки разные. Вот жена-то, Александра Никитична, и пригласила ее приехать. Если у вас, говорит, Матрена Тимофеевна, будет нужда в деньгах, мы вас всегда с радостью в свой дом возьмем кухаркой. Мать в восемнадцатом году и поехала. В белый свет поехала, ничего, кроме бумажки с адресом, не имея. Поезда в глаза никогда не видала – и сразу в Москву, не в Мурманск даже, не в Архангельск. А что было делать? Я на промысле, раньше ноября не вернусь, и с чем еще вернусь, непонятно. Катерина не в себе – младенца кормит, а больше ничего делать не может, улыбается только. Ну, мать самовар продала, дом да сестру с детьми на Ваньку с Манькой оставила, на двойняшек девятилетних, и поехала.
– Она у вас, наверное, сильная женщина, – тихо сказал Иннокентий.
Рассказ Игната так взволновал его, что словно бы даже добавил сил. Во всяком случае, синева сошла с лица, оно стало просто бледным, и алые пятна проступили на щеках. Хотя, конечно, не от здоровья…
– Я не помню в ней какой-то… Никакой, знаете, видимой силы, – сказал Игнат. – Даже наоборот. Она тихая была, богомольная. Но необходимость сама по себе страшная сила, кого угодно с места сдвинет.
– И что же, устроилась она в Москве? – спросил Иннокентий.
– Не повезло ей. Счастье, конечно, что живая добралась. Знаете, наверное, что на железных дорогах в восемнадцатом году творилось. Месяц она ехала, чуть с голоду не померла, от заградотряда еле вырвалась. В Москве кое-как дом нашла, который в бумажке значился. А квартира опечатана. Соседи сказали: хозяев ЧК забрала, и уноси-ка ты, баба, ноги, пока цела. А ее уж и ноги не держат, после такого-то пути. Вышла на улицу, они и подкосились. Так и померла бы под забором.
– Но что? – взволнованно спросил Иннокентий. – Но что случилось? Ох, Игнат Михайлович, вы так рассказываете, что хочется верить в чудо!
– Чудо и случилось, – улыбнулся Игнат.
Ему и самому доставляло радость преображение, которое произошло с ним во время этого рассказа. Он во всем его слышал, это преображение: в простоте речи, от которой давно отвык за двадцать лет, проведенных в Москве и за границей, в свежести чувств, догоняющих воспоминания… Он подкрутил фитиль керосиновой лампы, и комната осветилась ярче.
– Какое чудо? – удивился Иннокентий.
Глаза его тоже заблестели ярче, словно бы и не от света лампы, а от какого-то неведомого счастья.
– Простое. Ее девочка подобрала, – сказал Игнат. – Обыкновенная девочка.
И тут он вспомнил эту девочку – нежный абрис ее лица, словно выведенный тонкой кистью по фарфору, и прозрачную легкость рук, и трепетность каждого движения, – и сердце у него сжалось. Конечно, Ксения никогда не была обыкновенной девочкой – ни в тот кромешный зимний вечер, когда, сбросив в снег драгоценные дрова, положила его мать на санки и отвезла к себе домой, ни три года спустя, когда он ночью, не догадываясь о существовании звонка, колотил кулаком в дверь квартиры в жутком, огромном московском доме со странным названием «Марсель», и вдруг дверь распахнулась, и она появилась на пороге, и ему показалось, это не девушка стоит перед ним, а лунный луч трепещет на глади моря… Какая угодно она была, только не обыкновенная!
– Обыкновенная девочка, – сглотнув вставший в горле ком, повторил Игнат. Все связанное с Ксенией невозможно было объяснить даже Иннокентию. Это было необъяснимо. – Семнадцать ей тогда было. С бабушкой жила в московской коммуналке. Они мать на полгода у себя оставили, чтобы в ум пришла – горячка у нее началась. Ну, и по хозяйству она им помогала, когда выздоровела. Хотя какое у них было хозяйство – две фарфоровые чашки… Они и сами в Москве на птичьих правах жили. Да вот приютили чужую бабу. Потом мать домой вернулась. А потом уж, когда в Колежме совсем невмоготу стало, меня в Москву и направила. Я у Иорданских – это Ксении с бабушкой фамилия была, Иорданские, – долго жил, даже когда на стройку уже нанялся. А потом…
– Игнат Михайлович, – тихо сказал Иннокентий, – вы можете не рассказывать об этом. Я же вижу, вам почему-то тяжелы эти воспоминания.
– Да, – помолчав, сказал Игнат. – Лучше не буду. Тяжелы.
– Как бы я хотел вам помочь… – печально выдохнул Иннокентий. – Как невыносимо сознавать, что вы достойны самой лучшей участи, и ничего не мочь сделать для того, чтобы вам ее доставить! Как…
И тут он вдруг замолчал, словно в горло ему попало что-то острое, и тут же лицо его посинело снова, глаза расширились – и рвущий внутренности кашель сотряс его так сильно, что задрожала, мелко колотя ножками об пол, железная кровать.
Игнат бросился к Иннокентию, подхватил его под плечи, приподнял над подушкой. Ему почему-то казалось, что в таком положении кашель будет для Иннокентия не таким мучительным. Но кашель все равно сводил судорогой все его невесомое тело, отдавался болью в каждой кости… Игнату казалось, что этот жуткий кашель не кончится никогда.
Но он кончился – кровь хлынула у Иннокентия горлом, заливая серую рубаху на груди.
И ничего нельзя было с этим поделать, и некого было звать – во всем этом кромешном лазарете не было никого, в чьи обязанности входила бы помощь Иннокентию Платоновичу Лебедеву, тридцати пяти лет всего от роду, и не было ни одного человека, у которого достало бы милосердия для помощи ему.







