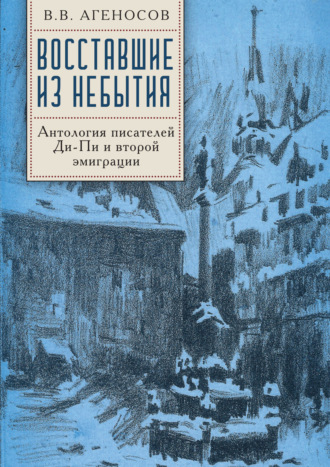
Антология
Восставшие из небытия. Антология писателей Ди-Пи и второй эмиграции.
Трудные дороги
Человек не рожден для поражений.
Его можно убить, но не победить.
Человек побеждает всегда.
«Старик и море». Э. Хэмингуэй
Вступление
Не знаю, как кому, а мне это совершенно необходимо, хотя бы изредка. Иначе, может, и не выдержать. И мне это не трудно: не надо даже особенно настраиваться, внутренне готовиться, наверно потому, что задолго до урочного часа я живу томимым Предчувствием освобождения. Я знаю: оно неминуемо будет. И я одно из утр я просыпаюсь с чувством удивительной легкости. Легко пробуждение, легки несуматошные сборы: вещи сами попадают под руку. Набит вместительный портфель – и довольно, в таком путешествии не нужно обременять себя ничем лишним.
Стакан чаю на дорогу, оглянуться – не забыл ли чего? – и я готов. Вчера и позавчера, все вьющееся вокруг тебя и в тебе каждодневные (ты втиснут в него, как неразличимое колесико в неоглядную машину, сложенную из одних необходимостей, бессмысленно-огромно размахивающую своими маховиками и вертящую тебя в путанном, рассчитано-бестолковом ритме) остается в комнате, как ненужная одежда. К ней еще придется вернуться, это неизбежно, – я и сам не могу не вернуться, – пока пусть повисит за дверью на гвоздике.
Выхожу на непривычную мне улицу раннего утра. Немного свежо. На остановке трамвая поеживаются те, кому на работу. А мне не надо. И то, что не надо, а воздух, еще не испакощенный автомобильной вонью, прозрачен и чист – тоже тонкое и тихое удовольствие. Мне становится весело; я могу даже насвистывать что-нибудь умопомрачительно-нелепое, вроде буги-вуги. Я могу сейчас со всеми примириться и любовно, – мысленно, конечно, – даже всех обнять, вовремя вспомнив, что все люди братья. А глубоко во мне шевелятся чертики. Я подмигиваю сам себе: похоже, я кого-то ловко обвожу вокруг пальца. Будто я от кого-то убежал. Обман еще не состоялся, но дело в полном разгаре и он состоится, я в этом убежден!
На вокзале покупаю билет – кусочек картона, открывающий входы. Жаль, надо называть конечную станцию; было бы еще увлекательнее, если бы ее не знать, на худой конец, утаить. И от самого себя. Такая игра стоит свеч. Но не переступить, случайный партнер в темно-синей форме, за стеклянным оконцем, – разве он может участвовать в этой игре? Я капитулирую, утешаясь, что это меньшее из зол.
Может быть, со стороны, с точки зрения нормы (в чем она?), это смешно, отлает сумасшедшинкой, но я уже в поезде. Иду по вагонам, ищу свободное купе. В голове легкое кружение: могу делать, что хочу, ехать, куда хочу, ходить, где мне нравится, видеть и не видеть людей, уходить от них и от самого себя, отдаваясь тому, что ни к чему не обязывает и, допускаю, никому незачем не нужно. Это-то и хорошо! И не на один, а на много дней! Может, даже до бесконечности: а что, если возьму и не вернусь? И чувство отрешения растет, когда поезд трогается: мосты сожжены, концы отданы…
Закрываю глаза. Пусть отгрохочет на вокзальных стрелках, промелькнут пригороды и дачная смесь, которую я не люблю, ни в городе Богдан, ни в селе Селифан. Поезд вырывается из городской ловушки, – я опускаю окно, с наслаждением высовываю голову.
Ветер дыбит волосы, рвется в легкие. У самого полотна ершится щетка седой травы ночью был мороз. Пробежала деревушка – теневая сторона ее черепичных крыш вымазана белым, с другой иней уже слизало солнце. Солнца не видно, оно у меня за спиной, но я чувствую, какое оно еще горячее, летнее. Черные тени телеграфных столбов прыгают назад и выскакивают навстречу; по откосу без устали мчится густая тень поезда.
Промелькнуло приплюснутое здание, с надписью, во всю стену: «Корнхауз». Я бы предпочел вытянутый в синь неба элеватор, где-нибудь в наших местах. И чтобы вместо этих аккуратных станций проплывали другие, скажем – Алексиково, Аксай, Зимовники. Чего стоит одна музыка слов! И не нужно бы этого пронзительного, такого европейского, поросячье-железного визга тормозов Хорошо бы сидеть не в этой узкой крысоловке, а в нашем просторном вагоне. Покачиваясь, он неторопливо вез бы тебя по нескончаемым степям, пропахшим горечью полыни, ромашки, ковылем. По степям, спешить па которым некуда и незачем: давным-давно ведь сказано, что каждое путешествие, какое бы оно ни было и куда бы ни вело, рано или поздно приходит к концу.
Но я не ворчу. Я доволен обманом. Озорное чувство не оставляет меня. Поезд грохочет. И чувствуя себя частью его, брошенной вперед, я готов крикнуть паровозу:
– Давай, милый, наддай, наддай!
Я в недоумении отхожу от окна. Что случилось? Мне показалось когда-то, очень давно, мне также хотелось высунуться из окна и кричать то же самое. Когда это было и было ли вообще? Это ведь бывает, скажешь слово, сделаешь жест – и на миг тебе покажется, что точно такой же жест ты уже делал однажды, а когда, вспомнить невозможно Ты хорошо знаешь, безошибочным чутьем, что делал этот жест, но у тебя ощущение, будто ты делал его сто, двести, может быть и тысячу лет назад, не в этой даже, а в какой-то другой жизни. Глупость, конечно, но упрямо кажется, что ощущение твое верное, Может, этот жест сделал твой дед, прадед, почем знать? У меня в таких случаях на секунду – тревожное чувство, будто я прикоснулся к неразрешимой тайне.
Ничего таинственного нет. Я вспомнил. Ну, да, после трех лет в тайге конвой привел нас и посадил в арестантский вагон. И когда я забрался в тепло, в тьму верхней полки и через несколько минут почувствовал полет поезда, я опьянел от радости. В коридоре, за решеткой, покачивался штык конвойного – мне не было до него никакого дела. Мысленно я высовывался из окна и кричал паровозу; «Давай, милый, жми, вперед». Тогда я тоже знал мосты сожжены.
Это не плохое воспоминание. Но от него трудно отделаться. Оно тянет за собой нитку, с болтающимися на ней обрывками других воспоминаний, требующими, чтобы их подобрали по порядку, привели к какому-то итогу Как будто можно подвести итог. Я закуриваю, выхожу в коридор.
В купе незаметно, а здесь видишь, как мотает вагон болтается из стороны в сторону длинная коридорная пустота Я качаюсь вместе с ней. Опираюсь на стену. В нос лезет цветной лоскут «Где хотите провести свой отпуск?» Париж, Рим, Неаполь, Афины, Мадрид, Лондон. По лоскуту ползут красные, желтые, синие линии. Одна, черным изломом сверху вниз, что-то напоминает. Я отмахиваюсь от нее. На повороте снова пронзительно завизжали тормоза. Чорт, я отлично помню такой же однажды вывернувший меня на изнанку визг! Полночь, томный коридор, дверь. Перед дверью плотная черная фигура. Я заношу над ней длинный нож – и в уши, в грудь, в сердце ввинчивается этот ни на что не похожий сумасшедший визг… Я таращу глаза, тру лоб, вздыхаю: мне не везет. Я хорошо помню и эту жирную черту, и поросячий визг. Их не забудешь. И не выкинешь из головы, даже сейчас.
С досады швыряю сигарету. Теперь нитка поползет – и скрутит крепче нейлоновой веревки. И с ней ничего не поделаешь. Пока ее не размотаешь, она не даст покоя. Что же получится с моим бегством, как уйду я в свое утлое освобождение? Игра проиграна, обман обнаружился. Впору прыгать в окно, как Подколесину.
Нет, я не сдамся. Я знаю верный способ. Пока поезд идет, у меня есть время. Я лягу сейчас на скамейку, положу под голову портфель, буду курить без передышки – и размотаю эту нитку до конца…
Петр Твердохлеб
Узкая, вытянутая в длину камера. С одной стороны – две койки из жердей, на одной Твердохлеб, напротив я. С другой стороны – нары на несколько человек, там Хвощинский. Посреди камеры круглая печка из куска обсадной трубы. Против нее – запертая снаружи дверь в коридор; в стене щель, вместо окна, на уровне головы.
В уборную и на прогулку выводят, держа наган в руке. За проволокой встает еще один охранник с винтовкой. Нас крепко стерегут – для смерти.
Так надо прожить еще три месяца. Как это томительно долго! И как мало осталось нам жить!..
Сначала Твердохлеб много рассказывал о себе. Неторопливо, по частям, он говорил о своем детстве, о селе, о побегах, о тюрьмах. Части складывались – получалось целое, странное и загадочное, чего до конца, наверно, никогда не понять – получалась жизнь человека.
Твердохлеб не помнил родителей, он вырос в семье дяди. С малых лет пас птицу, потом скотину, подростком работал в поле. Безногий солдат научил его читать, по копеечным книжкам с лубочными картинками. И ему захотелось узнать, откуда взялись слова, почему стол называется столом, а не иначе? Почему возникла странная связь слов, взявшая человека в плен?
Он по-своему догадывался, что от этой связи таинственным образом зависит вся жизнь людей – и хотел разгадать чудо. В селе откуда-то нашелся толстый энциклопедический словарь. Твердохлеб вызубрил его от доски до доски, считая, что если он узнает значение каждого слова, он будет знать все. Но слова были мудреные, непонятные, и знания не получалось, в голове образовалась каша – она еще сильнее будоражила, заставляя думать, искать дальше. Он пошел в церковь, прислуживал священнику, брал у него Евангелие, Библию, читал Жития Святых, – чтение увлекало, но многое оставалось непонятным и, как казалось ему, он не находил того, что ему было нужно. Спрашивал священника – тот оказался невежественным и только оттолкнул мальчика от церкви.
В селе был, как водится, колдун, была и своя ведьма. Твердохлеб долго приглядывался к ним, было жутко, но, может быть, разгадка у них? Он вошел в доверие к колдуну, по его наущению следил за ведьмой, с которой колдун враждовал; подглядывал ночью к ведьме в окно, лез на крышу и смотрел в трубу, ожидая, как ведьма вылетит на помеле. В горшке варил кости черной кошки, нашептывал заклинания; проверяя чудодейственную силу колдуна, сидел ночью на кладбище, ходил на перекресток дорог и бросал в вихри остро отточенный нож – не окрасится ли он кровью бесов, поднявших вихрь? Долго занимала его всякая нежить и нечисть. Ему казалось, что он видел, как уносилась на помеле ведьма к звездам, слышал лешего в лесу, русалок в речке, встававших из могил мертвецов, – обливаясь от страха потом, он упрямо старался разгадать свои видения. Потом словно вдруг прозрел и понял, что никакой нечисти нет и стал зло издеваться над колуном и ведьмой, разоблачая их перед односельчанами.
В пятнадцать лет, по совету нового священника, Твердохлеб пешком отправился в Киев. По дороге в первый раз увидел железную дорогу, на Днепре пароходы, хотя то и другое давно знал по энциклопедическому словарю. После глуши Подолыцины, Киев удивил, но не понравился: еще путанее, непонятнее. Он поступил в духовную семинарию. За год с небольшим в ней Твердохлеб совсем отошел от церкви: преподавание казалось ему сухим, церковные догмы черствыми и связывающими, семинаристы распутными. Живая душа Твердохлеба. не находила в семинарии самого важного, чего он искал: живого проникновения в жизнь, ее разгадки. Он вернулся в село.
Несколько лет заняло упорное желание забыть все, что он узнал в семинарии. Он чувствовал так, что семинарские знания только мешают его непосредственной связи с жизнью. Твердохлеб вернулся к Библии, годами перечитывал ее, одолевая сам и понимая по-своему.
К двадцати пяти годам Твердохлеб нашел себя. Годы напряженного раздумья привели его к тому, что он стал основателем новой секты и ее проповедником. Его учение было просто и понятно крестьянам: надо жить по слову Божию, подчиняясь десяти заповедям. Выше нет закона для человека. Кто нарушит и раскается – к тому надо быть, снисходительным, он такой же брат, как и любой человек. Но к тому, кто не раскаялся и продолжает преступать – надо быть беспощадным. Духом Ветхого Завета веяло от суровой веры Твердохлеба.
Он женился и показывал односельчанам пример нравственной жизни. С женой был строг, но справедлив и человечен, детей своих любил и ласкал, но не баловал, прилежно работал и хорошо вел хозяйство. И Твердохлеб стал духовным вождем и авторитетом для крестьян всей округи. К нему шли слушать проповедь, – он не, поучал, а беседовал с людьми, сидевшими рядом с ним на куче дров или прямо на земле. Твердохлеб задавал вопросы, сам отвечал на них, приводил примеры из жизни своих односельчан. Шли к нему и за советами, был он и крестьянским судьей.
Давно установилась советская власть, но в этой глуши она не мешала крестьянам. Твердохлеб признавал власть, пока она не слишком докучает людям. Налоги надо платить, повинности нести, без этого нельзя, но, повинности не должны быть несправедливыми, очень большими, И все обходилось – пока не началась коллективизация.
Твердохлеб ее не принял. Коллективизация, считал Твердохлеб – против Бога и против человека. К нему валом валили крестьяне – он открыто говорил свое мнение и стал вождем стихийного сопротивления. Он не предлагал убивать присылаемых из города партийцев, разгонять уже собранные в колхозы кучки активистов, противиться хулиганству комсомольцев, но крестьяне партийцев убивали, комсомольцев били, не вступали в колхозы, и власть знала, что во главе крестьянского волнения в районе – Твердохлеб. Его арестовали, увезли в город, там дали десять лет и отправили в концлагерь.
Он принял это прежде всего, как ужасающую несправедливость по отношению лично к нему. Чуть не двадцать лет ему понадобилось, чтобы создать себе веру, как надо жить, он был твердо убежден, что его вера правильна, в ней не было ничего против человека, недаром же он приобрел уважение крестьян. Это внушало ему уважение и к себе. Теперь оказалось, что он будто бы неправ. Ошибка, преступление?
В тюрьмах он узнал о массовых расстрелах, о раскулачивании и высылке миллионов крестьян, увидел тысячи других – невиновных людей. Впервые трагедия раскрылась перед ним не в рамках его села, а в масштабе всей страны. Это его потрясло. Он не любил города и считал, что праведная жизнь может быть только в деревне, на земле, – в нем возникла острая ненависть к городу. Но рядом сидели горожане, они мучились вместе с ним. Честность ума Твердохлеба не позволяла ему обвинять огульно город и горожан, – нет, в этой вакханалии надо разобраться. Откуда она, как не от человека, такого же, как он? И постепенно начала подтачиваться и рушиться его вера в человека, в жизнь, – и в ту веру, которую он создал себе с таким трудом.
В тюрьмах Твердохлеб встретил ученых людей – профессоров, инженеров, политиков. Он осторожно выпытывал их, выспрашивал, потом и спорил, стараясь защитить свою веру. Многие из этих искушённых в диалектике людей, кто насмешливо, кто мягко, но настойчиво, легко клали Твердохлеба на лопатки. Он не соглашался, уже яростно отвергал их неоспоримые доводы, ограждая себя, – а в душе копились сомнения, ей наносились раны, образовывалась пустота. Его поразило, что все может быть относительным, все условным и нет силы, на которой можно встать и утвердиться. Это окончательно рушило, его веру и уважение к человеку. Человек оказался дьяволом, лишающим самого себя основания для унижения. Жизнь – только ад и можно верить лишь в этот ад, созданный неизвестно зачем.
В пересыльном корпусе Бутырок Твердохлеб долго сидел с анархистами, они посвятили его в тайны организации государства и власти и утверждали во мнении, что все зло от них и от них нельзя оставлять камня на камне. Уже не зная, что слушать, Твердохлеб сначала прислушивался к анархистам, потом даже не отверг, а отвернулся, – от этой встречи осталась только уверенность, что все неправедно, все надо отринуть. Но что надо утверждать?..
Дикий, взъерошенный, Твердохлеб был, как в огне. Его съедала ненависть, презрение, отвращение и к себе самому, и ко всем на свете. Не во что было больше верить и ничего не было достойным уважения. В душу вполз разъедающий цинизм, в ней хаос из обрывков мыслей и сжигающих страстей. Кое-как подчиняться внешним установлениям, не имеющим никакой внутренней ценности, чтобы кое-как влачить потерявшую смысл жизнь? Он подчинялся, скрывая в себе клокочущий бунт.
Когда в лагерь пришло злополучное письмо[63], Твердохлеба ничто не могло бы удержать. Два раза он пересек Россию с севера на юг и убил председателя колхоза. Он знал, что председатель – ничтожный винтик, но не мог совладеть с собой. Он убивал, мстя за уничтожение своей веры, уничтожая самого себя, – Твердохлеб не мог жить, ни во что не веря…
В нашей камере он казался мне огнедышащей горой. Укрытый на своей койке бушлатом с головой, он глухо стонал, скрежетал зубами иди шумно, на всю камеру, дышал, будто непрерывно вздыхая. В другой раз я наталкивался на упорный взгляд раскаленных глаз, – он неподвижно смотрел на меня, но меня не видел. Страшно становилось от этого взгляда. Что еще, какие сны и мысли мучают его? Негасимое пламя ест его, заставляет стонать и корчиться, – но не так ли корчится и вся Россия? Не так ли корчится и весь мир?..
А́нстей (наст. фамилия Штейнберг) Ольга Николаевна
(1912–1985) – русская и украинская поэтесса, переводчица, прозаик, критик
В 19 лет окончила Киевский Институт иностранных языков со специализацией в английском и французском языках. Работала машинисткой и переводчицей.
В 1937 году вышла замуж за Ивана Матвеева (будущего поэта Елагина). Вместе с ним покинула в 1943 году оккупированный Киев. Свое неприятие фашистских зверств Анстей выразила в поэме «Кирилловские яры» (1943), проникнутой библейской символикой. Этот был первый поэтический рассказ о трагедии Бабьего Яра, находившегося рядом с Кирилловой церковью.
В 1946-м супруги оказалась в лагере Шлейсгейм, где велась довольно активная литературная жизнь: издавались на ротаторе журналы, приезжали с лекциями жившие в Германии писатели послеоктябрьской эмиграции Ирина Сабурова, Нонна Белавина, Юрий Иваск, навещали Матвеевых Борис Нарциссов и Борис Филиппов. Жизнь в мюнхенском лагере Ди-Пи нашла отражение в ряде стихотворений Анстей. Не напечатавшая на родине ни одного стихотворения, Анстей начинает с 1946 года активно печатать свои стихи, рассказы, статьи, рецензии в эмигрантских журналах. Ее имя значится в знаменитом сборнике поэтов-«дипийцев» «Стихи» (Мюнхен, 1947), высоко оцененном поэтами первой волны. В Мюнхене же в 1949 г. вышла ее книга «Дверь в стене», включивший 34 стихотворения 1930–1948 гг. Хорошая знакомая поэтессы Татьяна Фесенко считает, что стеной был неприемлемый для Анстей немецкий и лагерный быт, а дверью – поэзия и любовь.
Еще в лагере Ольга Николаевна влюбилась в поэта князя Николая Всеволодовича Кудашева. Любовь эта не была счастливой и ассоциировалась самой поэтессой с фёном – юго-западным ветром, вызывающий болезненные ощущения и даже помешательство. Но чувства поэтессы «свеченье женское» воплотились в целом ряде замечательных стихотворений («Сон пугает сказкой былой…», «На тебя доказчиков немало…», «Я примирилась в сущности с судьбой»), проникнутых и страстным чувством прыгнуть в омут любви, «как с бревна купальни в пруду»; и болью («в разлуке леденею»); и страхом за судьбу любимого. «Любовь не судит – любит», – смиренно утверждает поэтесса.

Переехав в 1949 году в США вместе с мужем (так того требовали правила американской эмиграции), Ольга Николаевна настояла на разводе.
Не принес счастья и второй брак (1951) с прозаиком, поэтом и литературоведом Борисом Филипповым. Расставанию через год после бракосочетания способствовало и то, что Анстей любила Нью-Йорк, где у нее была интересная работа переводчицей в ООН, а Филиппов должен был жить Вашингтоне.
Правда, не прекращались дружеские отношения с Елагиным. Этому способствовало и общее горе потери первой дочери (глубоко верующая поэтесса посвятила девочке стихотворение «На юру»), и забота о талантливой, но очень непростой второй дочери Елене, родившейся в берлинском бомбоубежище в 1945 году. Более того, О. Анстей сблизилась с новой семьей Елагина, подружилась с его женой Ириной Даннгейзер. «Неизжитая материнская сила» воплотилась в ее любви к их сыну Сергею, которому посвящено стихотворение «Сыну названному». Тесная дружба связывала поэтессу с другой одинокой женщиной – тонким лириком и прозаиком Лидией Алексеевой, хотя и относившейся к первой эмиграции, но прошедшей все испытания, выпавшие на долю ди-пийцев.
Критика дружно отмечала, что переносить тяжести жизни, гармонизировать, «переплавлять», подобно тому, как это делал ее любимый персонаж Б. Пастернака доктор Живаго, в прекрасное и вечное поэтессе помогала глубокая религиозность. Анстей была не только верующим человеком, но и воцерковленным: псаломщицей Свято-Серафимовского храма в Си-Клиффе (штат Нью-Йорк). «Безбольной радости на этом свете нет». «Этот мир, как трудные роды / Убивает и жить велит». И все «мы в руках Живого Бога», – писала она в стихотворении «Ночью». Целый цикл ее стихов назывался «Паперть». Ряд произведений посвящен церковным праздникам. Особенно любит она Пасху. При этом библейские образы поэтесса связывала с родным ей Киевом. Днепр у нее – святой, река Вавилонская; а столица Украины – «многохолмный наш Сион». Говоря о Риме или Афинах, писательница неожиданно завершает стихотворение словами о «печальном русском снеге». Анстей любит фольклорные образы, примером чему являются стихотворения «Обет», «Полынок (заклинание)». Впрочем, целый ряд ее поизведений включает в себя персонажи античной мифологии.
В последние годы жизни Ольга Николаевна дважды (в 1965 и 1971) посетила Киев и с радостью отметила, что «открывает уста страна моя». И тут же – очередной евангельский образ: «поднялась гробовая плита».
Нет, наверное, ни одного поэта, который бы не задумался о своем отношении к литературе, к слову. Анстей – не исключение. Целый цикл ее стихов близок своим названием к циклу М. Цветаевой: у Цветаевой – «Стихи о столе», у Анстей – «Стол у окна». Автор говорит о «Божьих дарах» поэта, о «сердце, хлопающем веселым сквозняком», когда создаются стихи. Поэзию она считает и искусством, и мастерством, требующим полной самоотдачи:
Пока не свалят на покой,
Пока рукой к перу тянуся,
В высокой верности клянуся
И ремеслу и мастерской.
(Клянусь нахмуренной водой…)
Поэт, по Анстей, – бог на «празднике, на званом пиру», ему «никто не страшен», но вечен только русский язык, который и после ухода поэта с пира, «бушует дале».
Высшим образцом мастерства и искренности Анстей считала Б. Пастернака. Еще в 1951 году она написала статью «Мысли о Пастернаке». В 1960 – «Новый Пастернак». Пастернаку посвящены стихотворения «Выходной день», «Именины», «Твои похороны». Анстей принадлежат статьи-эссе «Златоустая Анна всея Руси», «Сама по себе: О поэте Лидии Алексеевой», «Мастер и Они: О стихах Бориса Нарциссова» Новый Журнал. 1983.? 151
В 1976 году в Питтсбурге вышел второй и последний сборник поэтессы – «На юру», включивший в себя 66 стихотворений, в том числе несколько старых, из предыдущего сборника.
В дальнейшем стихи Анстей продолжали печататься в «Новом Журнале» и в альманахе «Встречи» (Филадельфия). Два рассказа О. Анстей «Фонарик» и «Утром» опубликованы в 126 номере «Нового журнала» (1977).
Перу Анстей принадлежит несколько стихотворений на украинском языке, в том числе переводы ее русских стихов. Блестящий знаток английского языка, она перевела повесть Стефана Винсента Бенэ «Дьявол и Даниэль Вебстер» (Нью-Йорк, 1960). Известны ее переводы прозы и поэзии А. Теннисона (1809–1892), P. М. Рильке (1875–1926), Г.К. Честертона (1874–1936), Д. Уолтера Де Ла Мара (1873–1956) драматурга Д. Хаусмана (1902–1988). Это свидетельствует о широком круге интересов писательницы.
Умерла Ольга Николаевна Анстей 30 мая 1985 г. в Нью-Йорке.
Архив писательницы погиб.
Сочинения
Дверь в стене: Стихи. – Мюнхен, 1949.
На юру: Стихи. – Питтсбург, 1976.
Алексеева Л., Анстей О., Синкевич В. Поэтессы русского зарубежья. – М.:
Сов. Спорт, 1998
Публикации
Бабье лето //Грани. 1946. № 2.
«Было утро первозданных теней…» //НЖ. 1952. № 28.
Душная ночь в Манхеттене //НЖ. 1970. № 101.
Златоустам Анна всея Руси //НЖ. 1977. № 127.
Карнавал //Возр. 1951. № 17.
Колодец Дианы в Мюнхене //НЖ. 1949. № 22.
Лесные глаза //Грани. 1954, 23.
Моей девочке //НЖ. 1970. № 101.
Мысли о Пастернаке //Лит. совр. 1951. № 2.
На юру //Конт. 1977. № И.
Новый Пастернак //Грани. 1960. № 45.
Оно//НЖ. 1952. № 28.
«Открывает уста моя страна…» //НЖ. 1981. № 142.
Отрывок //Грани. 1959. № 41.
Песня о песне //Лит. совр. 1954.
Полынок //НЖ. 1970. № 101.
Пушкин и общемировая культура //Лит. совр. 1954.
Рассказы //НЖ. 1977. № 126.
Сама по себе. О поэте Л. Алексеевой //НЖ. 1980. № 141.
Сказки. (Посвящается А.М. Ремизову) //Возр. 1957. № 66.
Стихи //НЖ. 1957. № 48; 1971. № 103; 1974. № 117; 1975. № 119; 1977. № 126, 128; 1979. № 137.
Стихи // Встречи. 1977, 1979, 1983, 1986, 1990,2000.
Стихи //Мосты. 1959. № 2.
Стихи //Грани. 1951. № 14; 1954. № 21; 1958. № 37; 1959. № 44; 1976. № 100.
Стихотворение//Опыты, 1953. № 2.
Три стихотворения //НЖ. 1962. № 70.
Три стихотворения //Мосты. 1958. № 1.
Четыре стихотворения //НЖ. 1960. № 62.
Это //Лит. совр. 1951. № 1.


